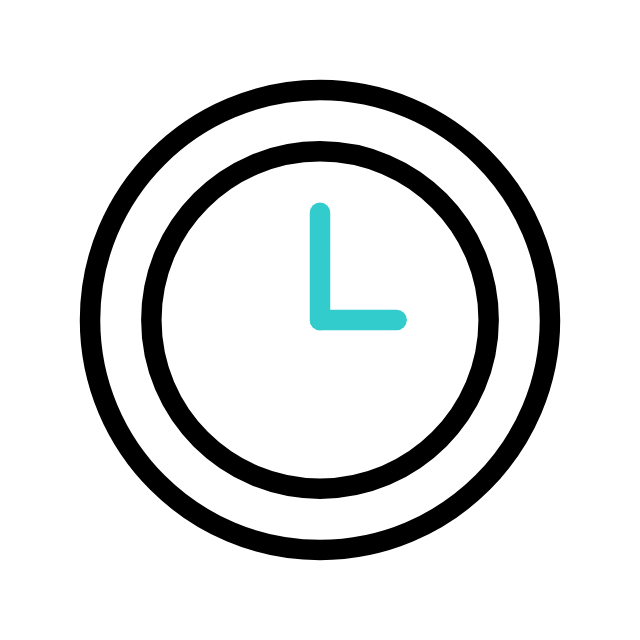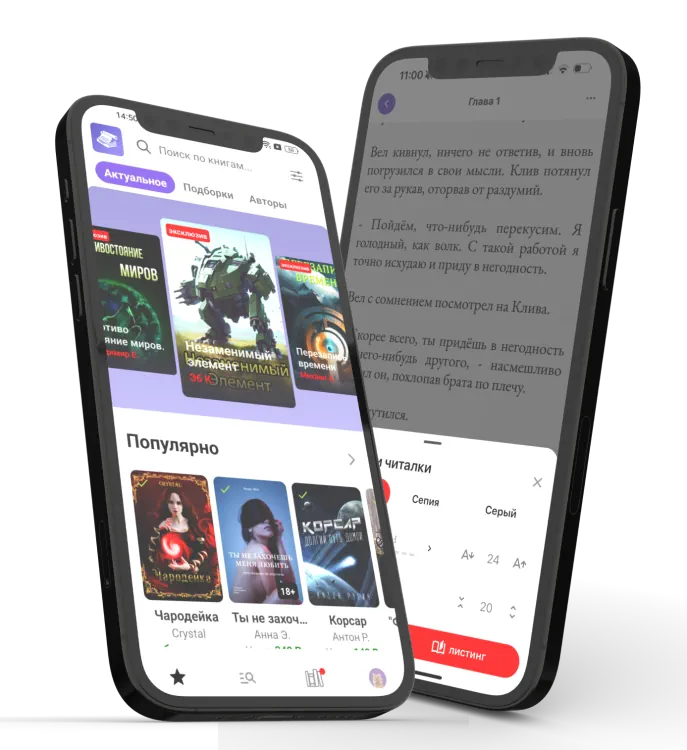Читать онлайн
"Плюс-минус бесконечность"
Плюс-минус бесконечность
...аще кто не родится водою и Духом,
не может внити во Царствие Божие.
Иоанн, 3.3
Опоздала твоя ловитва...
А. Маничев
Глава I
Придет вода…
Прямо в день переезда на дачу приключилось досадное недоразумение: вода подкралась совсем незаметно – и отрезала его плоский камень от берега. Илья очнулся, только когда небольшая случайная волна тяжело плеснула прямо у него под ногами – он инстинктивно подпрыгнул, едва не опрокинув шаткий этюдник, огляделся и присвистнул: берег залива оказался теперь не менее чем в пяти метрах! Сам же горе-художник стоял, словно на мокрой спине заснувшего кита, и вокруг закипала липкая, как на кружке с пивом, желтоватая пена… Винить было некого – сам увлекся первым летним этюдом, изображая поманившую классическими красками вечернюю зарю над большой водой, – а закатное солнце, зависшее над недалеким Кронштадтом, напомнило вдруг его любимый елочный шар, гладкий, золотисто-оранжеватый, который Илья сам всегда ревниво вешал на елку, выбирая ему почетное место… Ну, и не удалась сложная растушевка – слабое его место – переусердствовал с оранжевым кадмием, лихорадочно перебеливал, боясь упустить неповторимую игру света на воде и небе; упустил, конечно, дописывал по свежей памяти, злясь на себя, – оттого еще и пропорции нарушил: угрожающе огромной и черной вышла эта странная широкая башня со срезанной верхушкой, – или что там, церковь, что ли, бывшая у них прямо в центре острова… Не съездишь, не проверишь: Кронштадт – город закрытый… В общем, холст запорол, предстояло его перегрунтовывать и писать поверх, а уж красок сколько извел…
Юноша наскоро складывал этюдник, стоя уже по щиколотку в воде, полный неприятного предощущения обратной дороги в мокрых кедах… Или босиком пойти? Ага, там на дороге острый гравий, а подошвы ног, за зиму барственно облагородившиеся, порозовевшие, загрубеют еще нескоро… На берегу пискляво хихикали две девчонки-малолетки – одна городская, белая, хорошо кормленная и причесанная, другая местная, с неровными бледными лохмами, уже прихваченная неистребимым загородным загаром и обляпанная некрасивыми сероватыми веснушками – будто кто-то взял, да и тряхнул ей в лицо грязной кухонной тряпкой. Холеная, залюбленная родителями дачница и периодически для порядку побиваемая отцом с матерью хозяйская дочь – дружба их продлится ровно до тридцатого августа… Видели ведь, подлые, как подходит коварный прилив, могли бы и крикнуть… Закинув этюдник на плечо, Илья с размаху шагнул в воду, решив, что пуганет их как следует, лишь только выберется на твердое, – но позорно увяз обеими ногами в густой темно-зеленой тине, которой тут два часа назад и в помине не было! Пока выпутывался, сделал неловкое движение – этюдник предательски соскользнул с плеча и шлепнулся в воду. Школьницы уже откровенно корчились на песке от смеха в нескольких шагах от страдальца, ужасные и недосягаемые, – и он уже не представлял, как сейчас грозно замахнется на них этюдником, заставив нахалок с визгом умчаться, а боялся, как бы они не заметили отчаянные слезы унижения, так и брызнувшие у него из глаз, и сами бы не заплакали – от жестокого хохота…
Илья подошел к своей калитке в молочно-серебристых сумерках, предшествовавших молодой еще, не созревшей к началу июня до полноценной матовой жемчужности белой ночи. Нестриженые кусты сирени за забором были сплошь покрыты гигантскими фиолетовыми гроздьями, свисали на улицу, перли наружу поверх плотно пригнанных досок, словно чудовищный черничный пирог уходил из формы, и казалось, готовы были сломать преграду, вырваться, затопить собой все вокруг… Он пригнул к себе первую попавшуюся ветвь и зарылся туда лицом, почти со сладострастной жадностью вдыхая густой, жирный и приторный дух… Рот наполнился слюной, и отчетливо наметилась эрекция. Она теперь стала подкарауливать везде, возникала на ровном месте, и толчком могло послужить что угодно – даже такое невинное занятие, как вдыхание аромата цветов… Аввакум в таких случаях зажигал три свечи и держал на них голую ладонь до тех пор, пока страсть не унималась. Илья тоже однажды попробовал, решив, правда, что на первый раз и одной свечки хватит, – и сразу взвыл – коротко, но таким дурным голосом, что мама, кормившая ночью маленького Кимку, прибежала прямо с ним на руках, одной рукой кое-как ухватив младенца, а другой сжимая промокший халат на груди. Экстремальный метод, правда, незамедлительно оказал желаемое действие, но воспользоваться им вторично отрок так больше и не решился… Он отбросил ветку и перевел дыхание. Ночь отрезвляюще грянула соловьиными любовными излияниями, ранее не замечаемыми, сходившими за род тишины. В мокрых кедах хлюпала балтийская вода, холодные влажные брюки из парусины липли к тощим напряженным голеням…
Юноша распахнул калитку и пошел садом по растрескавшейся мощеной дорожке – туда, где за колючей громадой шиповниковой стены мирно горела ярко-голубым длинная кружевная веранда, затянутая старым, но изрядно отведавшим синьки тюлем. Смутно доносился глуховатый рокот мужского голоса, уютный женский курлык, детское умиротворенное лопотанье… Отчим дядя Володя, мама и двухлетний братец Кимка, отоспавшийся днем в саду под марлевым пологом, отчего и в полночь излучавший здоровую энергию, отужинав, тихонько возились на веранде. Ну, а шестилетняя сестренка Анжелочка, братнина любимица, находилась в том возрасте, когда ребенка уже можно уложить спать насильно, – мама и уложила ее, как всегда, в восемь, с педагогически строгим лицом отвергнув дочкино нытье. Илья вспомнил мимоходом, что ему-то в совсем детские его годы, летом позволялось бодрствовать на час, а то и на два дольше, чем зимой, – но ведь он долго был у родителей единственным, ему исполнилось уже девять, когда родилась сестра. А потом отец неожиданно бросил семью – просто собрал вещи и ушел к другой женщине – и маме, сразу приобретшей разительное сходство с зайчихой-подранком, стало вообще не до указаний, когда сыну спать ложиться… А тот и не ложился: сидел над альбомом рисования и ждал папу, в полной уверенности и с искренним убеждением – ведь тот так твердо и нежно, с оттенком суровой мужской без вины виноватости, сказал при прощании: я с мамой расхожусь, а не с тобой; ты мне как был сыном, так навсегда и останешься. И не пришел вообще никогда. Ни разу. Через четыре года Илья сжег тот альбом дома в унитазе коммунальной квартиры. Отрывал по нескольку листов, комкал на совесть и подносил спичку… Мужчина и мальчик ловили зеленую губастую рыбу, плыли на сером корабле под красным флагом, стояли на сиреневом снегу и смотрели в небо, где летел маленький и гордый шарик-спутник о трех лучах, на совесть выписанный серебрянкой; статный преподаватель рабочей изостудии, из удалых и серьезных фронтовиков, похлопывал ученика по плечу и обещал, что из того выйдет толк. В уборной летали черные хлопья обугленной бумаги, из-под двери валил горький дым, воняло гарью, и соседи грозились вызвать милицию…
Этот замечательный каменный дом с кое-где осыпающейся штукатуркой и запущенным, но самостоятельно и обильно плодоносящим садом был построен еще до войны и принадлежал дяде Володе, перейдя к нему от его собственного отца, профессора неких непроизносимых наук, – и они проводили уже второе лето здесь, в сорока километрах от Ленинграда, на берегу чистого и теплого залива, иногда, при ярком солнце, иссиня-виридонового, но чаще все-таки цвета старого серебра с переходом в индиго ближе к горизонту. В этом году, отвратительно переболев поздней весной инфекционным гепатитом, Илья неожиданно получил будто щедро выданную кем-то добрым компенсацию за мужественно перенесенные в Боткинских бараках некрасивые муки: болящего вдруг освободили от выпускных экзаменов за неполную среднюю школу, что и позволило ему теперь с некоторым злорадством вспоминать о навеки покинутых одноклассниках, вынужденных париться сейчас в городе, трепеща от самых неприятных ожиданий. А он через две недели просто приедет за свидетельством и – да, уже есть такая договоренность! – заберет свои документы из опротивевшей школы, где будущие работяги с презрительной завистью прозвали его Мазилой, и будет принят в уважаемую сто девяностую, откуда прямая дорога в высшее художественное училище имени Мухиной…
- Опять? – стальным голосом сказала мама и подняла глаза от пяльцев, где на тугом полотняном круге успели за вечер расцвести четыре ультрамариновых колокольчика.
Илья раньше не задумывался – красивая ли его мама, и только в последние пару лет как-то вдруг осознал, что нет, не очень: умытая и одетая в халат, она выглядела… Никак не выглядела. Ну, может быть, напоминала зимнюю белку: такая же серая, с маленькими темными глазками и мелкими зубками грызуна; в довершение сходства она и орехи могла бесконечно щелкать. Маму звали Анной, ей исполнилось тридцать пять – весьма зрелый, по мнению сына, возраст – родив троих детей, она не то что растолстела, а благостно округлилась с головы до ног, и, зная о своей природной невидности, практически никогда не являла себя людям в первозданном виде. Вот и теперь, поздним летним вечером в старом загородном доме, в кругу семьи, она тоже не позволяла себе никакой затрапезности: в ее высоко взбитых волосах алела шелковая лента, глаза и губы были умело и тщательно подведены, а платье, хотя и дачное, ситцевое, радовало глаз ярким желто-черным узором. Создавалось впечатление, что женщина пришла в гости и непонятно почему схватила чужое вышивание…
- Опять? – еще строже повторила она.
Только на первый взгляд казалось, что на такой вопрос она не имеет права, – ведь это впервые ее старшее дитя пришло домой мокрое по колено. Но мать и сын прекрасно друг друга поняли: сырые позеленевшие брюки прекрасно вставали в один ряд и с ожогом ладони, который долго гнил и мок перед тем, как затянуться, и с месяцем, непреклонно проведенным Ильей на черном хлебе и воде, что повлекло за собой тяжелый обморок на уроке физкультуры, и с ужасным прошлогодним его заплывом далеко в залив, почти к фарватеру, когда только случайно подвернувшаяся моторная лодка, управляемая рыбаком-любителем, спасла подростка от неминуемого утопления, и доставила на берег – посиневшего, трясущегося, покрытого крупными частыми пупырьями от переохлаждения… Сын скупо объяснял ужасавшейся матери, что «работает над собой», мечтая полностью победить страх, выковать себе железную силу воли, искоренить малодушные порывы и само норовистое тело подчинить будущему несокрушимому характеру. Понимал ли он, что может утонуть, когда суровым кролем греб перпендикулярно берегу, держа курс на едва видимую на горизонте в хорошую погоду белую полосу Сестрорецка, – комкая мокрый платок, спрашивала мама возвращенного к жизни беспечного пловца. Илья честно отвечал, что да – не дурак же он – но сознательно хотел пересечь некую «точку принятия решения» – чтобы иметь право самому себе гордо сказать впоследствии, что не сдрейфил. «Когда – впоследствии?! – не выдержал и гаркнул обычно осторожный с «не своими» детьми отчим, глядя, как его жена напрасно пытается унять нервные слезы. – И где, по-твоему?!! На дне морском?!!». Мальчишка часто заморгал: о таких подробностях он не подумал, находясь еще в том возрасте, когда смерть – настоящую, безвозвратную, беспросветную – на себя еще не примеряют. Примеряют – воображаемые обстоятельства смерти (а именно – героические, достойные всяческого подражания), то есть – жизнь…
- Нет, мама, это я случайно… Прилива не заметил, когда на камне этюд писал, – безошибочно ответил сразу на весь ее мгновенный внутренний монолог Илья. – Ой, а что это с котом, а?
Заметив вошедшего на веранду Любимого Хозяина, с низкой тахты сполз их большой гладкошерстный Барс – действительно такового в лучшие свои дни напоминавший: густо-коричневого леопардового окраса, с белоснежной грудью и при богатых выразительных усах. Но сейчас он выглядел жалко и страшно, словно смертельно раненый боец, своими силами пытающийся убраться с поля своего последнего боя. Еще днем переливчато-атласная шкура стала вдруг похожа на старую линялую кацавейку, обычно благодушная морда имела вид трагический и удивленный. Кот еле нес себя к оторопевшему Илье, едва переставляя еще сегодня утром мощные широкие лапы и волоча поникший растрепанный хвост.
- Барсик, ты чего это?!! – в ужасе кинулся к нему юноша, и кот беспомощно ткнулся мокрой мордой ему в ладонь. – Он же заболел! С ним что-то случилось! Есть тут где-то ветеринар?! Мама!!! Дядя Володя!!!
- Ты бы, может, грязные кеды сначала снял?! Я с самого утра тут мыла-скребла, только сейчас присела! – отозвалась мать.
- Труд домохозяйки не всегда заметен, но это не значит, что его можно не уважать, – спокойно поддержал отчим, на ходу понижая голос, потому что неугомонный Кимка у него на коленях как раз было притих, намереваясь уютно приступить к засыпанию в отцовских руках. – И незачем так орать, когда брат спать хочет.
- У нас Барсик умирает!!! Вы что – не видите?!! – отчаянным шепотом взвыл Илья. – Надо что-то делать!
Именно в эту секунду он с ужасающей ясностью понял, что кот действительно умирает и, более того, не умер до сих пор лишь потому, что ждал хозяина, чтобы проститься: животное даже силилось замурчать из последних сил, но мешали какие-то неостановимые внутренние спазмы. Рядом случилась кошачья мисочка с водой, паренек сунул ее Барсику – благодарно глянув, тот принялся хрипло лакать…
- Мамочка… – совсем по-детски воззвал Илья, оглушенный своим таким внезапным несчастьем. – Сделай что-нибудь!
Анна подняла глаза:
- А что я могу поделать? Он, наверно, съел что-то… Не спросишь ведь… Пройдет… Молока вон налей ему… – и она, как ни в чем не бывало, перекусила шелковую нитку и принялась обозревать законченный цветок.
- Отлежи-ится, куда-а денется… – протянул дядя Володя, не отрывая умиленного взгляда от засыпавшего у него на плече ребенка.
- Барсенька, котик мой… – стоя на коленях перед упавшим на бок любимцем, бормотал мальчик, совершенно забывший в те минуты и о своем гипотетическом железном характере, и о необходимости сурово тренировать непокорную волю. – Миленький, подожди! Я сейчас что-нибудь…
Он не представлял, что может сделать спасительного, но ничего уже не потребовалось: по только что бурно вздымавшемуся и опадавшему боку животного прошла быстрая судорога, и кот застыл; глаза медленно стекленели. Несколько мгновений Илья страстно боролся с одолевавшими слезами, потерпел поражение – и бросился по голосистой деревянной лестнице наверх, двумя руками зажимая рот и нос, чтобы позорно не завыть на весь дом.
Ни, мама, ни, тем более, отчим, не знали и знать не могли, что удивительная, не мальчишечья нежность к животным нежданно-негаданно сблизила Илью – безо всяких затруднений напрямик сквозь три века – с неким основательно подзабытым в новое время историческим персонажем, и менее подходящий пример для подражания даже придумать было сложно. Позапрошлой весной, в поисках старинного цейсовского бинокля, невесть куда запропастившегося, подросток сунулся в нижний ящик семейного страховидного комода, периодически выдававшего вещи самые неожиданные и порой пугающие – например, шелковый, невероятно красивый и даже неуловимо душистый бабушкин корсет, поразивший внука не столько своими сверхмалыми размерами, сколько былой принадлежностью необъятной, изжелта-седой косматой старухе в многослойных бурых одеждах. Получалось, что она когда-то – страшно сказать, еще при царе! – тоже была юной девушкой, разбивавшей сердца, как зеленоглазая Людка Васильева у них в классе; и даже еще страннее получалось – что лет через пятьдесят (это когда же? в две тысячи каком-то году, при коммунизме уже, вот когда!) Людка тоже превратится в морщинистую и бородавчатую жабу с жутко белыми вставными зубами меж холодных фиолетовых губ… и никакой коммунизм не поможет. Еще комод расщедрился на армейский (жаль, не морской, со змейкой) кортик с рукоятью из треснувшей слоновой кости, стопку журналов «Работница» за 1928 год («Врешь, бабушка, Бога нет!» – бойкая плотная девушка в полосатой футболке со шнуровкой и в красной косынке замахивается агитационной брошюрой на обреченно притихшую старушку в неизменном платке) и напоследок – толстенную, страниц навскидку около тысячи, черную книгу с витиеватым золотым тиснением: «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения».
Воспитанный на героике новейших времен, Илья бы таким книжным монстром, давно утратившим актуальность, не впечатлился, если б не таинственный старый алфавит «с ятями», всегда необъяснимым образом притягивавший его. Возникало чувство странной нереальности, будто при соприкосновении с древними письменами на исчезнувших языках, – и в то же время загадочно близкими казались насильственно изгнанные буквы. Раскрыв книгу наугад, Илья только полстраницы спотыкался о конечные твердые знаки и неожиданные «"и" с точкой», казавшиеся иностранными туристами, заблудившимися в толпе на первомайской демонстрации, но вскоре и сам не заметил, что читает абзац за абзацем так же легко, как и в любой современной книге… С Аввакумом он не расставался около полутора лет, потому что с первого же прочитанного эпизода самым невероятным образом почувствовал, что каждый душевный порыв этого заживо сожженного триста лет назад отталкивающего человека, непонятного почти никому из современников (горстка полубезумных почитательниц в счет не шла), до смешного идеально ложится на сердце ему – обычному питерскому школьнику, ученику рабочей изостудии… А начал он, по воле случая, с того места, где рассказывалось, как несчастный протопоп, в очередной раз избитый до полусмерти, так что многострадальная, и без того вся в рубцах спина уж гнила у него, мог только лежать на животе в Братском остроге на Ангаре – и пролежал так всю зиму на соломе, да без теплой одежды, а утешение имел лишь одно: бездомную шелудивую собачку, что приходила ежедневно поглядеть на мученика через щелочку в дощатой стене. А люди – те стороной обходили… И почему-то потрясла мальчишку именно собачка. Какая она была – беленькая, черненькая, пятнистая? Большая, маленькая? Наверно, маленькая, иначе он написал бы «пес»… Там вокруг столько людей шлялось – и все давно умерли, не оставив в этой жизни ни следа, а о дворовой собачке, достоверно существовавшей в Сибири три столетия назад, можно прочитать в умном толстом фолианте, наполненном сверх меры человеческим горем… Несколько дней он думал о ней, застывая со стеклянным взглядом даже над утренним стаканом чая, чем вызвал однажды добродушный вопрос отчима из-за свежей «Правды»: «О чем задумался, детина?». Илья вздрогнул и пожал плечами, хотя его так и подмывало ответить с полной честностью: «О собаке, которая в семнадцатом веке приходила проведать протопопа Аввакума в остроге» – и посмотреть, какое выражение лица появится в этот момент у добрейшего дяди Володи… Он ничего не сказал не из боязни непредсказуемой реакции, а просто ощутив вдруг, что сами мысли о скандальном попе и обо всем, что с ним связано, каким-то образом возвышают его внутренний строй, не позволяя размениваться на такие мелкие чувства, как наслаждение возможным идиотским видом хорошего человека.
Домашний Барсик именно с тех дней перестал быть для своего младшего хозяина просто толстым ласковым котом с плюшевыми лапами, а превратился в таинственную дружественную личность, словно вышедшую из другой системы координат; мальчик с трепетом познавал заново его, казалось бы, незатейливый мир, ужасаясь драматической зауженности котовьего сознания, ничуть не противоречившей всеобъемлющему чутью, недоступному мнимо высшим существам, уверенно попирающим землю двумя ногами. Нелепая скоропостижная смерть любимца потрясла его больше, чем это обычно позволительно допускать среди людей: мама сочла нужным сделать сыну замечание – это, мол, всего лишь кот, возьмем другого, когда вернемся в город, а отчим даже беззлобно подтрунивал – почти тактично, не желая ощутимо ранить: нарисуй, дескать, какой памятник на могилку ставить будем… Поначалу Илья несколько раз вспыхивал, защищая святость своей утраты, но скоро осознал, что служит для взрослых забавой, и притих, ревниво пряча непонятную другим тоску и все глубже ощущая пропасть, неумолимо разверзавшуюся между ним и миром…
Да, и он был замешан на той же закваске, что когда-то добавили в тесто, круто лепя гордого, смешного, неудобного Аввакума: так же упорен, вспыльчив и самолюбив, так же строго нежен и беззащитен, так же готов стоять до конца в еще не обретенной, но на ощупь жадно разыскиваемой истине – потом, когда выстрадает ее и в ней утвердится…
Теперь, почти год спустя, стремительно взрослеющий Илья понимал уже, насколько наивными были его полудетские попытки самосовершенствования, вроде голодовок, самоистязаний и рискованных выходок, потому что за каждой как увенчавшейся успехом, так и потерпевшей крах попыткой неизбежно вставал роковой вопрос: зачем? Ну, добьется он способности не выть от намеренно причиняемой себе боли (хотя не вскрикнуть от неожиданной, вроде молотка по пальцу, как было невозможно, так навсегда и останется), подорвет здоровье изнурительными тренировками и недостаточным питанием – и что? Как мир сделается от этого лучше? А для него самого – станет ли это ступенькой вверх, и если да, то где та вершина, к которой ведет его воображаемая лестница? Мятежный протопоп знал, за что страдает и пропадает, да и саму погибель призывал с радостью и, пожалуй, – да, достиг своего вожделенного бессмертия, если и через триста лет… А с какой радости изводить себя ему, советскому парню Илюхе Грачеву, уже не понаслышке знакомому с мучительным восторгом творчества, мечтающему о судьбе известного художника, чьи картины заставят когда-нибудь вздрогнуть сотни сердец? Но, хотя милый Георгий Юлианович (в детстве Илья мысленно запинался, произнося отчество своего славного педагога, воображая, что оно образовано от имени матери, а не отца, которого, наверно, не было, но потом, узнав про Юлия Цезаря, успокоился) задал на лето фантазийную работу в любой технике на тему «Мой любимый герой, как я его вижу», подразумевая при этом, конечно, павших на минувшей войне или, на худой конец, Павку Корчагина, – студиец-бунтарь Грачев все набрасывал и набрасывал в альбоме совсем иной, пробившийся через толщу веков образ. Интуитивно он знал, что Юлич, как любовно прозвали учителя чуткие ученики, поймет, причем, даже не обязательно трактовать ему Аввакума как раннего революционера… Сначала он хотел в своей работе (уже знал, что замахнется сразу на масло!) возвести вдохновенного старовера прямиком на его смертный костер, но со смертью Барсика в душе что-то странным образом как бы оттаяло и слегка повернулось, а мысли, описав круг, закономерно возвратились к собачке, которая была, наверное, все-таки беленькая. С серым пятнышком на крутом лбу. Вот так. А гнилую солому – охрой…
Илья пока разрабатывал эскиз детской акварелью на ватмане, прикнопив лист на чей-то удачно сохранившийся на даче с незапамятных времен добротный кульман, – и тоже вся акварельная в пыльных лучах закатного солнца, ничуть не мешая творцу, благоговейно следила за его работой шестилетняя сестренка Анжела, уже знавшая от бабушки, что ее имя происходит от ангелов, и очень на них похожая общей светловидностью облика. Бледное, типично ленинградское личико с чертами, обещающими вскоре обрести чарующую тонкость; теплые волосы цвета первого пуха цыпленка, умные сизоватые глаза, казалось, еще не совсем забывшие что-то важное; старое, списанное «на дачу» платьице белого шитья… «Ангел, а не ребенок!» – непроизвольно восклицал каждый, увидевший девочку, даже еще не зная, как ее зовут. Анжела теперь часто поднималась в комнату брата на второй этаж и, тихонько поскребя дверь, что означало у нее постучаться, входила, с порога сообщая: «Я тихонечко», – и слово свое железно держала. Любого взрослого Илья выставил бы на раз-два, не вынося неизбежно оценивающего взгляда через плечо, но сестренка уже через пару минут переставала ощущаться чем-то инородным за спиной – может быть из-за того, что взгляд ее еще не умел смотреть с критическим прищуром, и все, рождаемое братниной кистью, виделось ей совершенным, как и положено любому творению Старшего Брата. Она оказалась единственным человеком, так просто сказавшим ему недавно в его тщательно скрываемую печаль: «Мне так нашего котеньку жалко…» – и совсем не мужественная соленая волна поднялась у него в душе, так что пришлось грубовато похлопать малышку по загривку и покровительственно пробормотать: «Ну-ну… Ты давай – это… Не маленькая уже». Хотя маленькая была – очень, и в школу только через год. Да и он в тот момент – тоже…
По вечерам Илья неизменно и почти остервенело трудился над образом Аввакума – работа шла трудно и сбивчиво, все время тянуло поддаться соблазну и выставить на первый план такими очевидными казавшиеся его черты, как безоглядный фанатизм и презрительная гордость, но как же хотелось уйти от этой поверхностности! Так много всего мечталось вместить – и ранимость его, и смущенность, и сомнения – а не слушалась неопытная, почти отроческая еще рука! Или просто не хватало собственной глубины и хорошей понятливости… Не по силам оказывалась добровольно взваленная на себя задача, когда вновь и вновь с очередного ватмана смотрели глаза косматого безумца, а не отважного ниспровергателя! Однажды, сорвав очередной испорченный лист с заляпанного кульмана, Илья даже в отчаянье сломал две хорошие беличьи кисти и пообещал себе бросить дурацкую затею с давно помершим сомнительным попом – хорошенькую темку выбрал себе, особенно сейчас, когда последний из них будет скоро показан по телевизору, – во всяком случае, так уверенно обещал Хрущев. Да – и люди будут смотреть на этого последнего священника – жалкого, смешного, с какой-нибудь ощипанной бороденкой, – и удивляться: как он может верить в такую чушь? Илья подобрал с пола свой погубленный ватман, расправил, вгляделся: примерно такого покажут? Ведь если он будет последний, – то значит, несломленный, готовый взойти на костер, как этот протопоп, потому что стоять перед камерой последним священником – это тоже костер, и это тоже История… Он вдруг подумал: увидев такого Последнего, многие захотят повторить его путь, потому что даже путь заблуждений может быть героическим, и тот Последний откроет дорогу новым… Он вздрогнул: сколько уже было этих последних за две тысячи лет! Считал их кто-нибудь? Сухое вечернее солнце наискось лупило сквозь завешенное легким газом окно; юноша достал из заметно похудевшего рулона новый лист и тщательно прикрепил его к нагревшейся за вечер доске: время есть. Написать кого-нибудь из молодогвардейцев, например, никогда не поздно – если уж совсем крах наступит, не поддастся его самонадеянной кисти этот почти уже родной упрямец…
А ранним утром шагал Илья с веселым другом-этюдником по розоватой дороге – он и маленький, голосистый, залихватски щелкавший звонким кнутом мужичок-пастух, на пути которого распахивались одна за другой деревянные острозубые калитки, и каждая выпускала на улицу по черно-белой, как большинство местных котов, или гладкой, цвета молочного шоколада корове; за некоторыми из них, степенно догонявшими неторопливое стадо, вприпрыжку бежали голенастые телята с влажными чуть пушистыми носами. Последняя, уже у самого поворота, похожая блеском, цветом и комплекцией на оживший рояль, выходила корова-предводительница Ночка, молчаливо возглавляла шествие, и никто уже не смел обгонять ее! Стадо сворачивало направо, устремляясь к неведомым пастбищам – Илья так никогда и не узнал, где паслись до вечера эти дивные животные, – а юный художник неизменно шел напрямик в Заповедник, место всеобщего жадного притяжения. Он не знал, какие это «все» дороги ведут в Рим – в этих местах они вели к Голове.
И жители, и постоянные дачники знали, что до революции здесь располагалась помещичья усадьба, как положено, реквизированная трудовым народом и обращенная на нужды трудящихся, в данном случае – ученых-биологов, блаженствовавших, однако, в этом скромном филиале рая совсем недолго: во время войны лесопарк и дворец оказались на переднем крае боев и пострадали, казалось, необратимо. Трехсотлетние дубы, правда, как стояли, так и остались, успешно залечив свои осколочные ранения, – зато небольшой, некогда изящный, как богатая, но скромная барышня, летний дворец, возвышавшийся над пологим спуском к Ораниенбаумскому шоссе, пока оставался жестоко искалеченным снарядами, и сердце сжималось при взгляде на кое-как залатанные стены: было очевидно, что за ними вопреки всему теплилась незаметная, но полнокровная жизнь…
Давным-давно, когда совсем никого здесь – а может, и вообще на Земле – не было, сходившая в море ледниковая лавина волокла с собой огромный светло-серый валун, почему-то потеряла его, и он застрял тут на сотни тысяч лет, ожидая себе сквозь толщу времени предназначенного вдохновенного ваятеля. Говорили, он пришел в восемнадцатом веке и изобразил главу своего случайного кума – самого грозного царя Петра Великого. Но еще вспоминали, что некогда Голова носила русский шлем, во время оно украденный, – не на нужды ли колокололитейщиков? – а значит, пришла прямиком из «Руслана и Людмилы». И много чего еще рассказывали – про арийца Тевтона, про древнее заклятие, постепенно погружающее Голову под землю, – и, разумеется, про то, что, скрывшись когда-то полностью, она и весь город утянет с собой… Прийти в парк и не поклониться ей было невозможно по неписаным местным законам: нет, ничего не случилось бы, просто это было – нельзя. Считать себя художником и не изобразить ее – тоже. В парке имелось несколько до тошноты живописных озер и рукотворных водопадиков под темными вековыми кронами – и не особенно-то они манили к себе уже придирчивого, сторонящегося банальности Илью. Ну, написал их все по разу в прошлом году, Юлич кивнул с равнодушным узнаванием – здесь ты, братец, угол совсем перетемнил что-то – и хватит, наигрался так и выгибавшимися в нетерпении попасть на чей-нибудь холст горбатыми мостиками над иззелена-коричневой водой. А к Голове – тянуло, как к месту жертвоприношения. Мертвые каменные глаза, слегка поднятые к небу, казались странно зрячими. В твердом очерке благородного носа, рисунке высоких суровых скул чувствовалась нешуточная сила – неопасная для друзей, сокрушительная для врагов. Илья определенно знал, что кто бы ни послужил прообразом этого удивительного, как бы сакрального изваяния, – он был человеком достойного и надежного качества. В чертах не ощущалось жестокости, присущей жадным языческим божествам, с Головой рядом человек и сам преисполнялся достоинства, а к ней чувствовал нечто сродни благоговению… Голова, при всей своей гордости, была к людям благосклонна: например, позволяла взойти к себе на мощное темя – со стороны вросшего в землю затылка – и даже теплым полднем посидеть там немножко в раздумьях, свесив ноги на ее прохладный некрутой лоб…
Так и сидела на ней в тот день худая, успевшая уже загореть, но по виду городская женщина средних лет в опрятном светлом холстинковом платье и легкой косынке; из-под длинного подола видны были только тощие щиколотки и крупные ступни, обутые в старомодные полумужские сандалии. На коленях женщины лежала закрытая толстая черная книга и, рассеянно придерживая ее рукой, незнакомка смотрела вперед и вверх – туда, где взбегала по высокому холму древняя разрушенная лестница и просвечивали сквозь хризолитово-прозрачные на солнце листья особенно мрачные на их фоне стены расстрелянного дворца. Заметив, как очередной беспечный художник целенаправленно устанавливает этюдник неподалеку от насиженной ею Головы, женщина легко поднялась и, подхватив подол, спустилась на тропу. Илья удовлетворенно проводил ее взглядом, так как с самого начала, педантично приготавливая все потребное для писания этюда, надеялся этим молчаливо выдавить неподходящую натуру из поля зрения, – но, когда она равнодушно его миновала, отчетливо вздрогнул: книга, которую отдыхающая, обхватив, несла перед собой, на миг явила темно-золотой кусочек заглавия: «…и другие его сочинения».
На следующий день с братом «на этюды» напросилась Анжела. Илья не возражал: во-первых, он искренне любил младшую сестру, а во-вторых, глубоко в душе сочувствовал ей, два года назад неожиданно превратившейся в «среднего ребенка» – то есть в человека, чье положение в семье самое по, сути, драматичное. Она еще не получила, по малолетству, той почти безграничной свободы, которой, сам того не замечая, широко пользовался «взрослый» Илья, но и нежной заботы, по праву полагающейся маленьким, ей доставалось все меньше и меньше, потому что по отношению к настоящему «малышу» – братику Кимке, она теперь и сама стала «большая». Одно время с Анжелочкой весело возился их отчим дядя Володя – высокий, очень красивый, как с этикетки на бутылочке одеколона, добродушный мужчина, инженер на самом известном ленинградском заводе, скромный герой-орденоносец, который однажды на День Победы стеснительно надел свой старый офицерский китель, заставив этим пасынка с падчерицей одинаково ахнуть при виде двух медалей за отвагу и ордена Красной Звезды. У него были удивительно большие, цепкие и ловкие руки, коими он и подбрасывал, бывало, заходившуюся от восторга Анжелу почти в прямом смысле «до потолка», после чего, бережно поставив на пол, называл ее «своей королевишной» – но все это как-то махом прекратилось после рождения настоящего «наследника» – толстощекого бутуза Кимки. Дядя Володя сам дал ему революционное имя, потому что давно – почти сорок лет назад, в ту веселую эпоху, в существование которой Илье даже трудно было поверить, когда еще звучали на берегах Японского моря последние выстрелы гражданской войны, это передовое имя предназначалось родителями ему самому, но в последний момент было все-таки заменено другим, принадлежавшим одному из двух главнейших вождей революции… Но неполученное имя настолько интриговало сначала впечатлительного мальчика, а потом храброго юношу и мужчину, что он поклялся назвать в честь Коммунистического Интернационала Молодежи будущего сына, – а клятвы привык держать… После рождения Кимки родные сестра и брат, несмотря на, казалось бы, призванную необратимо разделить их разницу в возрасте, тем не менее, неожиданно сблизились на почве своей полноценной родственности: Илья знал доподлинно, а Анжела только чувствовала, что активно навязываемый им в любимчики младенец – всего лишь наполовину брат им обоим. А может быть, Илья просто любил детей, успешно вошедших в сознательный возраст и овладевших людской речью: страстно бабакающего и гулькающего Кима он смутно считал пока преждевременным причислять к человеческому роду.
А сестренка уже полностью к нему принадлежала… Ненадолго хватило ей силенок протащить на себе ответственную поклажу – небольшой братнин этюдник, выпрошенный в самом начале пути. Она весело вернула его владельцу, налегке без страха побежала трусцой рядом с пестрым коровьим стадом, изловчившись погладить на бегу большеглазого молочного теленочка, восхитилась – «Ух ты, какая!» – важно прошедшей мимо Ночкой, сказав, что шкура у нее, как у пантеры, которую она видела на майских праздниках в зоопарке, когда еще – «Помнишь, Илья, как тот верблюд плюнул дяденьке на шляпу?». Они вместе вспомнили и в сотый раз посмеялись – и старший брат вдруг остро подумал: «А ведь мы этого не забудем. Ни она, ни я. Никогда. Как вот сейчас идем ранним утром в Заповедник и смеемся, – это очень скоро из памяти сотрется. А тот пьяненький дядечка застрянет в ней до самой смерти – и у меня, и у Анжелки… Одно гарантированное общее воспоминание – навсегда. Как странно…».
Минувшей весной трудящиеся гуляли подряд целых три дня, потому что Первое мая удачно выпало на понедельник. В воскресенье традиционно пекли (тут уж дети старались всемерно помочь исхлопотавшейся матери: сын истово крутил тугую ручку мясорубки, а дочка усердно катала слабенькими пальцами коричневую от времени скалку по распластанным и щедро присыпанным мукой тестяным лепешкам) торжественные прямоугольные пироги – один с мясом, другой с капустой. Готовые – толстые, темно-золотые, будто лаком покрытые, – они были вынуты из коммунальной духовки уже поздним вечером и до утра поставлены рядышком «отдыхать» на кухонном столе, заботливо спрятанные от ревнивых взглядов соседок под почти стерильными полотняными полотенцами. Только днем в самый праздник, вернувшись с демонстрации, – Кимку оставили на старорежимную бабулю из крайней комнаты – приступили к священнодейственному чаепитию, и так жалко было резать первый пирог, варварски разрушая покрывавшую его идеальную, как на потолке, ажурную лепнину… Так же жаль бывает – и будет в этом году, да! – вскрывать первый звонкий августовский арбуз. А в третий и последний выходной, жаркий, будто уже пришел июнь, отправились всей семьей с родной Петроградки в недалекий зоопарк – мама обзывала его «зоосадом» по-старинке. (Кололо в боку, подташнивало, и кто-то спросил: «Ты чего такой желтый?», и братишка бойко махал из открытой коляски вчерашним флажком на деревянной палочке.) Прямо напротив клетки с единственным дико косящимся на посетителей и потрясающим двумя дряблыми горбами верблюдом стоял разукрашенный по случаю праздника пивной ларек, вокруг которого царило особое летнее оживление: задорно сдувая аппетитную, зря пропадавшую пену с круглобоких кружек, граждане в сдвинутых на затылки шляпах залихватски опрокидывали в жаждущие глотки холодное, безбожно разбавленное пиво. Один из них, держа в правой руке недопитую кружку, – последнюю из серии осиленных за сегодня, а в левой – длинную веточку, отломанную от ближайшего куста, заинтересованно приблизился к верблюжьей клетке, где прямо у ограды нервно жевало длинными губами и дергало мягким носом некрупное коричневатое животное со свалявшейся шерстью. Пиво, радостно бурлившее в гражданине, коварно подсказало ему, что может оказаться забавным пощекотать верблюду в носу припасенной веточкой – и доверчивый дядечка послушался подлого совета… Вот так… И поглубже… И еще раз… Надо отдать должное верблюду: он терпел долго – лишь тихонько пофыркивал, не делая ни шагу от решетки; впрочем, может быть, ему, как лишенному природой удовольствия поковыряться в носу, было приятно, кто знает, – и гражданин при попустительстве верблюда незаметно прошел точку невозврата… Все произошло мгновенно: раздался негромкий булькающий звук – и новая шляпа мужчины, и расстегнутый пиджак, и клетчатая рубашка, и даже отутюженные брюки – все в один миг оказалось покрытым густой, липкой, невероятно вонючей пузырящейся белой массой, будто его окатили из ведра с известкой. Несчастному никто не сочувствовал – просто не мог. Потому что все счастливые свидетели этой редкой ужасающей сцены по миновении короткой немой паузы дружно сложились пополам от беззвучного хохота – и так, в скрюченном положении, будто разом раненные неслышной гранатой, начали медленно расползаться в стороны, чтобы можно было поскорей расхохотаться вслух на безопасном для ленинградской вежливости расстоянии… Мама при этом еще ухитрялась толкать перед собой Кимкину коляску, а Илья – тянуть за руку оцепеневшую сестренку… Этот день оказался дополнительно памятным для парня еще и тем, что на следующий вместо школы он оказался в Боткинской больнице – и, собственно, на том и закончилось его неполное среднее образование…
Вспоминая об этом, брат и сестра сами не заметили, как сквозь негустой светлый лесок вышли собственно в Заповедник; по аккуратным парковым дорожкам путь их лежал для начала к любимой обоими «Зеленке» – неглубокому озеру с песчаным у берега дном и прохладной, не как в нежащем заливе, бодрящей водой. На крошечном пятачке дикого пляжа в такую рань еще никого не было. Лишь ступив на плотный, поросший редкой чахлой травой бережок, Анжела немедленно стоптала с босых ног, помяв друг о друга, свои смешные круглые сандалики, с еще детским наивным бесстыдством через голову сорвала с себя короткое ситцевое платьице и в одних трусиках устремилась к водоему. Она даже не притормозила, как делают другие девчонки перед заходом в любую воду, чтобы проверить ее осторожной ножкой на гипотетическую холодность, потому что предпочитала не мучить себя сомнениями и приготовлениями. Илья давно уж заметил с некоторым удивлением, что сестра его слишком решительна не только для девочки, но и, пожалуй, для мальчика тоже – а хорошо это или плохо, понять не мог… Он только еще укладывал этюдник, расстегивал, поеживаясь на утреннем холодке, рубашку, малодушно решая, не позагорать ли сначала, позволив солнцу пройтись по коже горяченьким, – а она уже, не умея плавать, прыгала в ярких брызгах, взмахивая руками, как недолеток крылышками, высоко подскакивала, невинно показывая брату свою еще совершенно плоскую грудку.
- Вылезай! К Голове пойдем! – махнул он девочке, стоя на берегу.
Купаться совершенно расхотелось – может быть, на обратном пути, когда хорошенько прогреется воздух… Была и еще одна причина не задерживаться здесь: Илья смутно надеялся, что та женщина, что сидела вчера утром на каменном лбу, а потом прошла мимо с «Аввакумом» под мышкой, и сегодня пришла туда. Вдруг она и сейчас там сидит? Почему она читает такую странную, несовременную книгу? Ну, он – понятно: чтобы работать над собой, а она? Может быть, она – научный работник, историк, и знает гораздо больше, чем написано в книге? Илья еще вечером решил, что, пользуясь дачной свободой, подойдет к женщине и заговорит: здесь, в Заповеднике, да еще в немом, но очень ясно ощущаемом присутствии Головы, делающей неуловимо странной саму атмосферу вокруг себя, нет ничего невежливого в том, чтобы подойти в незнакомому взрослому человеку и спросить… Зная, что застенчивость – одна из главных его болезней и может заставить некрасиво сконфузиться в ответственный момент, Илья продумал вопрос еще вчера – он скажет: «Здравствуйте! Извините, а вы – ученый?».
Но ни к какой Голове они в тот день не пошли. Крикнув девочке, Илья на миг отвернулся от озера с целью подобрать брошенные вещи – и сразу боковым зрением увидел знакомую дачницу. Все с той же книгой в руках и большим пушистым полотенцем, перекинутым через прямое острое плечо, она медленно вступала на пляж с противоположной стороны, появившись будто прямо из яркой зелени. Юноша растерялся, как всегда теряется человек, заранее продумавший некую важную мизансцену, которая вдруг пошла совершенно наперекосяк, заставляя вдохновенного режиссера на ходу подстраиваться под нее.
- Здрасьте… – вырвалось у него от неожиданности, и он тут же в деталях увидел себя со стороны: невесть отчего смущенного вихрастого подростка, нелепо здоровающегося с посторонним человеком; Илья решительно оборотился в сторону озера, инстинктивно сгустил голос до положенного природой предела и зычно рявкнул в сторону не торопившейся выходить Анжелы: – Я кому сказал?! А ну, на берег!! Вода холодная!! Анжел-ла-а!!!
- Здравствуй, – спокойно ответила женщина и улыбнулась: – Экий у тебя голос страшный, прямо архиерейский дьякон. Любо-дорого послушать.
Кто такой дьякон, Илья примерно представлял, а насчет «архиерейского» уверен не был, поэтому лишь сбивчиво пробормотал:
- Не… не слушается… А вода-то не прогрелась еще… Не хватало ей только простудиться…
Она махнула рукой:
- Оставь сестру. Себя в ее возрасте вспомни: весело тебе было, когда ты только раскупался в свое удовольствие, а тебя уже не берег зовут? Ну вот, то-то. Ничего ей не сделается, вылезет – солнышко ее вмиг согреет. Этюд, вон, лучше пиши… В художники собрался или так – балуешься?
Его смущение как рукой сняло – так просто и тепло говорила эта высокая, угловатая, на вид хорошая и прямодушная женщина. Он кивнул:
- Собрался. С десяти лет в рабочей изостудии занимаюсь. А с осени в сто девяностую школу иду, в старшие классы. Это такая, вроде подготовительная…
- Знаю, – перебила женщина, сбрасывая с плеч бретельки застиранного сарафана и стаскивая его через низ. – При «Мухе», которая раньше была Школой технического рисования, потом какими-то мастерскими… Сейчас, говорят, очень достойное учебное заведение. Ну, пойду и я окунусь…
Она осталась в темном, очень закрытом купальнике, и, на ходу закалывая волосы повыше, точно так же, как Анжела, не притормаживая у кромки, бросилась в воду и поплыла размашистым кролем сразу на глубину. Сестренка между тем добровольно выбежала на сушу и заскакала на одной ноге, склонив набок голову и смешно колотя ладошкой по нижнему ушку: так она, подражая большим ребятам, вытряхивала из него несуществующую воду. Потом девочка шустро расстелила свое небольшое вафельное полотенце, подтащила его на более мягкий, жидкой травой покрытый участок – и растянулась лицом вниз, выставив еще белые треугольные лопатки, поерзала немножко, устраиваясь, – и через несколько минут уже дремала под настойчивой лаской набиравшего силу и злость солнца. Илья устанавливал этюдник – на этот раз без особого рвения к работе, и поглядывал, как новая знакомая уверенно плывет в сияющей воде: вот повернула к берегу, попала в солнечную дорогу, переплыла ее, будто рассекая гладь густого расплавленного золота. Теперь он понял, что женщина – старая, гораздо старше его матери – может быть, в бабушки и не годящаяся, но все-таки из тех, непоправимо отставших во времени, словно не сумевших перейти некую заповедную черту, чтобы понимать что-то важное, доступное только новым поколениям. И все же к ней тянуло. Странное дело – они буквально несколькими словами перекинулись, а он уже почувствовал смутную связь между ними, некое таинственное узнавание – и по-хорошему взволновался, предощущая что-то важное и глубокое, совершенно новое в жизни.
Вот купальщица неторопливо взошла на пологий бережок, отколола недлинные намокшие волосы цвета перца с солью, слегка растрепала их, чтоб сушились, подхватила расстеленное полотенце, обернула вокруг узких мальчишеских бедер и встала неподалеку от этюдника, подставив лицо заметно погорячевшим лучам.
- Я, наверное, мешаю тебе работать? – вдруг, прищурившись, обернулась она. – Конечно, мешаю. Ты и вчера не знал, как меня согнать с Головы, помнишь? Ты – как тебя зовут? – не беспокойся: сейчас я только чуть-чуть обсохну и отойду в сторонку, почитаю в тенечке...
- Илья меня зовут! – горячо обрадовался он. – И вы мне совсем не мешаете! Наоборот, это я вчера подумал, что мешаю вам, ведь вы, наверное, ученый и читаете по работе, а я так нагло со своим этюдником прямо напротив…
- А меня – Настасья Марковна, – сказала женщина, – и я не… Неужели – читал? – изумленно перебила она сама себя, заметив, как при первых ее словах мальчик вздрогнул и быстро глянул в сторону лежащей на свернутом платье книги. – Да, именно как жену Аввакума… И что – все прочел?
- Да. Два раза, – гордо сообщил Илья. – А может быть, даже и три, потому что отдельными кусками потом еще много раз перечитывал, – и глупо добавил: – Очень понравилось.
Она, казалось, была изумлена и не могла подобрать слова, во всяком случае, всем корпусом повернулась к собеседнику и долго рассматривала его в упор; наконец, растерянно проговорила:
- Надо же, как удивительно… И что – не трудно было читать? Язык-то непривычный для тебя, наверное. Все-таки триста лет назад написано. Или родители твои какие-нибудь специалисты в этой области?
- Да нет! Мама наша – машинистка, сейчас с Кимом, братиком, сидит, не работает, а папа… – Илья запнулся, – в общем, у нас с Анжелкой отчим, дядя Володя, – он инженер на Кировском. Фронтовик, орденоносец…
- Интере-есно… – протянула Настасья Марковна. – И как же дошел ты до жизни такой? – она красиво, молодо улыбнулась.
- Да вы не подумайте! – смутно испугался юноша: вдруг решит, что он какой-нибудь тронутый религиозник. – Я не в том смысле, что Церковь там, староверчество или еще что-то … Меня личность его захватила! Ведь он – борец! Какая силища – один против всех, и в таких мучениях… Кстати, и жена его тоже… Я вот понять не могу, как это она, когда еле живыми выбрались, – ну, из Сибири… С детьми… Ведь там такое вытерпеть пришлось – почти как здесь в блокаду было, мама с бабушкой рассказывали… Но он опять воду мутить собрался, в первом же городе, так что их бы сразу раз – и обратно! А она ему – мол, не думай о нас, иди и обличай… Он-то понятно, фанатик и все такое, но она-то – мать, дети-то ведь ей дороже должны быть! Или… или нет? – Илья вдруг со страхом почувствовал, что последнее его утверждение не бесспорно.
- Или нет, – сухо ответила Настасья Марковна и посуровела: – Неужели, столько раз прочитав, не понял?
На пляж уже подтягивались первые отдыхающие с детьми; в трусах и панамках, а совсем карапузы – так и голышом, они звенели, подпрыгивали, топали пухлыми, в перевязочках, ножками под строгими и нежными взглядами матерей… Нет, это понять было невозможно.
- Моя мама говорила, что для женщины самое ужасное – потерять ребенка, – пробормотал он. – Вот у вас есть дети? Вы могли бы… – он не договорил, постеснялся.
- Самое ужасное – потерять не ребенка, а себя, – четко и раздельно произнесла Настасья Марковна. – И это единственное, что нужно по-настоящему понять в этой книге.
- Вот это я как раз понимаю! – взволнованно заговорил Илья. – Очень хорошо понимаю! Просто я не знаю, где они силы брали на такое, вот что! Я вот тоже хотел – ну, это – воспитать в себе такую силу. Ну, не такую точно, а вообще…
И его неожиданно прорвало. На одном дыхании он вдруг вывалил так и стоявшей напротив практически незнакомой женщине в мокром купальнике все свои страхи, надежды и сомнения, одолевавшие последние пару лет, – и никому не понятные подвиги вроде геройского заплыва и бесславного обморока на физкультуре. Говорил, внутренне обмирая: вот сейчас она снисходительно улыбнется и покачает головой, демонстрируя, какой он маленький дурашка со своими детскими выкрутасами, и привычно, по-взрослому ободрит несмышленыша: сейчас, мол, ты еще не понимаешь, что все это пустяки, а когда вырастешь… Илья даже не пытался разобраться, почему ему вдруг таким важным показалось мнение чужой старушки, – просто говорил и говорил в напряженно-внимательное лицо… Она была совсем некрасивая, кожа – как старый пергамент, глаза темно-серые, ничем не примечательные. Рядом с ней не ощущалось ни особого умиротворенного спокойствия, ни простой земной надежности, как рядом с мамой или раньше с бабулей, – наоборот, Настасья Марковна создавала вокруг себя невидимую зону напряжения – но напряжения притягательного, будто родственного. Он даже представить себе не мог, что рассуждал бы о таких непривычных вещах с мамой, сразу начавшей бы любовно ерошить ему волосы и спрашивать об учебе, или с покойной бабушкой, которая до самой смерти была озабочена лишь степенью готовности внуков немедленно поесть вкусненького. А тут стоял – сам полуголый перед полуголой же почти что бабкой – над крепко спавшей на животе сестренкой и сыпал вопросами без ответов, главным из которых, как ни крути, а оказывался один: зачем? Зачем все это, если все равно закончилось тюрьмой и костром, а и не костром бы – и без того ведь все умерли! Бились, словно Дон Кихот со своими мельницами, – и давно ушли в землю навсегда, как и те, кто сражался по другую сторону! Тогда – зачем? И сила растрачена – на что?
- Ну, а вот война… – тихо вставила в паузу женщина. – Что же, по-твоему, выходит, надо было немцам сразу сдаваться, потому что, так или иначе – а все равно в гроб?
- Это – другое! – почти крикнул он. – Это – понятно! Тут страна, в которой детям жить, много поколений! Это – чтоб не рабами росли, за такое и умереть не жалко! И страна – вот она, пожалуйста, стоит себе! И мы с вами тут разговариваем, и дети, вон, играют! А Аввакум… и другие… Боярыня Морозова – в Москве когда с классом на экскурсии был, в Третьяковке видел… И та же Настасья Марковна – они за что? За два пальца? За какие-то буквы в старых книгах, которые теперь только в музеях? Да и церквей-то самих почти нет уже, а скоро и совсем не останется, говорят… По всему выходит, что Аввакум и страдал, и вообще жил – напрасно, а вот ведь нет – три века прошло, и я, и вы читаете, и будто прямо в сердце! Вот что мне никак не дает покоя, а вы – вы понимаете или нет?
- Понимаю, – спокойно отозвалась Настасья Марковна. – Не зря же меня, как его попадью, зовут… Только, боюсь, объяснить тебе это нелегко будет.
- Думаете, я маленький, да? – обиделся Илья. – И мне еще рано, да?
- Нет, – просто сказала она. – Потому что ты некрещеный. У тебя – там – закрыто.
Он опешил:
- В каком смысле? – И вдруг вспомнил: – А я как раз крещеный! Меня бабушка, когда я грудной был, отвезла без спросу к Николе Морскому и окрестила. Ох, и задали ей, говорят, мама с папой! Соседка рассказывала, что отец мой год с тещей после этого не разговаривал. Ну, а Анжелка и Кимка, те – да, так и остались. Старая уже бабушка стала, когда они родились, чтоб такие дела проворачивать. Да теперь-то какое это имеет значение? Крещеный, некрещеный – какая разница? Лишь бы человеком хорошим вырос!
- О, да, - усмехнулась Настасья Марковна. – Действительно, какая разница? Плюс-минус бесконечность.
Илья не понял, но спросить не решился, почуяв в ее словах нечто действительно «взрослое», про которое он и сам понимал, что «рано» и, более того, – вообще не для всех. Например, не для его мамы. И уж, тем более, не для отчима… Почему? Илья вздрогнул от этих мыслей, промелькнувших мгновенно, но пугающе отчетливо.
- Не задавайся пока такими вопросами, – мягко сказала Настасья Марковна. – Не все же сразу. И возраст твой тут ни при чем. Многие взрослые предпочитают до конца жизни об этом не думать…
- Это как-то связано с Аввакумом, да? – наивно спросил юноша. – Просто книга сложная, да?
Женщина чуть улыбнулась – одним уголком рта, но и эта полуулыбка таинственным образом озарила ее лицо:
- Да. Но не самая. Ты поймешь, потому что бабушка когда-то свозила тебя к Николе Морскому… Смотри, сестра твоя проснулась.
Анжела действительно уже сидела на своем полотенце, слушая разговор старших, – совершенно очаровательный ребенок: розовый после дремы, в растрепанных солнечных кудряшках… Вот сейчас Настасья Марковна не удержится и расхвалит ее, назовет привычным ангелом, потому что девочка действительно остро напоминает сейчас полусонного купидончика с какой-нибудь сладкой картины восемнадцатого века.
- Анжелой ее зовут? А брата – Кимом? Плохо, – строго сказала женщина, без всякого одобрения пристально разглядывая ребенка. – Клички собачьи, а не имена. Если крестить их, то другие давать надо, русские.
Его словно окатило водой: вот дурак-то! Она обычная религиозница, и больше никто. Никакой не ученый, а всего лишь бабка старорежимная – лет-то ей сколько? Между пятьюдесятью и шестьюдесятью? Просто одета и говорит по-городскому, потому и кажется, что умная и всякое такое… Родилась до революции, а мать с отцом вообще, наверно, контра отпетая, вот и накачали ее. И Аввакумом она восхищена не как борцом и бунтарем, и даже не как интересной исторической личностью – а в прямом смысле верит всем небылицам, которые он там понаписал (читая их, Илья всегда внутренне по-доброму усмехался, делая отсталому старику скидку на то, что тот родился в темные времена) про всяких там бесов на печке, ангелов, ходящих сквозь стены… Надо же, у его брата и сестры – не имена, а клички!
- Ладно, разберемся… – сразу внутренне отгораживаясь от собеседницы, пробормотал Илья и обернулся к сестре: – Собирайся давай, наши там, небось, уже позавтракали.
Он принялся торопливо складывать так сегодня и не пригодившийся этюдник, все время ощущая на себе настороженный взгляд женщины и невольно ежась от него. Досада на себя самого не отпускала, и он буркнул в сторону:
- В крайнем случае, вырастут – сами решат… Хотя к тому времени уж и церквей-то, наверно, не будет, так что чего им решать-то…
- А если не вырастут? Маленькими умрут? – вдруг резко бросила Настасья Марковна.
Юноша выпрямился, чувствуя, как губы дрожат:
- Вы – это… Вы совсем уже… – захотелось нагрубить, но почувствовал, что выйдет несолидно, как у обиженного пионера, и он закончил, как мог, спокойно: – А если и так – правда ведь никто не застрахован – то, сами понимаете, тогда и подавно все равно будет.
Она вздохнула, на сей раз действительно глядя на Илью, как на недоумка:
- Да уж, понимаю, конечно… – и непонятно добавила: – Просто минус еще одна бесконечность…
Анжелка, уже накинувшая платье, топталась на своем зеленом островке, силясь впихнуть ноги обратно в сандалики, не расстегивая их, – это удалось, и девчонка унеслась в ажурно-золотую тень «на подскоках», не оглядываясь на брата.
- До свиданья, – сказал он и тут же с неудовольствием понял, что теперь все лето ему придется здесь, в Заповеднике, бегать от этой полоумной тетки, прятаться, чтоб не столкнуться взглядом и снова не повестись на лишний разговор.
- А крестить их все равно надо, – словно не слыша, продолжала Настасья Марковна. – Самое страшное, если так умрут. Хуже ничего и быть не может. А ведь дети – всякое может случиться… Скарлатина, например… – и при этом слове у нее непроизвольно дернулось и потемнело лицо.
«Я – гад, – в секунду прозрел Илья. – У нее точно ребенок когда-то умер – от скарлатины. Поэтому она такая и странная. Ищет утешения в религии – как не понять человека… У тезки ее, Авакумовой жены, вообще не сосчитать, сколько детей перемерло».
- Сейчас – пенициллин изобрели… – пробормотал он, невольно смягчаясь. – Мы с Анжелкой два года назад вместе переболели… Таблеточки такие белые попили – и как рукой…
- Да это я к примеру, – с едва заметной горечью отозвалась она. – Вообще – мало ли что… Но знай на всякий случай: ты, как человек крещеный, и сам можешь окрестить кого-то, если срочно нужно, а священника нет. Например, тяжелобольного, умирающего. Неважно, ребенка или взрослого.
- Сам? – искренне удивился Илья. – Комсомолец, в рабочую изостудию хожу – и окрестить? Умирающего? Как поп? Зачем? И, главное, как?
- Ну, Илья-а!! – прогудела откуда-то из тени сестра. – Ну, пойдё-ом! Ну, мне жа-арко!
- Очень просто, – пожала плечами женщина. – Берешь любую воду, хоть из лужи, хоть из чайника. Говоришь: крещается – в смысле, крестится – раб Божий такой-то, только имя обязательно должно христианским быть, нашим то есть, русским. Потом три раза брызгаешь на него водой. Первый раз говоришь – во имя Отца, аминь, второй – и Сына, аминь, третий – и Святаго Духа, аминь. Видишь, как просто. Сложней – зачем…
- Ну, Илья-а! – требовательно раздалось с дорожки.
- Беги, – слегка подтолкнула Настасья Марковна. – Будет еще время обсудить. Пока просто запомни, и все.
- Иду-у! – отозвался он вбок и, хотя знал, что запоминать ничего не будет, потому что незачем, но, не желая обидеть несчастную старуху, наскоро повторил всю нехитрую формулу домашнего крещения от начала до конца и добавил: – Ничего сложного.
- Да. И плюс бесконечность, – с проблеском улыбки отозвалась она.
А на следующий день лето взяло и кончилось. Махом. Без предупреждения перешло в позднюю осень. В своей спартанской комнатушке со скошенным потолком Илья проснулся от влажного холода и, еще не веря себе, в полудреме натянул на голову легкое пикейное одеяло, смутно надеясь на досадную случайность, которой предстоит развеяться вместе с остатками сна. Но, когда в голове окончательно прояснилось, он убедился, что за окном стоит беспросветный ливень – упорный, равномерный, нескончаемый – и его унылый шум уже сходит за тишину. Сирень под окном словно набухла и вскипала, как пенка на смородиновом варенье, почти достигая второго этажа, – казалось, она на глазах пропитывается водой, и соблазнительно было написать ее именно такую, не праздничную средь желтого и голубого – а мокрую и ледяную, роняющую тяжелые прозрачные капли… Новый ватман уже с вечера был развернут на столе в ожидании нового эскиза, и, наскоро накинув дачную вельветовую куртку, не причесываясь и даже не вспомнив о завтраке, Илья бросился щедро мочить плотную белую бумагу под акварель – а потом долго и вкусно работал, не замечая ни сгущавшейся в комнате влажности, ни собственных нечищеных зубов.
Так внезапно и обидно испортившаяся погода, запершая дома маму с двумя младшими детьми, – из которых, впрочем, погрустнела только без дела слонявшаяся Анжела, а веселый бутуз Кимка как радовался жизни при солнце, так и продолжал любить ее и под дождем – неожиданно открыла для Ильи новые грани в нем самом. Оказалось, он любит ненастье больше, чем солнечные дни! Надежно запрятавшись с ног до головы в специально для этого доставленную когда-то на дачу фронтовую плащ-палатку уехавшего в Ленинград на работу отчима, охваченный непонятным, почти чувственным восторгом, юноша убегал теперь из дома с этюдником еще до завтрака, проглотив лишь на бегу обсыпную булку со вчерашним козьим молоком. Залив можно было писать бесконечно – и этюды никогда не походили один на другой. Илья неустанно лазал среди валунов, утверждая меж них этюдник как мог прочно, и писал с замиранием сердца, безжалостно перекручивая цинковые тубы с фиолетовым и синим кадмием, не экономя белила, – и вся надежда была на то, что ко дню рождения в июле отчим привезет обещанный – и такой долгожданный – новый большой набор дорогих масляных красок.
Вечером он отвечал на озабоченные вопросы матери – не голодный ли, не простудился ли – в теплой комнате у во всю топившегося высокого обшарпанного камина с отколотой плиткой (были удачно найдены в кладовке и немедленно пущены в дело какие-то трофейные «топливные брикеты»), на первый – утвердительно и рьяно наворачивал гречневую кашу с тушенкой, на второй – энергично мотал головой. Потом он покровительственно трепал по мягким кудрям сестренку, теперь всегда вяло пеленавшую на кресле свою увечную куклу (фарфоровая голова ее была склеена из осколков и кое-как подкрашена заново лично Ильей) – и мчался к себе наверх, где царили холод и свобода, где можно было, подтянув ворот свитера до ушей, вновь приняться за Аввакума и его памятную собачку. Снизу доносилось протяжное канюченье сестры – «Ма-ам, ну, почитай про Айболи-ита!» – и привычные раздраженные материнские ответы: «Ты видишь, мне надо Кима на горшок сажать – иди, поиграй в игрушки!». Сквозь уже властно захватывавшую главную работу Илье вдруг приходило в голову, что надо бы собраться и самому почитать сестре, которую после рождения непрошеного брата мать с отчимом отдали два года назад в детский сад на шестидневку, и должны были со дня на день отправить с детсадом же на дачу, что не удалось им сделать весной, потому что закрутились с Кимкой и не отвели Анжелу вовремя на какую-то недостающую прививку… «Жалко малявку, – мелькало у Ильи, в то время как тонкой беличьей кистью, густо зачерпнув из кюветы коричневой акварели, он наводил Аввакуму суровые страдальческие брови. – Скоро опять ей до осени с чужими людьми мучиться… И что мама ее здесь, на даче, не оставит? Хоть бы она от детсада этого круглосуточного отдохнула… Говорит – ей, мол, там веселей с другими детьми, а здесь играть не с кем… Так-то оно так, но… Не годятся эти брови никуда! И не перебелишь, – только грязь разводить… Какой-то старикашка полоумный получается. Может, действительно, Олега Кошевого написать и не мучиться?». Но мучиться было приятно, как и ложиться позже всех, а вставать, когда все еще спят, и наскоро пить холодное молоко на крыльце под навесом, ощущая крепчающим, вширь идущим плечом надежную тяжесть старого этюдника…
Он не знал, что это летят последние дни его юношества, туманные, дождливые, неожиданно уютные, – что их остается всего ничего, и потом уже ничто, никогда не повторится, и буйного протопопа он никогда не напишет, как не вернется в родную изостудию под строгий и ласковый взгляд Юлича, а из всех этюдов переменчивого лета случайно уцелеет только один, очень неудачный…
Именно в тот страшный вечер, перед самым закатом, солнце, наконец, скромно явило себя отчаявшимся в ожидании дачникам – так, напомнило сквозь полегчавшие тучи, что оно, вообще-то, здесь, никуда не делось, – и сразу резко переменился цвет моря и неба, смешав все краски вдохновенному живописцу. Он поднял глаза – и тут услышал свое имя: издалека, высоко вскидывая голенастые, будто у лосенка, ноги, к нему несся, проваливаясь в мокрый песок, соседский неумытый парнишка лет двенадцати, из местных.
- Скорей! – кричал он пронзительно, как голодная чайка. – Скорей! Беда у вас!
Илья на всю жизнь запомнил, как при этих словах крупно затряслись его руки, как странная, гадкая дрожь вмиг охватила все тело, и, главное, голос, его зычный красивый голос, осел куда-то внутрь, упорно не шел наверх, и только душным шепотом он смог спросить у подбежавшего соседа:
- Что?.. Что?… – и горло перехватило напрочь.
- Я вам только что «скорую» с почты вызвал, – ответственно сообщил мальчик, слегка задыхаясь от бега.
- Кому?!! – прорвалось, наконец, у Ильи, успевшего представить себе умирающую невесть от чего маму.
- Там братан твой, вроде, крысиного яду налопался и помирает, – важно ответил гонец, очевидно, очень гордившийся негаданно выпавшей миссией; он еще не проходил в школе, что таким же, как он, посланцам, принесшим дурные вести, в древности попросту отрубали их невольничьи головы.
Минуты побежали быстро-быстро. Сыпались в песок незакрытые полувыдавленные тубы краски, с густыми коричневыми всплесками из-под ног увертывались лужи, голова угодила на лету в сыпучий куст, сразу, словно мокрым снегом обдавший пушистыми лепестками, тугая разбухшая калитка с размаху ударила ребром по отзывчивому локтевому нерву, в нижней «большой» комнате заметалась неузнаваемая мать в пестром грязном халате, роняя гремящие тазы и крича на ходу без слов… На диване среди смятых пеленок и полотенец исходил хрипом и рвотой маленький мальчик, в котором старший узнал щекача и проказника младшенького только потому, что знал, что кроме него быть некому.
- Кимка… – выдавил Илья, застывая в дверях, и тут же в уме неуместно мелькнуло: «И правда, кличка какая-то».
С этого момента что-то пошло иначе, словно мир сам собой чуть-чуть сдвинулся – лишь на градус, но это заставило глянуть на него под другим, доселе неизвестным углом. И этот ничтожный угол смещения вдруг развернул все видимое и слышимое в совершенно новый, небывалый ракурс. Илья остолбенел, пытаясь нащупать, понять, принять. Он молчал. Мать подскочила к нему с белыми глазами:
- Где они?! Ты привел их?!!!
Он даже не сразу понял, что речь идет о врачах, и продолжал молча переводить глаза с мамы на братика и обратно.
- Дурак, дурак, дурак!!! – дико выкрикнула она в лицо сыну и принялась бешено трясти его, схватив за плечи: – Где они, я тебя спрашиваю?! Кимка умирает, понимаешь ты?! Умирает – Кимка!!!
«Так и умрет под собачьей кличкой», – кощунственно подумал Илья, но в голове сразу ошеломительно прояснилось. Он осторожно отстранил маму и уверенно глянул ей в глаза:
- «Скорую» вызвали соседи, она через минуту будет… Кима сразу увезут в больницу – его хотя бы переодеть надо, смотри, он же весь мокрый!
- Да, да… – в лице матери мелькнула осмысленность. – Сейчас… Ты посмотри пока… – и она метнулась из комнаты.
Илья шагнул к братику. Тот притих, изредка икая и почти не приоткрывая глаз. На его осунувшееся, едва узнаваемое личико уже легла сумрачная, смутно торжественная печать. Старший брат тронул страдальца за ручку:
- Маленький… Кимушка… – и это слово опять больно резануло слух.
«А какое имя – русское?» – попытался он припомнить, но в голове почему-то только судорожно крутился достоверно русский Иван-Царевич. Илья схватил с тумбочки стакан с водой и осторожно пролил немного малышу на лоб:
- Крестится раб Божий Иван, во имя Отца, аминь, – брызнул еще раз, – и Сына, аминь, – доплеснул малые остатки воды: – И Святого Духа, аминь, – и тихо поставил стакан.
Младенец Ваня открыл глаза и очень спокойно – с последним спокойствием – по-взрослому, будто сам был старшим, глянул на брата, который склонился над ним сам не свой, смутно надеясь на какое-нибудь чудо. Его не произошло. В комнате в тот же миг оказалось несколько человек в коротких мятых халатах, мать что-то сбивчиво рассказывала сквозь рыдания про какие-то пустые обертки, которых не должно было быть, – ее оттаскивали и заворачивали братика в голубое, младенческое его одеялко; потом они с мамой бежали по тусклому саду плечом к плечу, но ее пустили в белую с красным машину, а его – нет, он остался под грозно нависшей над забором черной сиренью – и по узкому их, тенистому переулку удалялись в матово-серой ночи два зловещих, как глаза хищника в чаще, рубиновых огня.
Глава II
Мы новый мiр построим
Алексей Александрович Щеглов закрыл амбарную книгу, тщательно завинтил колпачок любимой перьевой ручки и попытался встать из-за стола. Не тут-то было: ноги серьезно затекли, потому что невесть сколько времени, пока их хозяин, пожилой мужчина с абсолютно белой красивой головой и контрастно темной бородкой, увлеченно писал, были пережаты над коленями жестким ребром неудобного высокого стула. А он и не заметил – так увлекся! Мужчина осторожно поставил обе ступни в домашних мокасинах на носки – и сразу же облегченно почувствовал, как кровь торопливо и вольно хлынула по жилам вниз, оживляя его одеревеневшие было конечности. С детства он любил это волшебное ощущение – возвращения к жизни онемевшей руки или ноги, когда случалось какую-то из них или сразу обе отлежать или отсидеть, любил настолько, что иногда «омертвлял» их почти специально, позволяя, например, случайно поджатой ноге дозреть до кондиции чуть ли не абсолютной нечувствительности – чтобы потом в полной мере насладиться словно бурной оттепелью, наступающей в уже почти чужом, как отмороженном, куске тела…
Он часто так делал и тем самым летом – о котором сейчас писал. Странно, что вспоминались теперь такие незначительные мелочи, а крупное как-то смазывалось, выпадало не только из текста, но и из воспоминаний. Например, он пока ничего не написал – даже в голову не пришло! – о том, что именно той, тогда едва минувшей весной, от которой в начале лета еще не успели опомниться, человек впервые в истории полетел в космос (подумать только – а теперь там, на орбите, уже целая свалка образовалась!), и все вокруг было как бы пропитано приподнятостью от осознания этого чрезвычайного события. Череда личных катастроф того лета наполняла страдающих чем-то вроде непонятного чувства легкой вины: как они смели предаваться горю на фоне всеобщего, словно обязательного ликования!
Он слепо протянул руку в угол стола, и ладонь его приятно наполнилась: большая металлическая фляга с французским коньяком была умиротворительно тяжела, содержимое гулко поплескивало внутри. Отогнал смутные сомнения: ну, какой алкоголизм – наоборот, с возрастом спиртное почти перестало действовать, и нужно было махом выпить не менее половины стакана на пустой желудок, чтобы ощутить хоть какую-то смазанность мыслей. А их хотелось иногда вообще стереть – все до одной. Хоть до утра отдохнуть от страхов, сомнений, просто суеты… Полежать, ни о чем не думая… Но сегодня он имел право на особое вознаграждение: хорошо ли, плохо ли, а первую главу он закончил. Да ладно, ладно, чего там – «плохо ли»! Хорошо, конечно, тем более, что он художник, а не писатель… С почином! Алексей с удовольствием сделал несколько крупных, мягких, давно ничуть не обжигавших глотков.
Вообще-то он никогда не собирался писать о том, более чем полувековой давности лете никаких воспоминаний – слишком уж тяжко выходило, отвык от того, чтоб так себя будоражить. А вот оказался в этом доме… И зачем его сюда принесло на старости лет? Даже смутно помнил, как ехали, как устраивались – сквозь легкую дымку… Это все Аля виновата… Ладно, приехал и приехал. А тут воспоминания обступили со всех сторон – словно живые. Будто не его воспоминания, а самого дома: ждали, ждали здесь кого-нибудь едва ли не шесть десятилетий – появился он, и накинулись на добычу. В старом ждановском шкафу на веранде все еще висело – страшно подумать! – то, желтое с черным мамино платье и неуловимо пахло «Красной Москвою»… Маму звали не Анна, как он написал в амбарной книге, а Елена, отчима – дядя Дима, сестру – Снежана, а братика – Вилен. Себя он обозвал Ильей – тем именем, которого всегда для себя желал, и очень гордился удачными именами, выбранными для своих героев: хотя и непохожими на слух, но внутренне идеально созвучными… Фамилию свою тоже заменил красиво – птичью на птичью. Правда, Настасью Марковну так и звали – тут уж ни убавить, ни прибавить, и Вилю он тогда с перепугу окрестил действительно Иваном – и действительно окрестил – что и подтвердил ему в Париже случайный знакомец, оказавшийся священником из Собора Александра Невского, – так что записки, когда вдруг оказывался в церкви, исправно подавал за упокой младенца Иоанна. Алексей до сих пор не разгадал до конца эту давнюю загадку про себя самого: почему он вдруг такое сделал? Ведь в те дни он не успел еще по-настоящему попасть под влияние старухи Марковны! (Ага, старухи, как же: пятьдесят два ей тем летом исполнилось, красивая была, спортивного типа сухощавая женщина, он потом в таких влюблялся; интересно, сколько она прожила, как и от чего жизнь окончила; сходить надо, посмотреть, на месте ли ее домик над футбольным полем; а вдруг жива? – тогда сколько ей теперь, сто девять лет? – бред.) Вилю, конечно, жаль было до невозможности, такого маленького, беспомощного, ужасно мучившегося… Даже сейчас вспомнишь – и дрогнет что-то внутри. Хотелось как-то помочь ему – чтоб быстро, чтоб сразу – одним словом, чудом. И подросток Лешка, не имея в своем распоряжении ничего чудесного, кроме странного рецепта, данного незнакомой женщиной, без раздумий применил его как единственный – в смутной надежде, что непонятный ритуал немедленно исцелит братика? Нет, вряд ли: Настасья Марковна говорила, что это делается именно перед смертью, а вовсе не спасает от нее… Зачем же тогда? Из каких-то невнятных соображений про Аввакума, которым он тогда увлекался? Если толкнуло что-то, то что? Нет, не понять. И не вернуть уже того свежего, молодого внутреннего состояния, послушного небанальным, в разрез со всей действительностью идущим побуждениям… Наверное, он просто сделал то, чего никто бы не сделал на его месте. Он и всю жизнь потом так жил: говорил то, что никто бы не сказал, любил тех женщин, которых любить было не принято, дружил с мужчинами, заведомо не годившимися в друзья, писал картины, многими презираемые, – и радостно получал по шее в прямом и переносном смысле за свою отличность, понимая, что за нее не стыдно получать. Так что превращение Вили в Ваню можно было отчасти считать одним из первых его «программных» поступков, определивших сам жизненный уклад и настрой…
Далекое радио на кухне возвестило полдень. Алексей поднялся, зябко застегнул теплую флисовую жилетку, прибавил тепла в обогревателе, рассеянно встал перед окном – тем самым, из которого писал когда-то свою чуть ли не последнюю на художественном поприще сирень: с того года он не переставал испытывать к ней тихую, ровную, очень хорошо мотивированную ненависть. По настоянию и под неусыпным руководством Али дом был недавно отремонтирован – а вот до обширного, и раньше неухоженного сада, по ее словам, еще не дошли руки, и он превратился за все эти годы заброшенности в участок глухого (сейчас осеннего, яркого) леса с участками непроходимых чащоб, живописного бурелома, так и просившегося на пейзаж, и даже непонятно, когда и откуда явившегося, но уже ряской заросшего пруда. Поодаль, на пригорке, и в его детстве не юные, а теперь и вовсе заматеревшие сосны, числом пять, как и раньше, тихонько гудели на ветру, будто натянутые струны огромного невидимого контрабаса… Просто так стоять и на расстоянии угадывать их знакомый гуд, глубоко прихлебывая чуть отдающий канифолью коньяк (надо же, как быстро идет, второй стакан на исходе, ну да ладно), было одновременно мучительно и приятно.
Внизу скрипнула калитка: в пронзительно-синем коротком пальто, мелькнувшем на шафрановом лиственном фоне, Аля быстро куда-то уходила; с сумкой на плече – значит, далеко, а у него не отпросилась. Эта мысль обидчиво мелькнула в уже отяжелевшей голове – но высказать ее вслух он никогда бы не решился: эта женщина ведь не сиделка и не прислуга при нем, а помощник, вроде секретаря, – так между ними уговорено еще два года назад. А то, что она иногда добровольно выполняет что-то и по дому – то приберется немножко, то сварит что-то нехитрое, то стиральную машину запустит – все это просто потому, что отношения у них давно уж установились дружески-домашние, и вообще ему легко в ее светлом присутствии…
Жила Аля в гостевом домике с кухонькой – сама настояла на такой автономности, и он теперь ревниво за ней подглядывал: вдруг мужика начнет водить, ведь не может же быть, чтоб такая красивая – и без мужика обходилась! Или может? В городе помощница просто приходила к нему несколько раз в неделю, забирала его бумаги и рукописи, которые требовалось привести в порядок – то есть, перепечатать на компьютере, выправить и отослать, куда нужно, следила, чтобы все потребное для работы – краски там, кисти, холсты, рамы и прочее – всегда было закуплено в необходимых количествах; принимала заказанные им продукты и вещи, вела деловые переговоры на трех языках, встречалась с нужными людьми, согласовывала план его выставок и текущей работы… Со временем он стал доверять ей буквально все, радостно перевалив на ее плечи нудные технические заботы, всегда отвратительные сердцу творческого человека, – даже доверенности на банковские счета ей выдал, умеренно прибавив зарплату, чтоб и денежными делами его ведала. Тут несколько раз, конечно, устраивал без предупреждения тайные проверки, про себя называя их метким выражением «внезапный сыч», – так говорил в незапамятные времена злорадный математик, объявляя ученикам неожиданную контрольную. С женой приятеля, молодящейся ушлой особой, он шел по своим банкам, скрупулезно проверяя движение денег, доверенных секретарше, – и каждый раз убеждался в их полной сохранности и даже некотором плодоношении, что свидетельствовало о совершенной Алиной честности.
- Дальше так же будет, ты и сомнений не держи, – уверяла ушлая особа. – Она по мелочи не проколется. Она возьмет все и сразу. Когда женит тебя на себе и унаследует все до копейки – плюс недвижимость и работы…
- Она прекрасно знает, что все завещано моей дочери, – сухо отвечал Алексей. – Да если б и не было завещано – не убивать же она меня собирается! А без этого можно сколько угодно прождать и не дождаться: никто же не знает, кому первому…
- Ну, значит, она в один прекрасный день отчалит со всеми твоими деньгами куда-нибудь в Австралию, – усмехалась жена приятеля, и было кристально ясно, что сама она, доведись ей оказаться на месте Али, поступила бы именно так. – И иди, доказывай, что ты не верблюд.
- То есть, в человеческую честность и искренность ты вообще не веришь? – покрываясь пятнами, пытал он.
Она усмехалась еще гаже:
- Верю… До определенного предела. Но только не в то, что красивая сорокалетняя баба с высшим образованием, языками и несколькими востребованными специальностями будет за копейки гнобить свою жизнь в качестве девочки на побегушках у, извини, старого гриба. Частным образом – без стажа, без пенсии! Из любви к искусству, думаешь, она это делает? Брось. Прекрасно знает, что завещания сколько угодно раз переписываются. А еще пишутся, например, дарственные…
- Я не дурак! – вспыхивал Алексей. – Все точки над «i» я расставил сразу же, чтобы исключить всякие поползновения! В первые же недели ее работы нашел предлог – и разъяснил. Без подробностей, конечно, но сказал, что перед дочерью серьезно виноват: из семьи ушел, когда ей два годика было, вообще после развода ею не занимался, потом слинял во Францию, создал школу своего имени, интересовался только собой и искусством, даже алиментов не платил – ее мать на них не подавала, я и радовался. Завещание написано и многое ей возместит – насколько возможно, конечно. Ясно, что детство без отца не заменишь, но все же…
- Ох, беда с вами, мужики! – тяжко вздыхала умудренная жизнью женщина. – На всю жизнь – дети. И берут вас тепленькими, как младенчиков из люльки…
Этот разговор, с вариациями, повторялся не один раз – и однажды Алексей, не выдержав, рявкнул громовым голосом:
- Хватит уже! Достала! Устраивает она меня, поняла?! А почему работает – не мое дело, и уж не твое тем более!! Значит, удобно ей так по каким-то соображениям! И закроем эту тему, иначе я не знаю, что!!!
Друг с супругой ненадолго обиделись, но через месяц уже, как ни в чем не бывало, пригласили его на свой убогий вернисажик, а к больной теме больше не возвращались – и прекрасно… Алексей проводил взглядом холодное синее пятно Алиного полупальтишка, быстро сгинувшее в желтизне. Он очень хотел уверить себя в том, что знает о причине того, почему она с ним тут… нянчится. Аля, скорей всего, любит его, вот что. Почти тридцать пять лет разницы? Да они не чувствуются совсем! Он молод душой, широк в плечах, богат духовно, да и с лица… Алексей пододвинул к себе круглое зеркальце, давно валявшееся на подоконнике среди сосланных туда с рабочего стола безделушек. Какое счастье, что среди его здоровых генов не оказалось самого коварного – ведающего облысением! Что ни говори, а лысая голова сразу превращает самого моложавого мужика в старого хрена – у него же пышная белая шевелюра, он специально не стрижется коротко. А вот борода и усы, наоборот, не седеют, оставаясь молодо каштановыми. Не зря он почти двадцать лет прожил на юге Франции, незаметно продубив и просолив кожу на ласковых средиземноморских ветрах – и она не высохла, не сморщилась к семидесяти, а обрела замечательную гладкую плотность и красивый медный оттенок. Широкие брови ничуть не ощетинились, оставаясь густыми, темными и шелковыми, да, в добавок, с возрастом откуда ни возьмись явился некий трагический излом посередине: женщины, которым удавалось дорваться до его лица, первым делом принимались наглаживать ему брови пальчиками – и каждая считала, дура, что она первая и последняя оказывает эту утонченную ласку, – а он еле от смеха удерживался… Ну, глаза хотелось бы, при остальных впечатляющих красках, иметь голубые – хотя они бы сейчас уже, пожалуй, выцвели, стали водянистыми – а вот его классическим серым ничего не делается – зато взгляд выразительный! Старость не уродовала его, и Алексей прекрасно сознавал, что и сейчас многие женщины не отказались бы от его даже мимолетных объятий! Другое дело, что в этом отношении несколько, может, излишнее в прошлом гусарство сыграло с ним злую шутку: теперь любые его поступательно-возвратные движения могли длиться не более тридцати секунд, после чего он отваливался потный, злой и мечтающий немедленно закурить… Именно поэтому Алексей и не приближал к себе Алю окончательно: та неловкость, что неизбежно возникнет между ними после подобной попытки (понятно, что деликатная Аля будет настаивать, что все очень хорошо, что для нее главное – близость с любимым, и нести прочую баюкательную чушь), постепенно изнурит их обоих, вызовет в нем чувство вины, неминуемого раздражения – и Аля окажется потерянной навсегда. А он уже привык к ее ненавязчивой заботе, к теплым лучикам, бежавшим из золотистых глаз молодой женщины, когда они, бывало, вечером пили в студии после работы чай с лимоном и рассказывали друг другу забавные истории, да и к укладу всей жизни, незаметно ею установленному, прекрасно приноровился… И вообще любовался: тонкими рыжеватыми волосами, просвечивающими на свету, традиционным пушком на скуле, хрупким запястьем с золотой цепочкой скромного девичьего браслетика, неожиданно округлыми коленями под женственным воланом… Придется менять все это не пойми на что, приспосабливаться… Нет, пусть уж так пока. Потом видно будет… В Петербурге он мысленно выводил за скобки собственного бытия ее туманную «личную жизнь» без него – предпочитал просто не думать об этом. Знал, что родителей своих она не помнит, что воспитали ее бабушка с дедушкой, которые уже умерли, – и оставили ей при этом большую солидную квартиру на Петроградке, что замужем была один раз, коротко и несчастливо, что детей не нажила и не стремилась, близкими подругами не обзавелась… Но все глаголы употреблялись ею неизменно в прошедшем времени, про сегодняшний день за порогом его дома и мастерской Аля не говорила ни слова – и он стеснялся спрашивать. То есть, не стеснялся, а боялся ее гипотетического честного ответа («Живу с другом, планируем весной пожениться, а вам придется подыскивать другого секретаря» – и ясно глянет со счастливой виноватостью), который положит конец чему-то простому и доверчивому между ними, потому что станет достоверно известно: это – женщина другого; каждый вечер, проводив ее до двери, Алексей начнет представлять, как она сейчас войдет в свою уютную квартиру, как они сядут вместе ужинать (и, может, походя высмеют его, старого хрыча, по ее наводке), а потом… Ну, разумеется, они же оба молодые и сильные!
Но теперь – хочет он того или нет – а узнать точно придется: если у Али кто-то есть, то не расстанутся же они на всю осень! Значит, она будет регулярно ездить в город или принимать своего самца здесь… Еще, пожалуй, гулять пойдут у него на глазах – к той же Голове, которая как торчала, так и торчит, говорят… И не запретишь: он всего лишь работодатель, ее проживание во флигеле со всем компьютерно-принтерным царством – как бы часть секретарской работы, а личные дела в свободное время его вроде как и не касаются! Черт знает, что такое… Вот сейчас куда она отправилась так уверенно и в городском пальто?!
Руки отчетливо дрожали, когда он наливал себе третий стакан. «Все-таки многовато выпил…» – прошла неясная мысль. Сердце колотилось часто-часто, стало чуть труднее дышать. Как только Алексей осознал это последнее вполне отчетливо, из глубины души стала бурно подниматься оглушающая паника – неудержимая, как вскипающее молоко, только эту конфорку было не так просто выключить! Но если процесс не удавалось немедленно остановить, то происходящее быстро выходило из-под контроля полностью, сердцебиение зашкаливало за порог выносимости, появлялось страшное ощущение мягкой руки, постепенно сжимающей дыхательное горло, воздух ходил туда-сюда с ужасающим шипением, казалось, еще чуть-чуть – и доступ ему будет полностью перекрыт и начнутся настоящие смертные муки висельника… Нарастал слепой холодный ужас, занимал собой всю душу, переполнял ее, затапливал окружающее пространство – бежать было некуда, и помощи не у кого просить. Ясно работавшим в такие минуты умом Алексей понимал, что на самом деле никаких механических препятствий дыханию ни снаружи, ни внутри не существует, кислород поступает и смерть не грозит, – но реальность смещалась, раскалывалась, рушилась, исчезало время, и оставалось только страдание. Когда это случилось с ним впервые – лет пять назад поздно ночью в небольшом номере тихой гостинички захолустной Любляны – он выскочил в коридор с воем и нагишом, до полусмерти перепугав черноглазую хорватку на рецепшн, и с тех пор это повторялось с пугающей регулярностью раза три-четыре в год, а здесь, в обновленном почти что родовом гнезде у залива, грозило произойти уже второй раз за последнюю неделю... «Нет. Нет. Ты же видишь – воздух поступает свободно. Вдохнуть. Еще раз. Ну вот, ты же чувствуешь, что легкие наполнились, значит, организму вполне хватает кислорода. Вдох – выдох… – с сомнительной твердостью начал Алексей про себя. – Ничего особенного – просто паническая атака… Со многими бывает – и ничего, даже с Алей… Она говорила – принять валосердин… Надо на кухню, в холодильник… Встать бы только с этого кресла… Когда я в него сел?! У окна же стоял! Скорее, пока не началось! Нет, начинается, начинается!!! Проклятье!!! А-а-а-а!!!».
Он рывком выбросился из уютного древнего кресла, покойного, недавно обтянутого мягкой темно-коричневой кожей, метнулся к двери, дробно посыпался по новой, с резными перилами, деревянной лестнице, сладко пахнувшей пиленой сосной, ворвался, прижав руки к груди, в просторную кухню (красота кругом: кожа сочно-бордовая, панели темного дерева, авторский кафель с акварельным узором – все та же Аля-На-Все-Руки-Мастер эскиз рисовала и подбирала материалы, так что и на дизайн-проект тратиться не пришлось, работа как бы вошла в ее обязанности универсальной секретарши – нет, расставаться нельзя) – распахнул холодильник – ага, вот эта коричневая, с голубой этикеткой – сорок капель – нет, лучше пятьдесят…
Обычно после этого сердце постепенно замедляло, выравнивало свой неистовый гон, дыхание открывалось, прояснялись мысли, приходило четкое осознание зряшности пережитого стресса, собственной мнительности, основанной на маниакальном страхе внезапной смерти. Но сегодня все происходило не так: рот наполнился жидкой слюной, одеревенел язык, в голове стремительно путалось и темнело, подкашивались ноги, а руки, которые Алексей специально пытался поднести к глазам, не слушались, будто лишенные костей. Он понял, что сейчас мешком осядет на пол, шагнул к дивану, не чувствуя ног, но все же кое-как переставляя их, и повалился на гладкую пахучую кожу лицом вниз, как мягкая кукла с битой фарфоровой головой… Где-то он такую видел… Давно.
В жизни Щеглов состоялся – потому что вульгарно сбежал на Запад в середине семидесятых, когда рука окрепла, но задор еще не прошел. Не пожелал двойной жизни, на которую обрекали его Советы, – как и всех пишущих, рисующих, ваяющих, поющих, играющих, сочиняющих, танцующих и прочих дирижирующих, вернее, тех из них, которые параллельно являлись еще и думающими, а, следовательно, страдающими. Сбежал в прямом смысле слова – ногами и бегом – в Париже, куда (совершенно случайно, шансы на другой шанс стремились к нулю) вырвался в составе вполне себе политкорректной делегации молодых художников-соцреалистов: с еще не погасшей угодливой улыбкой на лице без предупреждения ринулся прочь от намертво, как моллюск-убийца с ядовитыми присосками, прилепившегося дружелюбного кагебешника. Тот просто не сумел догнать длинноногого невозвращенца, с риском для жизни мчавшегося на красный свет наискосок через оживленную улицу. Франция с равнодушным радушием приняла его – имевшего при себе два франка, но не смену белья и одежды – спасибо ей, неотразимой мировой проститутке, великой парфюмерной державе! Нет, Алексей предателем не был: он понимал и умом, и сердцем, что покидает страну поистине великую, которой еще предстоит опомниться, но непохоже было, что это произойдет достаточно скоро, – а его время ощутимо таяло, и все естество бунтовало против того, чтобы превратиться еще в одного мученика несокрушимой Системы, на должности учителя рисования в средней школе или художника-оформителя ЖЭКа, гордящегося тем, что не изменил земле предков. И в конце нулевых – известным российским авангардистом, основателем собственной школы, не похожей ни на одну другую, и – да! – очень обеспеченным человеком – вернулся! Новой семьи не создал, хорошо понимая, что это гиря на ногу крылатому человеку, а старая… Жену он бросил за два года до побега – потому что банально остыл к ней, и жить рядом стало невмочь – аж зубы сводило. Маленькая, еще не очеловечившаяся дочка вызывала поначалу только абстрактное чувство гордости за удачное осеменение – но оно быстро потускнело, съежилось под счастливым бременем тайного запойного творчества и будоражащего одиночества в мастерской за редкими, но денежными халтурами, обеспечившими не только основные жизненные потребности, но и несокрушимую благонадежность, сыгравшую однажды свою решительную роль. Его открытой для худсоветов нишей стали будни модных комсомольских строек: разного рода венеры, вываливающие тяжелые колосья волос из-под касок электросварщиц, и обнаженные по пояс мускулистые красавцы-метростроевцы шли нарасхват – только места надо было знать…
Последние годы, по возвращении, застряла в нем одна странная, неожиданная заноза: вдруг показалось, что, привыкнув к бесконечным вольностям ставшего родным авангарда, он как бы утратил классические навыки. «Да не пиши ты меня Женщиной-Танцем! Или Женщиной-Зимой! Напиши ты мой нормальный портрет, с руками и ногами – и чтоб лицо было на голове, где ему и положено! Ты что – разучился?» – истерила молодка-любовница, красиво позируя на диване. Он хотел угодить ей, злился на нее и себя, похабно орал, швыряя палитру через всю студию, – и с ужасом видел неудачную компоновку, слишком длинные руки с не поддающимися никаким усилиям кистями, невыразительное, плоское лицо, совершенно не желавшее дать какой-нибудь убедительный рельеф или хоть проблеск жизни… «Кто разучился?! Я?!! Да что ты можешь понимать! Я – Щеглов, к твоему сведенью!» – рычал Алексей и чувствовал, холодея, что именно разучился, разучился тому, что казалось раньше самой простотой, от чего бежал, презрительно кривя губы… Он рассорился с женщиной, не завершив портрет, придумал приличный предлог – она-де слишком требовательная и вздорная – и выставил вон из своего дома и жизни, причем с отчетливым сожалением, потому что не успел переболеть ею до конца и с удовольствием еще месяц-другой повозился бы… Долго мучился, пытался делать карандашные зарисовки, – собаки, деревья – как в детстве – но ни в чем не повинный зверь сам собой превращался в нечто лоскутное с множеством когтистых ног, а дерево представало клубящимся вихрем… Он так видел. Он теперь так видел. Убеждал себя, что умеет распознать и запечатлеть суть, а работа над бренной формой – удел посредственности, верил в это – не вешаться же! – но становилось вдруг жутко иногда, когда даже клубком свернувшаяся на диване чужая кошка отказывалась послушно перекочевать на белый лист как была, без лишних глаз и женских волос...
Где-то сбоку послышался четкий стук острых каблуков, больной хотел позвать: «Аля!» – но с трудом выдавил лишь сиплый жеваный звук. Каблуки приблизились, в темноте над лежащим кто-то склонился – и отчетливо нависла чужая, будто незнакомая аура. Почему он сразу понял, что это не она? Запах! Да, да, запах – душный и тяжелый, женский. Алины духи он знал: они пахли весной – южным ветром, лопнувшими почками, первой легкой грозой, яблочным цветом… Эту весну она всегда носила с собой, как вечную молодость. Над ним стояла не Аля – кто-то другой.
Алексей в ужасе открыл глаза, увидел только тьму и вдруг парализующее испугался, что ослеп, – ведь только что, когда он спускался за лекарством, был замечательный пасмурный, но сухой осенний день – с листвой цвета карри и старого лимона, с высоким простоквашным небом в брызгах райских яблочек! Он вздрогнул, рванулся сесть, бурно дыша, простер руки – и будто мазнул кончиками пальцев по чему-то рыхлому, сразу отпрянувшему… Голос прорезался, и несчастный гулко протрубил: «А-алл-ю-у!!». Шаги, приподнявшиеся с каблуков еще выше, на цыпочки, с шуршанием унеслись, ясно скрипнула туда-сюда дверь, но зато он теперь знал, что со зрением все в порядке, потому что одновременно с дверным скрипом мелькнул тусклый, будто дальний свет. Он сидел на диване, свесив ноги и едва переводя дух.
Значит, правда. Значит, не казалось. Значит, и то – тоже было. Но так отчетливо – в первый раз… Сначала у него сама собой переместилась рукопись. Обычно он раньше десяти никогда из постели не выбирался, а тут вдруг ранним утром одолело нечто вроде невнятного эротического сна – вылез босиком, потный и плохо пахнущий, на кухню за минералкой – и с изумлением обнаружил прямо на кухонном столе свою едва начатую амбарную книгу. Да, действительно, он накануне перечитывал написанное за день, нежась на упругом диване со стаканчиком арманьяка, но ведь перед сном пунктуально отнес все бумаги наверх! Или не отнес? Аля встала в своей избушке рано – ключи от дома у нее тоже есть, разумеется, – прошла за чем-то, имея твердое на то разрешение, в его кабинет – и заинтересовалась, а потом забыла вернуть? Это настолько на нее не похоже, что даже рассматривать смешно! Тогда Алексей первым делом проверил дверь – оказалась запертой… Пришлось обозвать себя маразматиком и признать, что наверх отнести все-таки лишь собирался…
Через день, возвращаясь в дом из вконец одичавшего сада, который тщетно пытался обследовать, увидел в окне привидение. Случайно поднял взгляд на свое почти чердачное оконце, как зачем-то каждый раз делал юнцом, подходя ко входу, – а там словно кто-то отскочил от окна, и отчетливо дрогнула отодвинутая занавеска! Поскольку ни в каких призраков Алексей отродясь не верил, возможность галлюцинаций у себя признать не хотел, а секретарша еще полчаса назад отправилась на рынок в Ораниенбаум, то первым делом он подумал о воре, потому что дверь за собой, выходя, не запирал. Поколебавшись, все-таки боязливо сунулся на веранду, постоял, послушал: ни шороха, ни вздоха; повел глазами туда-сюда: ничего, чем можно было бы, если что, защититься! Осторожно глянул сквозь стекло на кухню: никого – зато, бесшумно пробравшись туда, вынул тесак поувесистей из подставки для ножей! Чувствуя себя чуть более уверенно, как и всякий мужчина, которому удалось заполучить какое ни есть оружие, двинулся в обход владений – но лишь убедился, что дом совершенно пуст и противоположная дверь, выходившая когда-то на задний двор, а теперь – прямиком в заросли чубушника, заперта на четыре оборота ключа. Снова обругал себя, на этот раз – неврастеником, рухнул прямо в рабочей куртке в кресло, жахнул полный стакан чего-то крепкого из первой попавшейся бутылки – и только тогда перестали трястись руки… К слову сказать, первая паническая атака здесь, на даче, случилась именно тогда – но удалось выскочить на воздух, продышаться, отсидеться на крыльце до Алиного возвращения… И еще в кармане куртки оказался телефон – Алексей долго истерически жал единицу, установленную в качестве «горячей кнопки» Алей на саму себя, – и действительно, скоро услышал ее близкий, теплый, слегка мурлычущий голос, сразу вселивший надежду и покой: «Сейчас, Алексей Саныч, я уже подъезжаю…».
Вспомнились и мелочи – вроде странных шумов и шорохов – но, будучи человеком искусства, он с романтическим удовольствием думал о том, что старые дома, даже те, в которых, как в этом, внешне ничего не осталось от прежнего, все равно живут своей таинственной внутренней жизнью и, может быть, тоже умеют вздыхать и плакать о былом… А может, сверчок какой-нибудь за печкой поселился, или мыши наведываются… Он взрослый нормальный мужик – и что, пугаться всего этого должен? А еще лучше – взять и сказать Але: давай уедем, мне тут страшно, и все время кажется, что в доме кто-то есть. Она решит, что старик начал впадать в детство, – и уж точно никогда… А ему еще хотелось надеяться, что у них просто все развивается – медленно, постепенно, неторопливо, и когда-нибудь, если он сам решит попытаться…
Но теперь, постепенно приходя в себя в неожиданной тьме (выходило, что вырубился не менее чем на полсуток, хорошенькое дело!), он начал осознавать, что все странности, происходившие с момента приезда, неслучайны и зловеще связаны между собой. И другое смутно припоминалось: будто даже слышал сквозь глубокий сон что-то угрожающее, ярко осознанное, но сразу позабытое, – а потом списал на кошмар… Так, надо валить отсюда. Утром же он скажет Але, чтоб собиралась, – наплевать, что ей там покажется: она наемный работник и пусть делает, что велят! Очевидно же: по дому кто-то беспрепятственно шляется, баба какая-то, – не хватало только, чтоб его тут зарезали! Кстати, откуда он понял, что баба? Духи? Нет, что-то другое, какое-то более глубокое узнавание… Да какая разница – просто унести бы ноги!
Алексей уже достаточно окреп, чтобы подняться, уверенно шагнул к стене, нашарил выключатель… Мягко зажегся неяркий, уютный свет, все кругом выглядело надежно и дружелюбно, будто родное, – а ведь он чуть больше недели здесь прожил, вот чудеса! Во всем этом была, конечно, полная Алина заслуга: как только он рассказал ей между делом об этой давно забытой и покинутой своей недвижимости, она загорелась и сначала создала дизайн-проект от «а» до «я», потом полгода неустанно моталась на своей маленькой, красной с черным, похожей на юркую божью коровку машинёнке, между городом и этой чужой для нее дачей – контролировала каждый шаг работников, носилась в Питере по магазинам, выбирая материалы, мебель и фурнитуру – от наружной штукатурки и краски до ручек шкафчика в ванной – душу вкладывала, старалась угодить, ни копейки не взяла за эти лишние хлопоты! Конечно, она любит его, что и говорить, и нет у нее никакого другого мужика: так только о любимом заботятся! Так вьют только собственное будущее гнездо! Вот уж дом-то он ей в любом случае завещает, дочери и так много всего достанется… Это Аля уговорила его приехать сюда на осень, чтобы и отдохнуть, и поработать всласть, от души, на свободе – и (об этом, конечно, промолчала) побыть с ним наедине, еще больше сблизиться… Она уже и стряпает ему почти как мужу, и одежду его в машинке стирает… Какая же она секретарша – она почти жена, только без секса… Пока… А завтра он скажет ей, что они немедленно уезжают, бросают этот выстраданный ею дом, быть может, навсегда, потому что ему сначала грезились в нем привидения, потом слышались странные звуки, и в конце концов спьяну померещилось, что в темноте над ним склонилась посторонняя женщина… Хорош он перед Алей окажется, нечего сказать! Нет, посмешищем для нее становиться Алексей не собирался. Ничего он ей не скажет. С сегодняшнего дня возьмет себя в руки, ограничит коньячок до… Ну, скажем, не больше стакана в день – но маленькими порциями. Будет дышать здоровым осенним воздухом, ходить на этюды – как там залив поживает, больше полувека его не видел! – а рано утром и по вечерам работать над воспоминаниями: ведь неплохо, черт возьми, получается, и, кажется, проглядывают не банальные мемуары, а что-то похожее на большую интересную повесть… Да и надо, наконец, выплеснуть вон из души эти мутные помои, застоявшиеся там за столько лет! И еще одну очень важную вещь предстояло Алексею обдумать и решить: надо ли встретиться с дочерью по возвращении в город? Найти ее просто – той же Але поручить, и все дела – а дальше что? Спрашивать, как там ее мать? Оправдываться? А вдруг она совсем не такая, как он вообразил, – не симпатичная питерская интеллектуалка, а, скажем, покатилась по наклонной плоскости, разведенка, мужиков меняет? И что тогда – переписать завещание? На кого – на Алю? Хм, вот и получится, как та ушлая баба предупреждала: секретарша женит его на себе, уморит и все унаследует… Глупости, Аля не такая, она как не от мира сего… Но в любом случае надо найти дочь и поговорить с ней. Или не надо? Подставлять себя под какие-то вопросы, упреки, может быть… Других детей у него нет, в браке он не состоит, она бы и по закону все за ним унаследовала, так что какая, в сущности, разница…
С женой, Оксаной, и правда не очень красиво получилось, и даже теперь, почти через сорок пять летучих лет, пронесшихся со времени их болезненного развода, при мысли о том, чтобы встретиться с ней взглядом еще раз, Алексей внутренне съеживался… Делал в просторном холле новой больницы стенную роспись на тему трудовых будней отечественных медиков – заказ, добытый по чьей-то наводке, – зацепился взглядом за симпатичную ординаторшу-ровесницу… Оказалась из хорошей семьи, «честная», как тогда говорили. Хорошо быть бабой: их глупая «честь» не требует настоящей ответственности перед людьми, умения быть настоящим другом и вовремя подставить плечо, не предать в критической ситуации – и заключается только в наличии одного неповрежденного кусочка слизистой, а все остальное, как бы и необязательно – разве что хозяйственность лучше бы присутствовала… Алексей так зациклился на этой задумчивой тихоне с коровьим взглядом, что с лету женился, не видя иного способа укрощения строптивой докторицы, – а потом она надоела ему точно так же, как и прежние, охомутать его не сумевшие пассии. Только вот наскучившая до посинения зубов женщина стала его женой и матерью его ребенка, и потому нельзя было легко избавиться от нее в течение нескольких минут, всего лишь уронив свою коронную фразу: «Извини, но ты больше меня не занимаешь». Наоборот, бросив жену с годовалой дочкой на руках, он мог серьезно повредить себе во всех многочисленных смыслах, опутывавших существование любого советского человека, желающего достичь успеха выше среднего на любом, даже скромном поприще. И, кроме того, объясняться с женщиной, доказывать ей очевидность ее собственной вины в мужском к ней охлаждении Алексей считал унизительным и пошлым. Еще год ушел на то, чтобы вынудить ее проявить инициативу развода самой: он почти переселился в мастерскую, не звонил и не приходил в квартиру, где они жили с престарелой, почти полностью глухой бабушкой Оксаны, занимавшей просторный чулан, лишь иногда оставлял немного денег под вазочкой на секретере, воровато заскакивая домой в те часы, когда было достоверно известно, что жена гуляет с коляской или увезла дочку в детскую поликлинику. Своего он добился, причем, совершенно неожиданно. Однажды Оксана решилась на серьезный разговор с мужем, стремясь вовсе не разрушить, как он потом понял, а, наоборот, сохранить их обреченный брак, – и сама приехала к нему в мастерскую на Кондратьевский, с окнами на круглосуточно ревущий Металлический завод. Зная, что работает он чаще всего в дальней, специально приспособленной комнате, где нежный звук дверного замка почти не слышен, страдалица открыла дверь своим, от прежних тучных лет сохранившимся ключом – и застала его с раскованной юной барышней, охотно берущей у мэтра урок – но не живописи, а французской любви… Никакого выяснения отношений, из тех, каких Алексей панически боялся вслед за любыми мужчинами всех времен, не последовало: не обратив никакого внимания на вакханку, нырнувшую под одеяло в ожидании, что ее сейчас будут бить, Оксана несколько минут серьезно разглядывала своего голого мужа, стыдливо прикрывшего обеими ладонями мгновенно сморщившийся орган полета, – потом повернулась и без единого слова ушла. Алексей был оскорблен: она не имела права! Он ей не какой-нибудь, чтоб даже не удостоить обвинениями! Он не мальчишка, чтобы бежать за ней и оправдываться, как она, быть может, надеялась! В следующий раз они встретились уже в суде, куда жена подала на развод по банальной причине – не сошлись, дескать, характерами, – причем, даже не потребовала алиментов. В клюве он носить ей не собирался, потому что воспринял это как очередной плевок в свою сторону: она, мол, чистая праведница, а он злодей и преступник. Ничего, дите кормить нечем станет – еще на коленях приползет. Да, дочь-то он, что – тоже, выходит, бросает? Нет, просто это – попозже: сейчас она все равно еще не человек, а комок мяса, который никакому воспитанию не доступен, – только попу подтирать, спасибо большое… А вот когда ей будет годика три-четыре, и она начнет понимать, – тогда… Но когда дочке исполнилось четыре, Алексей уже жил в Париже, где дело с противозачаточными средствами обстояло очень хорошо, и никакое внезапное отцовство ему не грозило…
Он не замечал, что, задумавшись, снова тянет руку к стойке с бутылками, рассеянно наливает себе коньяку, слегка полощет им свой гадостно воняющий спросонья рот, делает сильный теплый глоток… «Сейчас не буду об этом думать… Вот повесть закончу, вспомню, как люди этюды пишут… В себя немножко приду – а то юла юлой все эти годы верчусь. В Питер зимой приеду – тогда уж… Хорошо, что никто не звонит, не лезет… Все деловые звонки Аля взяла на себя. Остальные… А где они, эти остальные?..». С легким удивлением он понял, что не только никто из многочисленных знакомых давно не звонил, но и что звонить кому-то не хочется. Одолевала вязкая слабость – ноги сами привели обратно к дивану; локтем прикрыл лицо, подчиняясь вновь подступившей дремоте.
Глава III
Что в имени тебе моем
Как ее зовут на самом деле, Лёся узнала только в пятом классе, когда впервые, позволив соседке по парте Люде подбить себя на преступление, пыталась выкрасть для той после уроков классный журнал из учительской. Сама соседка – интеллигентная тихоня с кристальным взглядом, послушная незаметная хорошистка, у которой кто-то в семье «плавал», благодаря чему она с четвертого класса приносила в туалет пластмассовые шарики с глазком, сквозь который можно было лицезреть объемные порнографические картинки, – вызвалась шухерить у дверей снаружи. Увидев в конце пустого коридора пышную белую прическу директрисы, Люда безмолвно и бесшумно сбежала, предоставив незадачливой подельнице быть пойманной с поличным, – но до того, как дверь позади распахнулась, явив в проеме Самого Страшного Человека в школе, Лёся успела найти искомое, откинуть твердую коленкоровую обложку, судорожно листнуть зеленоватые линованные листы и изумленно убедиться, что под фамилией «Щеглова» в их пятом «б» числится некая неизвестная Елена.
Уже дома, как следует проплакавшись в углу, отправленная туда на целых полчаса негодующей матерью, прочитавшей в дневнике дочери убийственно алое, будто Лёсиной кровью написанное, краткое, но все равно занявшее почти страницу изложение сути ее преступления, девочка рассказала матери о своем случайном открытии. Мама неохотно подтвердила, что, да, именно так сразу же назвал ее отец в честь собственной покойной матери, а в Лёсю малышка случайно превратилась через год, когда над ней умилялась вторая, тоже уже покойная бабушка, без конца шепеляво вопрошавшая: «А кто это у нас тут такой холёсий?!». «Лёся! Лёся!» – пускала в ответ слюни пузатенькая карапузиха – и таким образом сама организовала себе идиотское прозвище, приставшее на всю жизнь. Насчет отца все давно было навеки растолковано: его дочь твердо знала, что «он живет далеко отсюда и, наверное, давно нас забыл», никакие подробности не допускались, а вопросы пресекались матерью на корню: «Все произошло очень много лет назад, и я ничего не помню». Это девочка прекрасно понимала: ведь если она сама, вызванная к доске отвечать заданное на дом стихотворение, вдруг обнаруживала, что не помнит ни слова, то не было на свете силы, способной вернуть его к жизни в ее поникшей головке. Так, должно быть, и старенькая мама забыла папу – ничего особенного: она вечно все забывала – то очки, то квартирные жировки, то оплаченные продукты на прилавке магазина… Должно быть, потому, что всегда думала о важных и сложных проблемах: как спасти жизнь очередному тяжелобольному, как убедить осторожного до трусости заведующего отделением, что приговоренного неоперабельного еще можно прооперировать, как, наконец, воспитать приличным человеком свою глупую, легкомысленную и ленивую дочь…
Следующий шок поджидал ее через три года, когда в конце уже восьмого класса, на торжественном вечере, где вручили (и почти сразу отобрали) свидетельства о неполном среднем образовании, кто-то из одноклассников, увидев, как крупная седая женщина в темном платье гордо разглядывает Лёсины первые официальные «корочки» без троек, спросил ее: «А что, у тебя только бабушка пришла?». Девочка вздрогнула, глянула на маму – и как из-под воды вынырнула: та выглядела мамой не ей – а всем остальным присутствующим мамам – увлеченным аэробикой, стриженным «каскадом», с блестками на веках и в прибалтийских кофточках с рукавами «летучая мышь»; некоторые из них казались старшими сестрами своих нарядных, в платьях с рюшками, дочек! Лёся знала, конечно, что ее маме только что исполнилось сорок, но, считая десятиклассниц своей школы уже недостижимо взрослыми, она невинно и вполне искренне причисляла к старушкам всех женщин, перешагнувших роковой тридцатилетний рубеж. Привыкнув к своей спокойной и всегда занятой маме, дочка находила вполне естественным, что та годами носит с октября по апрель одно и то же темно-синее пальто с черной каракулевой полоской воротника и глубокие плоские боты на толстой несносимой подошве, а ее новые платья и кофты, изредка попадающие в их общий трехстворчатый шкаф на замену окончательно изорвавшимся, покупаются по вечному триединому принципу: просторно, немарко, прочно. Ее густые, не ведающие о существовании презренной краски, почти полностью седые волосы были коротко и ровно подстрижены и забраны с высокого умного лба простым пластмассовым гребнем; бледно-фиолетовые губы точно так же не знали помады, а крупные чуткие руки – ни лака, ни колец (находясь, правда, в тесной дружбе со спасительным детским кремом, потому что порой начинали адски зудеть и шелушиться от вечных хирургических перчаток и дезинфицирующих растворов). Лёся была смутно убеждена, что все женщины от сорока и старше так и должны выглядеть, что такой станет и она сама где-то в необозримом далеке своей жизни, когда, как и толстовская сорокалетняя Анна Павловна Шерер, увидит в зеркале «отжившие черты лица»… Но в тот день, когда на своем первом почти взрослом (до полной взрослости не хватало, по ее мнению, двух длинных лет, но об этом пока не хотелось думать) празднике школьница увидела совсем других сорокалетних женщин, про которых, встретив их на улице, решила бы, что им лет двадцать пять, – тоже много, конечно, но все-таки еще не старость – в ее сознании произошел внезапный и весьма болезненный переворот.
Позже, лежа белой ночью в белой постели и слушая, как через равные промежутки времени шелестят за шкафом белые же страницы скучной медицинской книги – мама готовилась к завтрашней трудной операции – Лёся потрясенно вспоминала минувший день, видя в нем только их – чужих молодых мам. Вот худенькая, со стрижкой «под мальчика», да и сама похожая на очаровательного долгоногого мальчишку, в ладном джинсовом костюме, рука об руку с такой же высокой и стремительной дочерью, летит вниз по парадной лестнице белозубая мама Жени Голубевой; вот в модных крупных клипсах в тон иззелена-бирюзовым глазам, в ярком шелковом брючном костюме, явно добытом «по блату», стоит, держа под руку, как кавалера, своего смущенного сына, мама красавца Генки Суворова; а вот ее собственная мама – грузная, в почти мужских полуботинках и простых, «в резиночку» чулках, в глухом темно-сером платье потертой шерсти, с неизменной гребенкой в волосах, похожая чем-то на Надежду Константиновну Крупскую в последние ее годы…
Как такое могло случиться? Ее мама – самая лучшая, самая добрая, самая умная, она не может быть неправа! Все эти пестрые дамочки, скорей всего, какие-нибудь дуры-секретарши, как та, тощая уродка из знаменитого фильма, а у нее мама – хирург, к которому люди мечтают попасть на стол и даже рискуют жизнью, месяцами ожидая своей очереди! Через два года Лёся поступит в медицинский и тоже выучится на доктора, чтобы стать такой же, как мама, уважаемой и незаменимой! Она так же станет сидеть ночами над книгами с описаниями сложнейших операций и – думать, думать, думать, как помочь несчастному человеку, а утром, с прояснившейся головой, несущей в себе готовый новаторский план, на ходу глотая обжигающий чай и пребывая умом уже там, в сверкающей операционной, рассеянно застегивать в прихожей не успевший просохнуть после вчерашнего ливня чуть влажный плащ… Стоп. Такой же плащ, как… у мамы? Коричневый, двубортный, фасона начала семидесятых, с растянутыми петлями и несокрушимыми пуговицами – зато советский, крепкий, которому «еще лет десять ничего не сделается»? А ноги сунет не в югославские лаковые лодочки, какие были на Юлькиной матери, а в эдакие тупоносые галоши со шнуровкой, какие стоят сейчас у них в прихожей, которые зато «широкие и не промокают»? И автоматически прихватит с комода не замшевую сумочку с бахромой снаружи и изящной косметичкой внутри, а вытертую почти до белизны, с ручкой, превратившейся в жеваную тряпку, когда-то кожаную, а теперь уж неизвестно какую кошелку, куда «много всего влезает, даже батон можно на обратном пути запихнуть»? О, нет! Лёся села с колотящимся сердцем, и смятенный взгляд ее уперся в наряженную в дивное цветастое кимоно веселую гейшу, что смотрела с глянцевого привозного календаря за прошлый год, выменянного недавно у одноклассницы на пленивший воображение той настоящий скальпель, долго валявшийся дома без дела. «Даже эта японка – и та женственней и красивей, чем мама!» – прошла отчаянная и крамольная мысль.
- Мама! – жалобно крикнула девочка.
За шкафом послышался удушенный скрип старого венского стула, неторопливое шевеление большого одышливого тела, шарканье жестких кожных тапок… Вышла мама – в старом байковом халате, прихваченном внизу английской булавкой вместо сбежавшей пуговицы, утомленная, отечная, без головной гребенки – косматая… Лёся никогда не могла отождествить ее с юной хрупкой девушкой-студенткой в коротком медицинском халатике на черно-белых фотографиях с сестринской практики на акушерско-фельдшерском пункте в затерянной среди радоновых озер среднерусской деревне. С той симпатичной строгой девушкой, у которой тоже однажды случилась любовь, не хуже, чем у других, и вышла она по той любви замуж, и родилась дочка-пухленыш… Глупость какая – именно эта девушка через двадцать лет тяжело опустилась сейчас на край Лёсиной старой тахты, заставив тягуче взвыть раздолбанные пружины:
- Ну, что – «не спится, няня»? – своим обычным глубоким голосом спросила мать.
Она только недавно перестала скрывать от дочери свое постоянное курение крепких мужских сигарет без фильтра: раньше утверждала, что запах дыма принесло в форточку, а ее одежду прокурили мужчины-доктора на работе. Почуяв родной табачный дух, Лёся сразу почти успокоилась:
- Мама, – привычно подставляя голову под ерошащую ласку крупной маминой ладони, сказала девочка, – а почему ты никогда не носишь красивые платья и, ну… – она смутилась и скомкала мысль: – Серьги там всякие…
- А зачем? – в первую секунду непосредственно удивилась мать, но сразу по-родительски мудро спохватилась: – Ах, да. Насмотрелась сегодня на чужих мамаш, разряженных, как новогодние елки… И обиделась на то, что твоя – не такая, застеснялась… Эх, ты… – она мягко притянула голову дочери к своей обширной, расплюснутой по теплому животу груди. – Детка ты моя, малолетка… Ребенок ты мой, несмышленок…
Лёся уже и сама чувствовала, что вопрос ее глупый, и жалела о нем. Ведь и так все ясно: что ей какие-то чужие пестрые тетки, когда ее мама – вот она, большая, домашняя, надежная… И какая разница – модные ли у нее платья, крашеные ли волосы… Ей-то, своей любимице, она покупает и даже достает через знакомых и польские свитерочки, и вельветовые платьица, а на пятнадцатилетие даже подарила золотое колечко с розовым камушком!
- Тебе-то я ни в чем не отказываю, я же понимаю, как все это для девочки важно… – неторопливо продолжала мама, не отпуская голову дочери и чуть раскачиваясь вместе с нею. – Благо зарплата позволяет – надо же на что-то тратить… Вот через месяц квартальную премию дадут – и пойдем тебе новые часики выберем, старые-то твои уж совсем какие-то замухрышистые, с четвертого класса носишь… Пока это радует – надо радоваться… Всему в жизни свой срок: ветрянкой, например, лучше в детстве переболеть, потому как не дай Бог взрослому ею заразиться – тут и откинешься. Так и с модой, с галантереей всякой. Переболеешь в девичестве – сама потом над собой посмеешься по-доброму. Эти сегодняшние тетеньки – ты на них не гляди: они своими нарядами каждая что-то маскирует или, как доктора говорят, компенсирует. Одна – какое-нибудь голодное детство с единственным платьем на трех сестричек, другая – мужа пьяницу и бабника, третья – ненавистную работу, четвертая еще что-то… Ты когда-нибудь поймешь, что если в жизни все хорошо, внутри у тебя гармония и ты занята любимым и полезным делом, то незачем до старости носить брачное оперение… Вот пройдет несколько лет – поверь мне, это случится так быстро, что и оглянуться не успеешь, – и станешь ты врачом-клиницистом или серьезно увлечешься наукой – все равно – и сама удивишься, какими неинтересными тебе покажутся все эти туфельки, заколочки… Даже замечать их не будешь…
- Мама… – неуверенно отстранилась дочь и неожиданно для себя самой произнесла нечто для них обеих удивительное: – А если я стану не врачом? Если я за два года передумаю и решу поступать не в медицинский?
Женщина замерла, будто прозвучало нечто неприличное, и в матовой полутьме Лёся отчетливо увидела, как округлились материнские глаза и приподнялись густые темные брови. Девочка испугалась своей странной дерзости и уже собралась сказать, что пошутила, но мать спохватилась первой:
- Конечно, – сказала она, пожимая плечами. – Просто я как-то привыкла к мысли, что ты станешь врачом, но… Жизнь – твоя, и глупо было бы идти по стопам матери просто потому, что ей так хотелось бы… Работу свою нужно любить – это я точно знаю. Семья может не получиться, детей может не быть – и тогда любимое дело спасет человека… Главное – не ошибиться, минутный интерес не принять за призвание. Но у тебя-то, слава Богу, целых два года в запасе. Успеешь определиться…
Лёся не посмела сказать матери, что она уже определилась, определилась еще сегодня днем, а в течение последнего часа – окончательно. Она увидела, как прекрасна может быть женщина – любая женщина, высокая и низенькая, худая и толстенькая – в красивом платье; и неважно, удачная ли у нее семья, любимая ли работа, хороший ли муж, – она сама по себе восхитительна. И как мерзко, что любую мало-мальски приличную тряпку, способную успокоить и украсить, вселить уверенность в том, что в этой жизни не так уж все и плохо, даже если кругом плохо – все, приходится унизительно доставать, платя втридорога, отстаивать длинные, полжизни отнимающие очереди за красивыми, но одинаковыми для всех, кто сумел урвать их, кофточками… Как хорошо, приятно и человечно стать одной из тех, кто сам придумывает красивую, удобную, нарядную одежду и добивается, чтобы ее пошили и выпустили в продажу, – замечательным, необходимым человеком – модельером…
Лёся еще успела, с молчаливого и чуть усмешливого согласия мамы, окончить непопулярную «Тряпочку» по выбранной специальности – когда вокруг уже все рушилось, как в дурном блокбастере, когда герой – всегда с последним патроном в табельном пистолете – удачно вихляет по жестоко обстреливаемой улице среди хрупких зданий, которые бесшумно обваливаются по обе стороны, уворачивается от горящих балок, пролетающих в сантиметре от его головы, – а зритель отчетливо понимает, что лично ему в такой ситуации и пяти секунд бы не прожить. Вожделенный диплом модельера-конструктора текстильных изделий она прижимала к груди пыльным летом девяносто пятого, стоя среди обломков поверженных финансовых «пирамид», одна из которых за пару месяцев до того как раз и похоронила под собой остатки сбережений ее трудолюбивой матери. Но в тот день того года те темно-синие корочки с гербом уже не существовавшей на карте мира страны, с той профессией, каллиграфически выписанной в них черной тушью, были самой бесполезной вещью из всех, которыми в принципе можно было владеть. А утром следующего мама сказала ей, что диагностировала у себя четвертую стадию рака поджелудочной железы, и жить ей остается от пяти месяцев до семи.
Она прожила почти ровно два, первый из которых только и делала, что сокрушалась, что не может прооперировать сама себя:
- Я так и вижу эту операцию, будто стою у стола! – говорила мама, сидя с ногами на лучшей койке своего отделения, исхудавшая, желтая до мистической жути – настолько, что даже полностью седые ее волосы приобрели оттенок спитого чая. – Здесь желчник, здесь желудок, а тут проток… Вот воротная вена… Верхнюю брыжеечную иссекаем… Лимфодиссекция улучшит прогноз, а травматичность не так уж и возрастет… Куда уж дальше… Ну, узлы – понятно… И по ходу общей печеночной – тоже, иначе зачем и огород городить… Интересно, в нижнюю полую проросла она? А в аорту? Если нет, то можно… В любом случае, отделяем и смотрим… – забываясь, она тыкала стремительно худеющими пальцами в пустоту, явно видя перед собой чье-то чужое операционное поле, и спасала – хоть на год, хоть на месяц, но спасала кого-то другого, вдохновенно импровизировала, озарялась, побеждала…
- Мама, ты так ничего и не расскажешь мне о моем… – Лёся сглотнула, – отце? Ты уверена, что это правильно, что я о нем ничего не знаю?
- А? – очнулась мать и с изумлением вместо родной операционной увидела бежевые стены отдельной палаты, в которую коллеги специально для нее превратили ранее толком не использовавшуюся «вторую бельевую». – А-а… Я думала, ты давно догадалась, просто мне не говоришь… Ну, так вот, твоя догадка – правильная.
- Какая догадка? – опешила Лёся, которой действительно редко приходили озарения, а если вдруг случались – то неудачные, вроде замены блестящего хирурга-онколога на никому не нужного при нынешнем изобилии дешевых шмоток посредственного модельера.
Мама едва заметно усмехнулась незнакомо морщинистым ртом на привычное тугодумие дочки:
- Художник Алексей Щеглов, невозвращенец, которого у нас сначала прокляли, а теперь зовут вернуться… Не однофамилец и не тезка. А именно он. Вернется – повидаетесь. Только навряд ли ваша встреча получится радостной…
- Тот самый?! – подскочила девушка, позабыв об общей скорбности ситуации. – И ты молчала! Он ведь, знаешь, как может помочь нам теперь?! Какие у него там возможности! Тебя могут прооперировать не здесь – в Париже! И спасти! И вообще убраться отсюда, пока целы! Ну, понятно – с тобой он развелся, но я ведь дочь ему родная и, если попрошу…
- Остынь, – коротко приказала мать. – Пока я жива, он ни одной жалобы от меня не услышит. От тебя – тоже. Помру – хоть в ногах у него валяйся.
Лёся вспомнила яркий толстый альбом, полный туманных женских образов о шести руках, но невероятно соблазнительных, увиденный весной на столе у любимой преподавательницы, красивое нервное лицо элегантного мужчины со снежными волосами, вальяжно гуляющего на телеэкране у Триумфальной Арки в сопровождении стриженного «под богему» интервьюера, подобострастно пятящегося с микрофоном… Мгновенно представила его в растянутой тельняшке с жирным пятном на пузе, в их обшарпанной «однушке» – наворачивающим мамин четырехдневный, как Лазарь, борщ за узким прихрамывающим столом, покрытым потертой клеенкой с цыплятами… А что, не уехал бы – почему нет…
- Мама… – прошептала она, схватившись за вспыхнувшие щеки. – А как же ты его… такого… заполучила?
Больная устало откинулась на пышную домашнюю подушку:
- И он тогда был не «такой», и я не «такая»… Иди домой. Спать буду.
Маму прооперировала ее самая толковая ученица – и, кажется, именно по тому грандиозному плану, который мама, то и дело прерываясь, чтобы жадно выпить очередные полстакана воды, жестко чертила перед ней в воздухе, усадив молодую, длинную и тощую женщину рядом на кровать. Со стороны это выглядело фантастично: словно две выпавшие из мира наркоманки, сидя на койке дурдома, разглядывали одну на двоих реалистичную галлюцинацию, не видимую более ни для кого.
- Здесь левее иду? – деловито вела пальцем вверх по пустому месту одна.
- Да, но выше и глубже, – взяв товарку за кисть своей рукой, поправляла ее жест другая.
Операция длилась семь с половиной часов и прошла блистательно.
- Оксана Михайловна, получилось! – с триумфальными слезами надрывалась ученица, семеня в согнутом положении за каталкой, перевозившей в реанимацию любимую наставницу, пребывавшую в глубоком наркозном сне. – У меня получилось, слышите?! Именно, как вы говорили, получилось!!!
Но из наркоза мама так и не вышла. Длительного и обширного, полностью ее искалечившего вмешательства не выдержало надорвавшееся на чужих операциях сердце.
Через восемь лет Лёся услышала от подруги и тезки – та тоже звалась Еленой по паспорту, а в жизни просто и нормально: Лена, Ленуся, – что существует на свете странное слово: «придýха». Выросшей в дальней деревеньке на заповедной Псковской земле, Лене случалось несколько раз видеть в крутую и снежную зиму, когда морозы заворачивали под тридцать и все до единой полыньи на их маленьком озере замерзали, что полностью перекрывало доступ туда кислорода, как задыхавшиеся рыбы начинали колотиться под еще прозрачным льдом последней прихваченной проруби, стремясь пробить его своими глупыми серебряными головами… «Придуха! Придуха!» – раздавался на позднем рассвете тревожный мальчишечий крик, и это звучало почти как «Пожар!», потому что из всех дворов начинал высыпать народ, бежали с коловоротами наперевес серьезные мужики, чтобы успеть открыть путь животворящему воздуху, не дать родному озеру превратиться в подводное кладбище. Рыбам никогда не удавалось пробить лед снизу самим: если их почему-либо не спасали люди, они погибали от удушья и, когда их потом все-таки вылавливали, выглядели поднятыми со дна утопленницами: с синюшными ртами, мутными глазами, бледными жабрами… Утонувшие рыбы. Это было невероятно. Но, когда Лёся упомянула при Лене знаменитую поэму Кузьмина, имея в виду удачный образ их вместе взятых, потому что на тот момент казалось, что лед они все-таки пробили, – Лена помрачнела и сказала, что такого никто никогда не видел.
Две отважные «форели»-однокурсницы – Лёся и Лена – случайно встретившись голодной и страшной для обеих первой осенью после институтского выпуска и серьезно поговорив за чашкой кофе без пирожного, на которое не было денег, пришли к выводу, что терять им нечего. «В крайнем случае, расстанемся врагами», – мудро сказала Лена. Их частный модельный не дом, а всего лишь домик под говорящим названием «Helens» просуществовал до начала нулевых, расцветя аж до такого разврата, когда две разжиревшие дизайнерши позволили себе нанять одну пожилую и педантичную, помнившую чуть ли не процветание знаменитого «Смерть мужьям» закройщицу и трех молоденьких смешливых портних, а сами беспардонно наслаждались голым творчеством… Логотип их скромного бренда изображал веселую букву «эйч», составленную из двух изящных дамочек, держащихся за руки, – надо полагать, самих основательниц и хозяек этого не совсем богоугодного, но по-мирски приятного заведения.
Их не задавил безжалостный рэкет (аккуратно являвшийся за своим плотным конвертиком раз в месяц в виде улыбчивого молодого человека в жилетке, вежливо и стеснительно пивший чай в подсобке, – неизменно оттопыривая при этом совершенно девичий мизинчик, – и церемонно, с целованием ручек и пожеланиями успехов в бизнесе отбывавший); они не просчитались, не прогорели, не проворовались; у них появился надежный костяк из верных постоянных клиенток, искренне радовавшихся тому, что все вещи, купленные и заказанные у двух Елен, можно было именно носить – долго и с удовольствием; говорить о серьезной конкуренции с кем бы то ни было обитательницам кое-как отремонтированного полуподвальчика, перед дверью которого рано утром периодически находили то уютно спящего алкаша, то дохлую ворону, было вообще неприлично… Придуху им грамотно организовало ненасытное государство, как рыболов-браконьер заваливает льдинами не успевшие замерзнуть проруби, чтобы несчастные золотистые и серебристые мученицы жадно устремлялись к одной, где ждет их не воздух, а прочные сети – и бесславная рыбья смерть… Однажды после раздачи всех взяток и выплаты зарплат не хватило денег на уплату недорогой аренды – залезли в грабительские кредиты... Еще год бились они за выживание, и порой казалось, что вот-вот вытянут, колотились, как две последние усталые форели, чующие близкую спасительную оттепель… Не дотянули.
Следующий ступенькой вниз – хотя куда уж было спускаться из полуподвала? – стала секция номер 537 на втором этаже вещевого рынка. «Переждем, подкопим сил! – убеждала поникшую Лёсю неугомонная тезка. – Мы откроемся еще, вот увидишь! Но давай сразу договоримся: никаких рыночных тряпок на вес – мы не торговки, мы – дизайнеры!». Они скупали за четверть цены поза-поза-прошлогодние залежавшиеся артикулы из средней руки удачливых бутиков, латали, доводили до ума и продавали почти по тем же ценам, что и соседние секции – оптом закупленные китайские бросовые тряпки… Дело пошло – да так быстро и слаженно, что уже через полгода им подбросили под дверь коллективный ультиматум остальных обиженных арендаторов, угрожавших сжечь небанальный бизнес двух дипломированных выскочек, если те не надумают «торговать, как все нормальные люди»…
«Дура, дура, дура!!! – кляла себя по ночам, кусая кулаки, Лёся. – Ну, что мне на доктора не училось?! Сейчас бы и при деле была, и замужем, и детей бы родила!». Она вскакивала с монументального доперестроечного дивана, зажигала хрустальную люстру – мамину гордость и подлетала к зеркалу: «Ничего от меня не осталось с этой жизнью проклятой – ничего, ничего, ничего!!!». Оттуда, правда, смотрело лицо еще не конченного человека, пока не попрощавшегося с последним шансом. Лёся теперь точно знала, что внешность унаследовала по линии своего породистого отца: та же шелковая густота пепельно-русых волос (там не седая ли прядь проглядывает?!), благородная овальность лица, тонкость рук, светлость глаз… Ей под тридцать; у нее было два пошлых любовника; еще лет пять – и кожа навсегда поблекнет, истончится и пожелтеет, как старый пергамент, на весь облик ляжет печать неизбывной, вечной усталости, опустятся уголки рта, лицо превратится в скорбную маску… Одинокая баба, торгующая на рынке, вот кто она. И нечего… И нечего… – тут начиналась новая придуха – слезная.
В этом отчасти срабатывал в Лёсе искусственно посаженный и заботливо взращенный в ней подругой комплекс неполноценности. Та была действительно безнадежно некрасива лицом, прекрасно знала, что никакие изыски в одежде (к которой имела страсть, как сказала бы Лёсина покойница-мать, компенсаторную) не прибавляют ей привлекательности, и подспудно мечтала найти себе товарку по некрасивости. Мужчин, естественным образом обходивших ее вниманием, она ненавидела спокойно и холодно. Единственную давнюю попытку Лёси поплакаться близкой подруге о постигшей однажды катастрофе мужского вероломства мгновенно пресек зловещий шип Елены Ужасной: «А ты с кем связалась?! С мужика-ами?! Тебе что – шестнадцать лет?! Ты что – не знаешь, что все они – мразь?! И исключений нет?! Ты еще не усвоила, что они считают нас – низшими существами?! В двадцать восемь лет?! Да еще и будучи при всем том некрасивой?! Если ты желаешь верить в подобный бред, то продолжай в том же духе, мешать не стану – но меня от своих жалоб уж будь добра, уволь! И чтоб я больше об этом не слышала!». У Лены была точеная, фарфорово-статуэточная фигурка, венчавшаяся огромной нелепой головой с просвечивающей среди коротких светлых лохмушек розовой кожей черепа и широкими, расплюснутыми чертами расширявшегося книзу лица, придававшими ей разительное сходство с милым, добрым, но – гиппопотамом. В Христовых невестах она, однако, тоже не числилась: оказавшись как-то раз в недоброй компании бывших одноклассников у кого-то из них дома, она стала, как потом рассказали всеведущие «девчонки», предметом нетрезвого мужского спора. Верзила и похабник Кикин убеждал заинтересованно внимавших дам, что всегда готов ублажить и крокодила, и бегемота, но опытные мужчины скептически качали головой в сторону принаряженной пьяненькой Лены и выражали громкие сомнения насчет всеядности грандиозного кикинского дара. Обидевшись на недоверие товарищей, он лихо пригласил Лену на медленный танец, без лишних сантиментов утанцевал с ней в соседнюю комнату, шуганул оттуда целовавшуюся парочку и немедленно – молчаливо и сосредоточенно – выиграл спор, прихватив после этого с собой в качестве доказательства ее оскверненные, угаженные, вдобавок, стародевичьей кровью трусики, которые парни в гостиной немедленно с гоготом пустили по рукам…
Ненависть Лены к противоположному полу казалась незыблемой и вполне простительной, и тем более странным стал факт, что именно она и познакомила у себя дома на праздновании миллениума свою все глубже и глубже никнувшую подругу с ее будущим единственным мужем.
- Вон, смотри, сидит, – кивнула она на одинокого худого мужчину лет сорока пяти в джинсовом костюме, с нестандартной, очень артистической стрижкой, рассеянно листавшего в сторонке чуть ли не женский журнал мод. – Родственничек наш, седьмая вода на киселе. Тетка велела пригласить: жена его только что бросила – типа, страдает очень. Рыцарь печального образа, блин. Кстати, режиссер там какой-то, кажется. Так что, если ты еще в эти игры играешь, сейчас в два счета познакомлю.
Лёся внимательней пригляделась к мужчине, и вдруг почувствовала слабый, но отчетливый укол в сердце – так, верно, вонзается неразборчивая стрела Купидона. Он был потрясающе некрасив – почти так же, как несчастная Лена, но то же самое, что навеки ставит крест на женщине, может сделать мужчину вечным дамским любимцем – и угодником. Длинное, классически «лошадиное» лицо, рачьи глаза навыкате, неправильный нос и выпяченные губы – все это, казалось, делало из мужчины урода! Но что-то в его раскованной позе, самоуверенном наклоне светловолосой головы, даже в острой, закинутой на другую коленке, в треугольной, резко выступающей косточке тощего запястья – указывало на то, что его любили и любят, он привык к этой любви как к данности, ничуть не дорожит ею и – не тяготится. Когда их знакомили, голос Олега оказался низким и хрипловатым, но не вызывающе, а именно чуть-чуть, чтобы легко заинтриговать – и только: так стильная женщина лишь прикасается краской к губам и векам и несет в себе бóльшую тайну, чем профессионально накрашенная подруга…
Ухаживал он идеально. Лёся каждый день поражалась тому удивительному равновесию, которое он умел сохранять, непринужденно балансируя на грани идеализма и чувственности, и своевременным отступлениям, где и когда требовалось, – с тем, чтобы чуть позже захватить территорию не в пример обширней оставленной: так Кутузов когда-то отдал доверчивым французам Москву. Были и стихи, и букеты, и восхищение ее рисунками невероятных, создававшихся когда-то без надежды на воплощение платьев, – разумеется, все они непреложно годились для костюмов главных героинь блестящих спектаклей в театре, который он мечтал в будущем создать. Решено! Когда театр появится, – быть ей главным художником по костюмам! Пока же в своей временной, увешанной по стенам пошлыми кофтами секции, на своем временном рынке, она будет – временно! – страховать его – и их общее будущее: не могут же они в ожидании вульгарно сдохнуть с голоду! Любовником оказался нежнейшим – Лёся таяла, будто в ванне из розовых лепестков, а предложение делал, упав на одно колено, – правда, кольцо преподнес серебряное… Да разве можно было этим смутиться!
Его бывшая жена, невесть как вычислившая Лёсин номер, прорвалась к ней со своим неурочным звонком, будто связной, посланный отчаявшимся командиром гибнущей разведгруппы через линию фронта:
- Милая моя, если б вы только знали! Если б знали, какого демона сажаете себе на шею! Я понимаю, что сейчас вас ни в чем не убедить – двадцать лет назад сама так же попалась! Я из-за детей оказалась в этой западне – но вы хоть этой моей ошибки не повторите!
- Нам не о чем говорить, – холодно отчеканила Лёся, уже знавшая от любимого возмутительную историю о том, как ведьма-жена превратила его жизнь в кромешный ад, как лишила выстраданного театра, как настроила детей против отца, как отсудила их общую, но его горбом нажитую квартиру. – Все бывшие жены поливают грязью бывших мужей: это не новость. И потрудитесь забыть наш номер.
- Знаю, что сейчас вы мне не поверите, но умоляю вас – пождите с детьми! – сорвалась на крик собеседница. – Не идите на это тотчас же, заклинаю! Вы даже не представляете, во что превратится ваша жизнь уже совсем скоро! Это монстр, кровопийца, вурдалак, я не знаю, как земля его носит! Когда он помрет, я ему лично кол осиновый…
Оскорбленная Лёся повесила трубку. Лучезарное счастье длилось четыре месяца.
Первым звоночком стала стеснительная просьба мужа продать Лёсину – он теперь уверенно говорил «нашу» – квартиру, с тем, чтобы купить другую в близком нарядном пригороде, где и предполагался его новый замечательный театр – и уже предпринимались к его созданию самые решительные шаги. И правда, мотаться ему туда и обратно каждый день на их мятом и битом, но на диво выносливом «фольксвагене» было долго и сложно, а Лёся… Ну, подумаешь, покатается на электричке, они же с Ленкой три через три работают! Влюбленные супруги уже ездили смотреть бесконечные варианты, украдкой целуясь то в коридоре, то на балконе, когда не видели риелторы и продавцы, и почти выбрали, почти решились, когда до того демонстративно молчавшая подруга вдруг на ровном месте взорвалась прямо в их почти родной уже «секции», во время мирной ревизии нераспроданного товара:
- Дура ты, дура, дура и есть! Думала не говорить тебе, пусть бы Бог тебя наказал за твою глупость – да не могу, совесть задушила! Ты хоть соображаешь, что сделать-то собираешься?! Ты собираешься продать свою – и только свою, до брака нажитую собственность! А та, что вы теперь приобретете, на кого бы ее ни записали, будет – общая! Супружеская! И, в случае чего, делится пополам! Он уже раз разводился, а жена его, вспомни, что тебе про него говорила!
- Да она просто гадюка! – вступилась Лёся. – Она, представляешь…
- А ты откуда это узнала?! – уперев руки в боки, стала грозно наступать на нее Лена. – От него, от родного-единственного! А ей даже договорить не дала, трубку швырнула! Я одно знаю: кто раз разводился, тот и другой, и третий, если что, разведется. Я ничего плохого не хочу сказать – живите, раз живется, была б охота… Но помни: в случае развода окажешься в коммуналке, не говоря уж о том, что хорошую квартиру своей матери профукаешь… Откажись, пока не поздно, придумай что-нибудь!
- Он об этом просто не подозревает… – задумчиво прошептала Лёся. – Ему и в голову не приходит, что мы можем когда-нибудь… Фу, Ленка, глупость какая! И сказать же такое! Да ну тебя! – и облегченно махнула рукой.
Но о забавном том разговоре Лёся все-таки поздним вечером, прижимаясь к его голой заросшей груди и увлеченно блуждая по ней пальчиком, рассказала Олегу, как о нелепой шутке, над которой предполагала вместе посмеяться… Но, приподнявшись на его оцепенелое молчание, она чуть не проглотила язык, увидев, как посерело и пошло пятнами лицо обожаемого мужа, как по-неандертальски свирепо выдвинулась нижняя челюсть, а большие добрые и светлые глаза вдруг сузились до черных азиатских щелок, источавших звериную ненависть. Вместо любимого, словно немного простуженного голоса, из его рта вдруг вырвался сиплый свист нападающей рептилии:
- Да как с-смеет эта страш-шная з-завистливая прош-шмандовка пороч-чить наш-ши ч-чистейш-шие ч-чувства… З-задуш-шить ее з-за это …
Потом Олег взял себя в руки. Ужасная, действительно демоническая маска не спáла – а будто медленно ушла в глубь лица. Он перевел все в шутку, легонько приобнял оторопевшую от его непосредственной реакции жену, чмокнул в пушистый висок, взъерошил ей волосы:
- Глупенькая моя малышка, веришь всяким старым неудачницам…
Но она подняла на мужа глубокий, будто прозревающий взгляд и молчала. Он холодно отстранился:
- Как хочешь. Я ни на чем не настаиваю. Желаешь считать меня подлецом – пожалуйста. Твое дело.
Олег поднялся и, на ходу нервно вытряхивая из пачки сигарету, стремительно вышел на балкон, широко распахнув и сразу же плотно затворив за собой дверь. Апрельская ночь быстро дохнула мягкой прохладой. Где-то вдалеке пели Пасху…
Потом вроде бы, «перемололось» – а вопрос о новой квартире отпал как бы сам собой, словно табуировался. И все же Лёся чувствовала – и знала, что то же самое чувствует и муж, – что в хребте их молодого брака будто застрял с того дня зазубренный осколок, из тех, что десятилетиями носят в себе ветераны давних войн, привыкнув к ним и особо от них не страдая, но всегда подспудно держа в уме ежедневную возможность рокового перемещения смертоносного железа на какой-нибудь последний миллиметр. В Олеге что-то неуловимо изменилось: его ежечасная нежная забота о жене вдруг стала на глазах принимать чудовищные, как бы извращенные формы; недоумевающая Лёся уговаривала себя списывать его странные, ни с чем не сообразные слова и действия на общую мужскую неловкость во всем, что касается тонких чувств, ставила его поступки в один ряд с детскими трогательными порывами… Не станешь же всерьез осуждать четырехлетнего мальчика, смастерившего, в надежде порадовать любимую мамочку подарком, милого и страхолюдного медвежонка из спинки ее же нового дорогого пальто… Или станешь?
В следующем месяце выпала Лёсе нечаянная надежда: удачливая бывшая их с Леной однокурсница оказалась одним из ведущих модельеров знаменитого московского модного дома Галины Платоновой и, приехав на показ новой коллекции в Петербург, случайно позвонила прежней подружке. Выслушав печальную повесть о рыночной «секции», – ужаснулась, выбрав момент, переговорила со своей недоступной патронессой… И что же? Уже вечером она радостно звенела Лёсе в трубку, довольная негаданно выпавшей ролью благодетельницы:
- Представляешь, в десятку! Просто как специально! Я ей говорю: самая, мол, перспективная девчонка у нас на курсе, дизайнер от Бога, даже свой модный дом имела, просто не повезло – чего удивительного, в наше-то время… А она, такая: мне, типа, как раз в питерском филиале одного толкового модельера-конструктора не хватает. В общем, расклад такой: мы завтра в одиннадцать улетаем, но в девять она тебя ждет в гостинице – со всеми эскизами и, желательно, хоть с одним готовым платьишком… На тебя отведено четверть часа – и это много! Она тетка нахрапистая, в три минуты просекает, кто перед ней, так что выложись по-максимуму! Понравишься – и с понедельника можешь на работу выходить! Я уж постаралась: описала тебя как второго по гениальности – после нее самой – модельера Земли и окрестностей, так что не подведи давай! Пиши адрес…
Лёся заметалась. Олег, как мог, помогал. В четыре руки разбирали папки со старыми и новыми эскизами, выискивали лучшие, подкрашивали, доводили до совершенства, глубокой ночью гладили, отпаривали и упаковывали Лёсин показательный шелковый костюм, когда-то побивший рекорды заказов в бесславно погибшем «Хеленсе»… В пять, дрожа от усталости, она сказала сочувственно внимавшему мужу:
- Я должна поспать хоть два часа, иначе завтра просто упаду в этой гостинице прямо на пол, – и, заведя их грозный будильник на семь, почти без чувств повалилась под одеяло.
Когда Лёся проснулась, бойкое майское солнце в совершенной тишине рвалось в комнату сквозь тонкие занавески. Олег не спал: подперев голову ладонью, он с нежностью разглядывал спящую жену и, когда та приоткрыла глаза, чуть прикоснулся губами к ее переносице:
- Спи-спи… – и заботливо подоткнул одеяло.
- Который час? – пробормотала Лёся, смутно уловив, что солнце уже какое-то не утреннее, слишком зрелое.
Ее мгновенно подбросило: часы показывали двадцать минут первого.
- Что?!! – непостижимым образом она оказалась уже стоящей на полу – босая, лохматая, в короткой мятой рубашке. – Будильник не прозвенел?!!
- Я придушил его, – безмятежно улыбнулся муж. – Хотел дать тебе выспаться: ты вчера совершенно измоталась, так нельзя… А утром лежал и любовался тобой – ты спала так красиво… так женственно… И эти твои волосы на подушке… Ресницы трепетали… Интересно, что ты видела во сне… Я смотрел на тебя и думал: как же я люблю эту женщину!
- Но… Платонова… – все еще классически не верила глазам и ушам Лёся.
- Перетопчется старая карга, – небрежно махнул рукой Олег. – Подумаешь, невелика птица.
Лёся кричала и плакала до вечера, безобразно опухнув и почти ослепнув от слез, – такого не было даже в день похорон матери – но ничего, кроме: «Да брось ты, оно тебе надо?», от мужа так и не добилась: казалось, он искренне не понимал ни своей вины, ни причины ее бурного горя…
- А что ты хочешь? Месть за квартиру, – четко определила на следующий день Лена, выслушав сбивчивый рассказ подруги. – Подожди еще: это только начало.
- Нет, нет, – цеплялась за призрак на цыпочках уходящей любви, повторяла Лёся. – Он просто боится меня потерять… Хочет, чтобы меня ничто не отвлекало от семьи… Просил о ребенке! А какой уж тут ребенок, если бы новая работа, творчество…
- Не вздумай! – крепко схватила ее за запястье товарка. – Понимаю, что и хочется, и колется, и возраст… Но только мнится мне – что-то очень нехорошее тебе в полную мощь светит…
Пристальная забота о ее благополучии продолжалась: через несколько дней случилось так, что, собравшись с мужем в гости к его родственникам, Лёся, отчаянно желая понравиться, соорудила себе с помощью старинных, еще бабушкиных щипцов, богатую, пышную, очень шедшую ей прическу – но коварный май в очередной раз прикинулся ноябрем, и к полудню едва ли не подморозило. Лёсю это ничуть не пугало: привычная к местным погодным метаморфозам, она ходила с непокрытой головой, случалось, и в нешуточные холода. Оба они уже стояли в плащах у выхода, когда Олег достал с полки какую-то случайную шапку – маленькую, тесную, вовсе не подходившую по цвету и фасону, – и ласково протянул жене:
- Надень, моя хорошая, простудишься…
Та с улыбкой отказалась:
- Ты что! Я все утро волосы накручивала – да и вообще не привыкла…
Но рука с шапкой никуда не исчезла, голос зазвучал строже:
- Надень, я сказал. В такую погоду без шапки менингит обеспечен.
Напрасно Лёся пыталась объяснить, что и зимой ее голова не мерзнет, доказывала, что дойти от подъезда до машины – это две минуты, за которые и ребенок бы не простудился, уверяла, что, наконец, такая заботливость ни к чему, потому что испортить прическу да и вообще надеть такую идиотскую шапчонку она все равно ни за какие коврижки не согласится…
- Тогда ты остаешься дома. Лучше пусть мои тетки удивятся, что я пришел без жены, чем ты умрешь от менингита, – и Олег быстро забрал из рук оторопевшей жены ключи от квартиры. – А чтобы ты сдуру не выскочила, тебя придется запереть, как непослушную девочку...
- Ты что, с ума сошел? – начала она в полном изумлении. – Тебя всю зиму не волновало, ношу ли я шапку в минус двадцать, с чего вдруг в мае...
- Милая, для настоящего мужчины женщины, как маленькие дети, которых иногда приходится ограждать от них самих... – муж с улыбкой, легонько, почти ласково оттолкнул ее, ловко выскользнул за порог – и ключ в замке, не имевшем внутренней задвижки, повернулся на два оборота.
Возмущенная, обиженная, она пробовала биться в дверь, но сразу поняла всю зряшность этой затеи и оскорблено просидела взаперти до глубокой ночи…
И на этот раз они, конечно, помирились, потому что Олег вернулся милым, забавным, почти не пьяным и принес кучу гостинцев – а Лёся и без того всегда готова была простить, забыть, начать сначала: это у него ведь просто от излишней старательности, от страха за ее здоровье, за их будущее, за возможность иметь детей… Но Лена качала головой – «Смотри, подруга, коготок увяз – всей птичке пропасть!» – ах, да пусть себе бормочет: она ведь некрасивая и обиженная, от зависти сохнет, что ее слушать!
В самом начале осени, отправившись в чужой захолустный городишко на машине к его друзьям-артистам, – они теперь общались только с его друзьями, а ее подруги были мягко, но настойчиво вытеснены из их общей жизни – супруги на обратном пути заблудились среди незнакомых проселочных дорог, уныло перетекавших одна в другую меж заброшенных полей… Карта оказалась на редкость бестолковой, человеческое жилье смутно виднелось вдалеке, за совсем уж непроезжими тропами, стрелка на датчике уровня топлива неуклонно стремилась книзу, но заправки тоже не попадались, приближалась ночь – а дорога вдруг нырнула в бесконечный, стеной стоявший лес… В лесу случались неожиданные просветы, но уж лучше бы их не было, потому что заброшенные, полусгнившие дома, кое-как стоявшие там вдоль дороги, явно давно покинутые жителями, откровенно пугали припозднившихся путников, особенно если мелькал вдруг среди разрушенных стен совершенно неподходящий к обстановке одиночный квадрат освещенного окна… В какой-то момент обоим стало по-настоящему страшно, когда внезапно выехал откуда-то с заросшей боковой тропы темный пикап, явно стремившийся перекрыть им путь, не успевший – и с полчаса провисевший у них на хвосте, выжидая шанс для обгона… Супруги напряженно молчали: опасность была очевидной, оставалось только лететь по разбитому, щелястому и горбатому шоссе на предельно возможной скорости и молить Бога, чтобы с машиной ничего не произошло и не кончился бензин…
Но вдруг – словно Китеж поднялся со дна волшебного озера – впереди возник неизвестный, ярко освещенный город, как-то разом со всех сторон замелькали попутные и встречные машины, пикап-призрак исчез в ночи, зато прямо перед ними приветливо засияла скромная бензоколонка с небольшим кафетерием по соседству. Усталые, молчаливые, на трясущихся от напряжения ногах, Олег с Лёсей ввалились в кафе и рухнули за ближайший столик.
- Кофе, ради Бога, кофе! – хором взмолились они подбежавшей доброй хозяйке, переглянулись и согласно коротко рассмеялись: страх остался позади, растаял.
Кофе подали на подносе, обставив все со знанием дела, по-европейски: кроме вместительных кофейных кружек, полагались миниатюрные плошки с разными видами сахара и две небольшие нарядные чашечки с горячим молоком. Улыбаясь, Лёся пододвинула их к мужу: оба они давно знали друг про друга, что она не терпит молока, даже запаха его не выносит – а ему, наоборот, подавай все молочное, без этого и жизнь не мила. Но Олег, тоже не смахивая улыбку, вдруг взял одну чашечку и быстро вылил молоко в Лёсин крепкий кофе:
- Пей с молоком: так вкуснее, – влюбленно глядя на жену, сказал он.
Лёся огорчилась: для нее кофе был испорчен безнадежно, она теперь не то что пить его не могла – даже понюхать. Но глупо было бы ссориться после пережитого нешуточного стресса, поэтому, списав поступок мужа на волнение и усталость, она осторожно протянула ему свою кружку:
- Зачем… Ты же знаешь… Сейчас я закажу себе черный, а ты выпей оба… – и поперхнулась, второй раз за их короткую совместную жизнь увидев, как быстро меняется лицо любимого человека: изнутри словно всплывало другое, вовсе ей не знакомое, – не лицо, а харя…
Она отшатнулась, в голове в этот миг пронеслось: «С ним нельзя жить, надо разводиться…». Но из-за чего разводиться? Из-за чашки молока? Из-за шапки? Из-за придушенного будильника?
- До коих пор я буду терпеть твои выкрутасы?! – низким чужим голосом произнес Олег. – Даже сейчас, когда Бог знает, что могло с нами случиться, ты не перестаешь кобениться! Другая бы за такую заботу руки-ноги мне целовала... А ну, пей сейчас же, что дают, нахалка. И пока не выпьешь – из-за стола не встанешь.
- Встану, – немедленно отодвигая грохочущий по плитками стул, поднялась Лёся, твердость характера благополучно унаследовавшая от матери. – Этот кофе – мой. Как и тот, что ты пьешь, – и молоко в нем, кстати. Как и тот хлеб, который ты ешь каждый день. Как и тот бензин, на котором ты ездишь. Как и тот дом, в котором ты живешь. И даже как те подарки, которые ты даришь своим знакомым! А копеек, что ты приносишь от случая к случаю, хватает ровно на твои сигареты!
Он поднялся тоже, ужасная маска опять как бы толчками уходила внутрь:
- Ах, вот как… Ты уже дошла до того, что попрекаешь куском хлеба… И это именно в тот момент, когда мой театр находится на грани… Когда я выкладываюсь весь, без остатка… И это по отношению к человеку, для которого ты была – божеством… Такого удара в спину я не получал – никогда. Спасибо, милая! Ты преподнесла мне хороший урок.
- Олег, я не хотела! – спохватилась, окаченная чувством вины, как кипятком, Лёся. – Я просто подумала… Мне показалось… Прости, прости, прости меня, дуру!
Он простил. Не сразу, после нескольких суток трагического молчания – но простил. Супруги снова внешне помирились, и с этого дня Олег стал яростно, почти фанатично настаивать на совместном ребенке, утверждая, что именно в нем видит залог возвращения их прежних доверительных и нежных отношений. Лёся жадно мечтала о том же, но как только она уже готова была произнести решительное «Да!», всегда происходило какое-нибудь мелкое, иногда забавное, на вид незначительное событие – и короткое словечко, способное за миг переменить весь мир, не находило выхода. Это могло быть что угодно: то непонятная истерика, устроенная однажды Олегом по поводу того, что жена отказалась есть на завтрак мерзкую, но, как он утверждал, необходимую для здоровья полусырую овсянку без соли, сахара и на воде, – хотя до того дня его никогда не интересовало, ела ли она вообще что-нибудь с утра; то пластиковая коробка с лапшой быстрого приготовления, которую Олег однажды невозмутимо поставил перед собой на стол во время празднования Лёсиного дня рождения и стал уплетать, игнорируя праздничные блюда, а на недоуменные вопросы окружающих ответил, что он, в отличие от гостей, видел, как и из чего Лёся готовила; торжество было испорчено, гости смущенно разбегались – а хозяин дома принялся убеждать рыдающую жену, что это с его стороны была всего лишь «добрая шутка», и он не виноват в том, что у людей отсутствует чувство юмора…
Она ловила себя на мысли, что стала заложницей постоянного ожидания его странных и страшных выходок, всегда происходивших непредвиденно и то позоривших ее, то оскорблявших, то наносивших откровенный и непоправимый ущерб… Но если представить, как пришлось бы рассказывать обо всем этом хотя бы в суде во время развода, – то оказывалось, что рассказывать-то и нечего! Это она, Лёся, выходила злой и мелочной склочницей, придирщицей, отравившей жизнь пусть грубоватому, но доброму и простодушному малому, с извечной мужской неуклюжестью пытавшемуся проявить к ней любовь и по-своему позаботиться…
Незадолго до Нового года на их вещевой ярмарке отключили отопление, три дня с девяти до девяти Лёся просидела в сыром продуваемом насквозь помещении, зарабатывая деньги на покрытие чудовищных мужниных долгов за аренду зала для его бесприютного театра, заработала – и на четвертый слегла под два стеганых одеяла. Горячий чай с малиной и аспирином не помогал: к утру тридцатого декабря Лёся горела и сотрясалась от постоянного кашля – лающего, грохочущего, душащего, изнуряющего… Собираясь на детский утренник, где режиссеру по совместительству приходилось прыгать по сцене большим меховым зайцем, горячо сочувствовавший Олег вызвал ей на дом врача – и умчался, расстроенно бормоча на ходу о том, что он сегодня не артист, а только муж своей больной жены. Юный доктор, тоже озабоченный предновогодним, совершенно лишним обходом гриппующих, несколько раз небрежно приложил холодный кружок стетоскопа к вздрагивающей Лёсиной спине, велел с утра тридцать первого сделать флюорографию, после чего без очереди зайти с результатом к нему в кабинет за назначениями – и молодо поскакал вниз по лестнице, на ходу влезая в распяленный пуховик.
Последовавшая ночь оказалась для Лёси самой страшной из всех, пережитых раньше. «Кошмарными» когда-то считались ночи, тонувшие в жгучих слезах очередного жизненного разочарования – но никогда она не ведала, как близка бывает к человеку смерть! Приступы кашля следовали один за другим, больная не могла остановиться, хрипела и стонала, едва переводя дух, цеплялась за мужа, говоря ему, что умирает, – но он, проявляя законное здравомыслие, подавал ей очередной стакан чаю с медом и убеждал держаться – иначе, мол, если вызвать «скорую», то без разговоров увезут в больничку, «и тогда Новый год точно накроется». Праздновать собирались у очередных «нужных» знакомых Олега, и он трепетно ждал новогодней ночи, связывая с ней какие-то серьезные надежды для своего вечно буксующего театрального дела.
Утром, ни минуты не спавшая, запихнув под платок мокрые от пота, слипшиеся волосы и напялив первый попавшийся свитер, Лёся кое-как доковыляла до машины и вместе с мужем отправилась на треклятую флюорографию, от которой ничего хорошего ждать уже явно не приходилось. В поликлинике царило приподнятое, предпраздничное настроение, стеклянная перегородка регистратуры была опутана длинным проводом с мерцающими разноцветными лампочками, в очереди предвкушающе пошучивали.
- Мне, пожалуйста, номерок на флюорографию, – Лёся протянула паспорт в окошко.
- Вы от какой организации? – сурово спросила ее женщина-регистратор и глянула особым, заранее выносящим приговор взглядом мелкого чиновника, имеющего минутную, но нешуточную власть.
- Я сама по себе… Мне доктор сказал… С восьмого участка… – предсказуемо растерялась Лёся.
- Тогда только третьего января. Сегодня до обеда у нас идут организации. А потом мы закрываемся, потому что короткий день, – с легким, почти незаметным злорадством ответила женщина.
Поделать с этим было ровно ничего нельзя. Перед ней возвышалась стена из тех, что головой не пробиваются.
- О, Господи… – в изнеможении Лёся припала лбом к стеклянному барьеру, но сразу же, вспомнив, как в бытность свою одной из уважаемых владелиц незабвенного «Хеленса» ловко распихивала взятки по карманам пожарников, санэпидемистов и прочих рэкетиров, решительно раскрыла сумку: – Тогда давайте с вами договоримся… По хозрасчету или как хотите…
Женщина в окне мгновенно расцвела и протянула руку – но получить приятный подарок ей было в тот день не суждено, потому что сбоку неожиданно возник вернувшийся из гардероба Олег:
- Что тут происходит? Не дают талон? Ничего, сейчас в два счета выдадут, – он бесцеремонно отодвинул жену от окошка, углядев при этом зажатую купюру в ее руке. – Ах, она еще и деньги у тебя вымогает! – его голос загремел на весь холл; несколько голов заинтересованно повернулось в их сторону. – Только попробуйте не дать сию же минуту моей жене талон! Только попробуйте! Я вам устрою! Вы у меня узнаете, как требовать у больных деньги – враз с работы вылетите!
- И попробую, – спокойно и нагло сказала женщина. – Еще как попробую. Сегодня на флюорографии страховой день, а одиночные, не от организаций, посетители по распоряжению администрации не принимаются. Отойдите от окна, мужчина, вы не один: за вами очередь, между прочим, стоит… Следующий!
Напрасно он пытался просунуть в маленькое окошко всю свою большую голову – сами больные возмущенно оттеснили его, стремясь скорей покончить с собственными номерками; напрасно клялся дойти после праздников до главврача и обрушить на голову строптивицы ужасные кары – ничто не подействовало: очередь двигалась своим чередом, на них больше не обращали внимания.
- Ладно, я это так не оставлю! – сдался, наконец, перед силой Олег. – Я им третьего числа задам, будут помнить, сволочи! – он обернулся к давно упавшей в кресло жене: – Ну, что делать, иди домой. Потом разберемся.
- Как – иди? – в ужасе приподнялась она. – Отвези меня, я одна не дойду!
- Ну… Почему не дойдешь… Дойдешь потихоньку… – Олег быстро глянул на часы: – Ох, блин, опаздываю! Через полтора часа на сцену выходить, а еще ехать через все пробки и гримироваться… Все, короче, полетел. Ты там давай, не разнюнивайся. Сейчас придешь – сразу большую ложку меда съешь – и под одеяло. И смотри мне – чтоб к вечеру была огурцом! Ночью в гостях должна на все сто выглядеть!
Он кинул ей на колени номерок от пальто и помчался к выходу.
- Девушка! – тихо окликнули Лёсю из стеклянного окошечка. – Возьмите талон, идите так, не надо ничего… На вас лица нет…
Отходя восвояси с вожделенным клочком бумаги в руках, она услышала тихий диалог позади:
- Надо же, и как живет с таким дерьмом?
- И не с такими живут, Оль… А куда денешься…
«Я – денусь, – громко прозвучало в Лёсе, и робко добавило: – Если выкарабкаюсь…».
Рентген показал двустороннюю пневмонию, а доктор, для очистки совести предложив госпитализацию, выписал новый действенный антибиотик – только вот денег на него у Лёси не хватало: лиловую пятихаточку, предназначавшуюся женщине в регистратуре, муж в праведном возмущении вырвал из рук своей негодной жены – и тихо унес с собой…
Домой Лёся двигалась перебежками от фонаря до фонаря. Мела колючая, стеклистая поземка, свирепо налетавший ветер то и дело отвешивал страдалице жгучие пощечины. Она цеплялась за шероховатый бетонный столб, стояла в изнеможении несколько минут, ища взглядом следующий – такой же серый и надежный; иногда казалось, что фонарей этих впереди – дурная бесконечность, и дом недосягаем во веки веков… Но нет, пришла, сбросила одежду, развела в воде первый попавшийся порошок – и не почувствовала его вкуса в сухом, словно наждачкой выстеленном рту… Пришло странное безразличие: потом, все потом… Повалилась… Так и заснула лицом вниз, иногда глухо кашляя в подушку.
Уверенно выступив из Вечности, ощутимо приближалось новое тысячелетие.
Олег вернулся около десяти – веселый и слегка пьяненький: после детского утренника и дневного спектакля провожали с коллегами старый год и немножко увлеклись.
- Как? – совершенно искренне удивился он, глядя на распластанную, равнодушную Лёсю; она кашляла меньше, зато начала отчетливо задыхаться, на груди словно кирпич лежал. – Ты еще не готова? Ты, вообще, что себе думаешь?
- Я не смогу… – еле выговорила она. – У меня воспаление легких… Мне худо совсем…
Муж помрачнел, поджал губы как бы в глубоком раздумье, покачал головой, цокнул языком:
- Нет… Нет… Все-таки ты не русская женщина… Есть в тебе какая-то, извини, инородческая дохлость… – он закатил глаза и артистично схватился за сердце: – Аа-ах, Аб’га-ам, я уми’га-аю! Тьфу. Была бы нормальная баба, как у Некрасова, – сейчас бы пошла, выпила, закусила, побалагурила! Стопка-другая – и все как рукой… А ты тут корчишь из себя первомученицу… Противно, честное слово! Я тебя совсем другой себе рисовал! Я думал…
- Олег, сходи, пожалуйста, в аптеку, мне врач лекарство прописал, антибиотик. И я чувствую, что дальше тянуть нельзя, а завтра, сам знаешь, открытой аптеки не доищешься, – тихо перебила Лёся. – Я бы еще утром сама купила, да ты деньги забрал, а второй раз выйти у меня уж сил не было…
Муж не пошевелился:
- Вот не могу понять этого женского увлечения снадобьями! Чуть что – горсть таблеток. Одно лечат – другое калечат… Наши предки в таких случаях жарко парились в бане, потом заворачивались в овчинный тулуп, ложились на протопленную печь, а утром вставали здоровыми. В крайнем случае, пили водку с медом. И ничего, до ста лет жили.
- Олег! – взмолилась она. – Неужели мне придется самой идти в таком состоянии?! Ведь даже круглосуточные в эту ночь закроются через час!
Он с сомнением посмотрел на жену и скрипнул зубами:
- Опять сегодня опоздаю из-за тебя! Ладно, давай быстро свои рецепты…
Вернулся на удивление скоро, плюхнул объемистый белый пакет на тумбочку. Лёся жадно развернула его, жарко обрадовавшись, что лекарство начнет действовать уже сегодня, – но с изумлением обнаружила в пакете пять пузырьков сердечных капель и две огромные аптекарские бутыли микстуры от кашля. Она недоуменно шуровала в пакете в поисках заветной коробочки:
- Где мои таблетки, Олег? Что ты мне принес?
- Успеешь со своими таблетками! – махнул он рукой, скривив рот. – Сначала полечись нормально, и только если уж совсем не поможет, травись этой мерзостью… Вот послушай. Стою я в очереди с рецептом, и вдруг одна женщина – пожилая такая, приятная – через плечо мне заглядывает и говорит: «Молодой человек, вы что, с ума сошли? Вы кому хотите это купить? Жене? Не вздумайте: посадите ей печень, потом год будете на лекарства работать! Поверьте мне, я четверых детей вырастила безо всяких таблеток и прочей дряни. И врачей никогда не вызывала – что они знают, эти нынешние! А от кашля рецепт простой и проверенный: берете двадцать капель корвалола, пять столовых ложек микстуры из корня солодки, все это выливаете в стакан горячего чая с сахаром, залпом выпить – и так каждые два часа. На третий день – никакого кашля! Я только так и сама лечилась, и детей лечила, можете мне поверить!». Так что вот, держи. Попробуй сначала, проверь, а потом подумаем, глотать тебе всякую отраву или нет…
Лёся сумела удивиться даже сквозь наплывающую дурноту:
- Ты обалдел? – прошептала она. – Я тебе русским языком сказала: мне врач прописал! А не какая-то чужая женщина. Что мне теперь делать? Я же…
- «Я, я, я!» – передразнил Олег. – Если б ты только знала, как мерзко выглядит со стороны это твое вечное ячество! Никого не слушаешь, никаких авторитетов не признаешь, только якаешь и якаешь. Врач ей прописал, мальчишка сопливый, скажите, пожалуйста! И вместо того, чтобы слушать советы старых мудрых людей, у которых опыт всей жизни за плечами, вместо благодарности…
- Уйди, – простонала Лёся, отворачиваясь. – Уйди ради Бога… Я обойдусь… Только уйди куда-нибудь…
Горячие слезы текли по горячим щекам.
Вместо того чтобы праздновать Новый год вдвоем с одинокой матерью, как делала это уже почти тридцать лет, верная Лена носилась по городу на своем пегом «жигуленке», разыскивая единственную в этой торжественной ночи дежурную аптеку. Она привезла и требуемое лекарство, и горчичники, которые сама немедленно поставила подруге, и еще много-много цветных коробочек с вселявшими надежду капсулами, горошками, бутылочками… Капли, доставленные мужем, правда, тоже пригодились не однажды: Лена капала их в маленькую рюмочку, когда Лёся начинала особенно горько рыдать, и насильно вливала в нее, от всей души приговаривая:
- Ну и сволочь… Ах, какая сволочь показательная… И подумать только, что случись с тобой что, не дай Бог, и он – единственный твой наследник!
Лёся вздрогнула – и твердо отстранила добрую Ленкину руку:
- Нет. Не беспокойся, дорогая. Бывшие мужья ничего не наследуют.
Глава IV
Ходит птичка весело
Небо полностью расчистилось только через несколько дней. Воздух еще оставался густо-влажным, голубоватым, плотным; казалось, его можно было кусать… Небо и земля словно обновились: Илья никогда раньше не видел в природе таких красок – свежих, будто новорожденных, хотя стояло уже вполне зрелое лето.
Теперь он чувствовал себя, да, вероятно, и был взрослым вполне – если не с момента ночной катастрофы, то со следующего вечера – точно. С того часа, когда ему удалось дозвониться с почты в Ленинград, и трубку взяла было соседка, сразу запричитавшая, – но послышалась короткая борьба, и сквозь круглые дырочки в черном эбоните донесся совершенно – мертвенно – спокойный голос отчима дяди Володи. От мамы только что уехала «скорая», ей поставили сильный снотворный укол. Кимки больше нет. Незаметно ни для кого он съел не менее десяти пастилок крысиного яда – это стало ясно, когда мама нашла в его постельке скомканные бумажки и пустую мятую коробку, которую он, верно, раздобыл на кухне и тихонько утянул к себе, когда мама отвернулась, чтобы ему же подогреть пюре с котлеткой. Да, это и правда было очень в его духе: все понравившееся, подошедшее по каким-то его собственным, очень смутным критериям, карапуз действительно умел ловко выкрадывать и тащил в нехитрые тайнички – под матрас своей детской кроватки, на дно корзинки с игрушками… Если добыча оказывалась вкусной – с удовольствием съедал целиком: под одеялом, когда все думали, что он спит, или тихо сидя над игрушками, чтобы казалось, что он увлечен игрой… Мама не могла понять, как он нашел коробку с ядом, – ведь подобные вещи хранились на верхних кухонных полках, куда самому бы ему ввек не добраться, но потом припомнила момент, что будто бы, в конце прошлого лета при семейном отъезде с дачи, по рассеянности, одновременно занятая сотней других дел, сунула в низкий шкафчик с крупами и солью то, что осталось от предосенней травли крыс, – а через год забыла, не обратила внимания… Она рвалась наложить на себя руки, отчим не знал, как жена переживет похороны. «Ты совсем уже взрослый, сынок. И ответственный не по возрасту, и рассуждаешь здраво. Оставайся пока на даче с сестрой: Анжелу, в любом случае, сейчас в город привозить нельзя, зачем ей такие переживания, слишком она маленькая еще. Пока ты с ней – за вас обоих можно не волноваться. А мы приедем через несколько дней, когда… когда…» – его голос все-таки сорвался, и помчались короткие гудки. Они приехали через неделю, в течение которой он готовил еду, ездил на Броневую за газом, доверив Анжелу соседям; а еще – возил сестру в Петергоф на фонтаны и в Ломоносов на аттракционы и лодочные катанья, мычал что-то невразумительно-ободряющее на ее простодушные вопросы о том, когда приедут «мама с братиком» – и больше не читал Аввакума, вечернюю работу над его портретом забросил. Вся надуманная озабоченность протопопа отвлеченными темами – какие книги читать и какими пальцами креститься (все те книги теперь – пыль или, в лучшем случае, музейные экспонаты, а пальцами так и вовсе никакими никто давно не крестится), казались теперь мелкими и ненастоящими по сравнению с живым личным горем их семьи, утратившей крошечного, не умевшего ни говорить, ни думать, а только жадно впитывавшего в себя мир человечка, ничего не сделавшего в жизни – но успевшего подарить столько радости. Однажды Илья разыскал на верхней полке другую коробку с ядом, достал и развернул одну пастилку (она была притягательно розовая, как клубничная карамелька, – какой идиот это придумал!), откусил немножко и пожевал: да, вкусная. На конфету не очень похожа, какая-то жирно-мясистая, пахучая, – точно, Кимке понравилось… Юноша выплюнул ядовитую кашицу и тщательно прополоскал рот, хотя и понимал, что ему, такому большому парню, от такого маленького кусочка ровно ничего не сделается. Но Кимка-то съел их много, штук десять или больше за раз, а действие у них – он прочитал на коробке – замедленное, специально, чтоб крыса не успела отпиться водой или найти природное противоядие (или ребенку не успели бы сделать промывание до того, как отрава проникнет в кровь!)… Комкая проклятую картонку в руках, Илья впервые заплакал, ярко представив вдруг, как, уютно лежа под своим летним голубым одеяльцем, его братишка не торопясь, вдумчиво лакомился, разворачивая сильными пухлыми пальчиками одну «конфетку» за другой, а потом, довольный своей предприимчивостью, – соображал же он уже в два года что-нибудь! – сладко заснул, не представляя, какое его ждет пробуждение… Когда Кимка был жив, Илья не чувствовал сильной к нему привязанности, словно отложив ее «на потом», когда брату можно будет показывать что-то интересное – и слышать в ответ не «ба-ба-ба», учить его полезным вещам – и встречать пытливый взгляд… Так ничего и не удалось для него сделать: от пеленок брезгливо самоустранился, с коляской гулять стеснялся, разве что бутылочки какие-то несколько раз из молочной кухни доставлял – да вот ухитрился его, умирающего, по совету чужой странной тетки, три раза водой облить вместо того, чтобы на руки взять, поцеловать в первый и последний раз, – вот урод, хоть самому себе по морде дай… Он задвинул коробку с ядом повыше и подальше, на цыпочках прокрался по коридору, приоткрыл дверь в Анжелкину спаленку у лестницы: в сизом мареве вянущей белой ночи девчонка безмятежно спала, дыша глубоко и ровно. Хорошо хоть она миновала возраст глупых детских смертей, и сама такая разумная, чувствительная; теперь мама вряд ли отправит ее на дачу с садиком, да и он, если все-таки взрослые решат, отговорит их: как ни крути, а безопасней ребенку находиться в семье, а не среди сорока других сорванцов, в условиях, когда за всеми можно и не уследить…
Вернувшуюся маму Илья узнал не с первого взгляда: впервые на его памяти не напудренная, не завитая, в темном платье, с гладкими серыми волосами, по-старушечьи повязанными косынкой, она казалась усталой пожилой крестьянкой. Мимоходом притянула его голову к себе, прижалась лбом к виску, коротко простонала ненакрашенным, но очень ярким, пунцовым, будто кровью налитым ртом: «Он вот таким же вырос бы… Даже лучше…» – легонько оттолкнула сына, нагнулась, раскрыла объятия звонко летевшей к ней дочери, стиснула ее: «Солнышко, птичка моя…» – и тихо заплакала, еще сильней накусывая губы… Позади них стоял дядя Володя с осунувшимся, неподвижным лицом, мимолетно приведшим на память каменную Голову.
С того дня Илья снова получил право на одинокие прогулки с этюдником на боку – только это теперь особенно не радовало. Утренний и вечерний свет на спокойной воде залива, хвойного цвета невысокие частые волны с мохнатыми гривками в редкую непогоду, голубоватые лилии в заводи среди тростника, на твердых глянцевых листьях, напоминавших пластмассовые подставки под яйца всмятку, – все это казалось теперь ему слащавой пошлостью, предназначенной для вечного кочевания с холста на холст. Зато простым полумягким карандашом он стремительно рисовал в альбоме мертвого темно-крапчатого баклана, выброшенного местной неопасной бурей на серый песок у кромки воды, сожженную молнией прибрежную иву, беспомощно разметавшую серебряные ветви, как женщина, жестоко убитая после надругательств, даже отброшенную дачным поездом под откос домашнюю собачку с остекленевши глазами… Смерть словно гналась за ним по пятам тем летом: Илье все время попадались мертвые кроты, растерзанные сородичами вороны, однажды поперек его пути проволокли тушу только что заколотой свиньи с глазами, похожими на мокрых слизняков; проходя мимо густо заросшего сорняком кладбища, раза два наткнулся на похороны – один раз стеснительно-молчаливые, другой – с подобающим случаю воем. И все зарисовывал – то с натуры, то по памяти, иногда вдруг испытывая странное свербящее чувство, что необходимость соблюдения строгих правил композиции и пропорций словно отступает, выдвигая на первый план с трудом и болью нащупываемую суть предметов и событий. «Так, глядишь, импрессионистом стану, чего доброго…» – бормотал он по ночам в своей комнате, разглядывая дневные наброски со смешанным, тревожным чувством отторжения и – неодолимой приязни. Но уже очевидно было, что Юличу это показывать нельзя, – да и сам Юлич теперь, с высоты горя, виделся не королем кисти, а в меру талантливым самоучкой, подрабатывающим на жизнь в детском кружке рисования…
В семье, которую он видел только поздно вечером, вернувшись из своих грустных странствий, царила теперь гнетущая, невыносимая атмосфера. Отчим взял на работе отпуск раньше времени, боясь оставлять жену наедине с несчастьем; он понимал, что уцелевшие старшие дети не заменят ей так нелепо ушедшего малыша: подросток Илья жил своей непонятной и непростой (а дядя Володя любил все доступное и ясное) жизнью, Анжела, по малолетству, еще не могла быть полноценным другом и утешителем матери. В первый день, когда девочке осторожно, с множеством отвлекающих слов и оговорок, сообщили о том, что «братика больше никогда нельзя будет увидеть», она горько, неутешно разрыдалась и убежала в сад – но уже через час была обнаружена там беззаботно скакавшей с красным марлевым сачком за неуловимой бабочкой-шоколадницей, что каждый раз легко упархивала из-под приближавшейся сетки, не покачнув своего цветка.
По вечерам на веранде мама с отчимом сидели рядом – его рука на ее поникшем плече – и дядя Володя успокаивающе бурчал над маминым виском:
- Мы оправимся, вот увидишь… Уже через год станет легче: мы ведь не первые и не последние потеряли ребенка, сама знаешь… Переживают это люди и идут дальше, что делать… Ты такая еще молодая, вполне сможешь родить мне девочку… Или… или мальчика… Не сейчас, позже, когда…
- Мне никто его не заменит! Никто! Как ты не понимаешь! – словно обжегшись о руку мужа, мама сбрасывала ее со своего плеча. – Он был один такой! Второго не будет – никогда, никогда!
- Конечно! – быстро соглашался он. – Мне тоже. Мы всю жизнь будем его помнить, но новый ребенок утешит, даст смысл… Ты сама увидишь – через год, два…
Мама отчаянно мотала головой, руками утирая слезы, но отчим притягивал ее к себе на грудь, женщина успокаивалась, начинала рассеянно кивать, облизывая губы…
- Ну, вот и ладно, вот и ладно… – он бережно похлопывал ее напряженную спину. – Все изменится, вот увидишь… Ну-ну, не плачь, высморкайся… Возьми платок…
- Мама, а у меня, когда я вырасту большая, тоже будет такой сыночек, как Кимка? – однажды трогательно спросила в такой вечер Анжела из своего кресла, где сидела в обнимку с уродиной-куклой; об отсылке ее на садиковскую дачу речь давно не шла, ее даже спать ни в восемь, ни в девять не загоняли. – Для этого обязательно нужно, чтобы был муж?
- Обязательно! – спохватилась, выпрямляясь, Анна, инстинктивно опасавшаяся рокового вопроса: «Откуда берутся дети в животе у мам?». – Ты станешь взрослой, выйдешь замуж, у тебя появится ребеночек, и ты назовешь его… назовешь его… – ее лицо начинало дрожать, губы кривились.
- Кимкой… – тихо подсказала Анжела, и все четверо, включая и наблюдавшего рвущую душу сцену Илью, заплакали каждый по-своему.
А Заповедника Илья по-прежнему избегал. Ему почему-то представлялось, что там находится своеобразная зона обитания Настасьи Марковны, а все связанные с ней воспоминания были ему теперь отчетливо неприятны. Пусть себе плавает там большой костлявой рыбой, ходит по мрачным аллеям, читает свою черную толстую книгу, сидя на терпеливом тевтонском лбу… Накаркала, чертова баба… Нет, ни в какую силу невольных пророчеств и прозрений Илья и не думал верить – глупо было бы предполагать, что она предвидела несчастный случай с его несмышленым братом, но в глубине души он злился на самого себя – за то, что из-за одного длинного и путаного, ни на какие другие в его жизни не похожего разговора с посторонней женщиной, настолько подпал под ее влияние, что в страшную минуту вдруг взял и произвел ряд нелепых действий, которые ни один человек из тех, кого он знал, любил и уважал, не одобрил бы. Каким он оказался податливым, впечатлительным… Ненадежным, если честно сказать. Сам виноват: нечего было читать дурацкие книги, исказившие ясный взгляд на мир. Действительно, бред какой, если вдуматься: тысячестраничную книгу почти средневекового сумасшедшего (конечно, кто еще даст сжечь себя живьем за право махать рукой перед своим лицом двумя пальцами, а не тремя!) читал запоем почти два года, а тонюсенького Печорина так и не осилил, чуть со скуки на третьей странице не помер, сочинение у соседа по квартире скатал – благо тот в другой школе учится… Ну, ничего: детство кончилось, та страница жизни перевернута; да и с детской изостудией пора заканчивать, с осени – новая интересная школа, где будут профессионально учить рисунку и живописи, а там… Сердце замирало от дерзновенного взгляда за это «там», даже про Кимку в те минуты не думал.
Размышляя обо всем этом по дороге на культурный «пионерский» пляж, Илья рассеянно завернул в «нижний» магазинчик, куда утром часто завозили свежий, почти горячий хлеб с хрустящей, чувственно любимой им корочкой: он имел обычай, заплатив 14 копеек «новыми», жадно обглодать по пути коричневую буханку со всех сторон, оставив лишь неинтересную мякоть, которая немедленно скармливалась черноголовым чайкам, устраивавшим хищный гвалт вокруг дармовой еды. Он не сразу понял, что единственная покупательница, уже убирающая в клеенчатую продуктовую сумку бутылку молока и свежий загорелый батон, и есть избегаемая им Настасья Марковна. Она уже заметила входившего юношу, стояла и улыбалась глазами, поэтому развернуться и убежать было очень бы по-детски – Илье пришлось буркнуть: «Здрасьте», – и он сразу повернулся к молодой продавщице, узнавшей его и приветливо протянувшей хлеб. Женщина не уходила, досадно медлила, копаясь в своей потертой клеенчатой сумке, и тронулась к двери только вслед за Ильей – ему еще и пришлось посторониться и механически, как учила мама, пропустить «даму» перед собой.
- Ну, что? – приветливо спросила она. – Продвигается портрет?
Он даже не понял, о чем идет речь, но потом спохватился: ах, да, он же рассказал ей… Тогда, у озера, в начале лета… Месяца полтора прошло – а будто в прошлом веке осталось… Он начал переходить шоссе, надеясь, что противная тетка отстанет, пойдет наверх, где, должно быть, ее дача, но она медленно шла рядом, и как отделаться от этой непрошеной компании, Илья не знал. Он помотал головой – нет, мол, не продвигается.
- Что ж так? – с легкой насмешкой продолжала спутница, когда они шли по тенистой дорожке вдоль шоссе. – Не поддается тебе упрямый старик?
Илья молчал, плотно сжав губы: что ей за дело?! Что она пристает к нему?! Шла бы своей дорогой! Из-за нее… И тут на глаза навернулись слезы – а женщина, как раз в этот момент глянув на юношу сбоку, их заметила. Ну, и пожалуйста, пусть любуется! Пусть посмотрит на свою работу! Он резко остановился и развернулся к ней лицом, в отчаянье стыда отбросив всю вежливость:
- Ну, что, интересно?! Интересно, да?! Ну, смотрите, смотрите, разрешаю! – слезы уже усладительно-жгуче текли по щекам.
- Господи… – Настасья Марковна отшатнулась. – Что у тебя случилось, Илья? Дома… С родными… Все хорошо?
- Не хорошо! Не хорошо! – зло выкрикнул мальчишка. – Довольны?! – увидев мелькнувший в ее глазах ужас, продолжал с изумительным удовольствием: – Мой брат три недели назад наелся крысиного яду, и его не сумели спасти в больнице… Мать с отчимом оба черные от горя, сестренка рыдает… А я… я чувствую себя скотиной! Да, скотиной – и все из-за вас! А вы тут, вы… – потеряв голову, он подыскивал какое-нибудь сильное оскорбление и неожиданно вспомнил, как покойная бабушка ругалась на кухне с соседкой: – Кликуша вы, вот кто!
Он точно не знал, что означает это слово, но надеялся, что того, кто накликает беду. Женщина ахнула, двумя руками схватившись за лицо. Так они и стояли друг напротив друга, и смотрели друг другу в глаза, оба с отчаяньем – но разного свойства. Наконец, ее взгляд смягчился, она сделала шаг к Илье и осторожно взяла его за руку повыше запястья:
- Не надо нам стоять здесь так… Пойдем потихонечку… Пойдем, мой хороший…
После своей неприличной выходки юноша почувствовал настоящее облегчение и, не встретив ответного выпада, смутился и дал себя повести. Настасья Марковна ничего не говорила, но от нее так и веяло настоящим, а не просто приличествующим случаю сочувствием, и ему вдруг пришло в голову, что в семье-то сочувствия ждали именно от него. Илья был там как бы выведен за скобки горя скорбевших родителей, и никто отчего-то даже не спросил о том, горюет ли он по нелепо погибшему братику и не нуждается ли в утешении, как Анжела. А эта посторонняя женщина вела его бережно и чутко, будто больного, не давая спотыкаться о мелкие камушки и трещины, и рука ее была так успокоительно тепла…
- Я что-то не то сказал… Вы – это… извините, – дрогнув сердцем, пробормотал Илья.
- Ничего страшного. У человека не каждый день умирают братья… – она чуть сжала его руку и указала на поваленную иву недалеко от пляжа: – Давай сядем. Потом, если захочешь, поплаваем.
Он все еще неловко нес остывающую буханку, обнимая, как щенка. Настасья Марковна улыбнулась, указывая на нее глазами:
- Можно? А ты оторви кусок моей булки…
Так, сидя на поваленном дереве и глядя на золотящийся впереди залив, они преломили хлеб и, не брезгуя друг другом, запили приятно холодноватым молоком из бутылки. Илья уже знал, что был несправедлив к Настасье Марковне, что она – хорошая, с минутку поколебался, не зная, трогать ли ее старую рану, но потом откинул сомнения, вдруг остро почувствовав, что с этой женщиной можно говорить обо всем:
- Скажите… Мне показалось… Если я ошибся, то простите… Но – у вас ведь тоже умер когда-то ребенок, да?
Она медленно кивнула:
- Да. Тридцать лет назад в спецдетдоме. От скарлатины.
Илья вздрогнул:
- Вас – что… незаконно репрессировали? – словно чьи-то шершавые лапки прошлись по спине: слышать-то он слышал, и не раз, но вот так, чтобы своими глазами увидеть человека, вернувшегося оттуда…
Настасья Марковна криво усмехнулась:
- Почему незаконно? Законно, наверное. Только законен ли был сам закон – вот вопрос… – Она выпрямилась: – Я дочь расстрелянного священника и жена замученного. Отца расстреляли в конце девятнадцатого, мужа забрали – без возврата – в начале тридцать первого. Меня тоже арестовали – ненадолго, но этого хватило. Нашу трехлетнюю дочку бабушкам не отдали, как они ни бились. Ее отправили в специнтернат – такой, где детям меняли имена и фамилии, так чтобы они никогда не узнали, кто их родители… Но меня через месяц выпустили. Почему – не знаю, так Богу было угодно. Я бросилась искать ребенка – это было почти невозможно. Пока искала, девочка заразилась в интернате скарлатиной, а пенициллина, как ты сам мне сказал там, в Заповеднике, тогда еще не было… Поэтому, когда я туда, наконец, правдами и неправдами, добралась, меня смогли только провести на кладбище.
Теперь уже Илья потрясенно молчал какое-то время, но потом спохватился и выдавил:
- Но ведь всех теперь реабилитировали… Наверно, и отца вашего, и мужа… Посмертно… Да?
Ее усмешка превратилась в горькую ухмылку:
- Нет. Хрущев реабилитирует тех, кто не совершил преступлений против власти и просто попал в конвейер. А мои близкие – совершили: они верили в Бога и призывали к тому других; это считалось преступлением, и они сознательно шли на него. Поэтому на реабилитацию папы и Геннадия я даже не подавала. Получить бумаги «об отсутствии события преступления», какие сейчас направо и налево раздают? Но они произошли – те события! Ни папа, ни муж сами не захотели бы такой реабилитации, потому что это означало бы, что я предала их смерть за веру… Их вольную смерть, которую они приняли, как… как Аввакум. Видишь – я тоже попадья, и имя у меня случайно или не случайно – такое же… Только вот силы не те – ни по острогам за мужем, ни по этапу… Когда со Шпалерной вышла – только и мыслей было: надо же, как легко отделалась, не калекой выхожу, не сумасшедшей!
Илья схватился за виски и сжал их, будто руками можно было собрать и аккуратно сложить в голове рвавшиеся в разные стороны мысли. Вдруг в сознании убийственно ярко всплыла веселая живая картинка: мама осторожно сажает на только что заполненный кипятком заварочный чайник странную куклу в виде толстой тряпичной бабы в платке, завязанном на макушке, – без ног, но в пышных длинных юбках. «Посиди-ка, попадья, и сама на горяченьком… Пугал, небось, твой муженек темных старух адскими сковородками…» – с улыбкой приговаривает она. Юноша быстро глянул на собеседницу: она вся словно состояла из ломаных линий: острые колени, обхваченные худыми длинными пальцами с четкими суставчиками, никакой округлости в руках, прямая мужская линия плеч, резкий скорбный профиль, косая линия коротких волос… Вот она какая, оказывается, – попадья… Может быть, Хрущев и ее захотел бы показать по телевиденью – вместе с последним попом – последнюю попадью?
- Настасья Марковна… – робко сказал он. – А я ведь, ну… В общем, сделал, как вы учили, с Кимкой… Когда он… Перед тем, как его… Три раза водой полил… И сказал – ну, то самое… Но русское имя только одно вспомнил – Иван… Вот. Я и сам не понял, как так получилось.
Она стремительно обернулась:
- Что?! – и задохнулась: – Ты – окрестил – братишку?! Господи… Дивны дела Твои! Илья… Ты ведь не понимаешь, что значит твой поступок?
Он помотал головой. Попадья перевела дух:
- Ну да, ну да… Я не стану тебе сейчас объяснять – да и глупо было бы. Просто – на будущее – запомни: вы с братом встретитесь. Это так же точно, как… Как вот этот залив, эта ива, этот хлеб… Не спрашивай! – она жестом остановила его готовые сорваться слова. – Сейчас ты все равно не поймешь ответ. Нет, я не думаю, что ты еще маленький или что-то в этом роде… Просто до этого лета вся твоя жизнь шла иначе…
- Я понимаю, – угрюмо запротестовал Илья. – Вы говорите про «тот свет». Я читал. Вы ведь знаете, что я прочел всего Аввакума. Просто я в это не верю, понятно? Думаю, это придумано слабаками для слабаков. Если люди будут верить, что встретятся с близкими после смерти, это даст им силу не умереть от горя, вот и все. А сильный человек, даже зная, что не увидит тех, кто умер, никогда, – все равно живет и работает. Так я считаю.
- Слабаки, говоришь… – задумчиво протянула Настасья Марковна. – По-твоему выходит, что мой муж – отец Геннадий, например, был как раз одним из таких слабаков… Ладно. Он служил здесь недалеко, в Старом Петергофе – может, ты видел, стоит там внизу у шоссе старое темное здание – вроде кирпичного куба, там еще склады сейчас какие-то. Это бывшая церковь – храм святого Серафима Саровского… На подворье Дивеевского монастыря. И монахини еще оставались, только носили мирскую одежду и числились какими-то артельщицами… Отец Геннадий был там священником и, уходя служить, каждый раз прощался со мной и дочкой навсегда: аресты «служителей культа» стали к тому времени массовыми. Но пришли не в церковь – домой, в Петергоф. Культурный такой мужчина, тихий, говорил вежливо, удостоверение показал. Вас, говорит, отец Геннадий, решено не трогать: вы человек молодой, не косный, с вами власть готова сотрудничать. Опять же, жена ваша совсем молоденькая (мне только-только двадцать два исполнилось), а дочка и вовсе крошка. Так что, мол, понимать должны: не стоит с нами особенно ссориться… Говорит – а сам улыбается, кота нашего гладит, за ухом ему чешет – а кот, дурак, мурчит, пузо подставляет. Муж отвечает: если вы, дескать, к тому клоните, чтоб я вашим агентом стал, то об этом и речи быть не может. А тот смеется, обеими руками машет: что вы, что вы, разве ж мы не понимаем? Нам и надо-то от вас всего ничего: завтра воскресенье, в церкви служба будет, а после вы ведь, как всегда, проповедь скажете? Говорите вы красиво, убедительно, верят вам люди – этого не отнять, сам специально слушать ходил. Ну, вот и скажите – так, между делом, – что Причастие, которое в церквях дают, – это хлеб и вино, а не… Словом, не та дикость, которую многие сдуру повторяют, – не человеческое мясо и не кровь. А просто старый русский обряд, вековая традиция, так сказать, или там иллюстрация к евангельскому рассказу – вам виднее… И все. Будете служить себе и служить, как раньше. И церковь закрывать не потребуется: те, где священники сознательные люди, не мракобесы, мы не закрываем, зачем? Ну, что, батюшка? Идет? Не подведете нас? – и подмигивает по-свойски. Муж спрашивает – а что, мол, если я откажусь? Тот морщится: ну, зачем такие жертвы – дом какой хороший, теплый, жена-красавица, девочка здоровенькая, да и других нарожать не заказано… Ради чего все это терять-то, не идиот же вы, простите, – с университетским образованием человек, нам такие ох, как нужны… Я и слушать ничего не стану, считаю, что мы договорились, потому что всего и дел-то – одну фразу сказать, причем, правдивую, заметьте: мы же цивилизованные люди, ха-ха, человечину не едим. А сомневаетесь – вон, с матушкой посоветуйтесь: уж она-то вам дело подскажет, будьте уверены… Дочку потрепал по макушке и ушел. Муж меня был на двадцать лет старше, папы моего – отца Марка, – его расстреляли прямо на церковном дворе, когда мне десять лет было, – давний товарищ, какая я ему советчица… Так и обмерла, села на диван и пошевелиться не могу… Это она – та – Настасья Марковна своего протопопа на подвиги вдохновляла: иди, обличай, обо мне и детях не тужи… А я… Сижу на диване, слезами обливаюсь и шепчу: не вздумай… не вздумай… Я имела в виду – не вздумай ослушаться, но муж, наверное, не так понял, потому что подошел вдруг – и в ноги мне, как Аввакум своей матушке… Лицо в мои колени спрятал – и тоже: не могу, не могу… А чего не может?.. Так всю ночь и просидели – то он заплачет, то я. Утром я дочку отвела к бабушке, а сама с Геннадием – в храм. Как службу отстояла – не помню. Больше суток не спала, меня качало, слезы лились, в голове стреляло. Ждала проповедь – а о чем говорить будет, так и не знала. Наконец, вышел – спокойный, улыбается. У меня отлегло: значит, все в порядке, сейчас скажет что-нибудь длинно и непонятно – все равно никто ничего не поймет, прихожане наши – люди простые, монашки тоже… И пойдем мы вместе домой потихонечку, и капель станем слушать, и солнышко, совсем весеннее, заглянет нам в лицо, и на душе будет… И вдруг я поняла – почувствовала – как будет на душе. Как у Иуды Искариота, когда он бросил тридцать серебреников на пол и шел вешаться. И сразу решила, что скажу, когда мы выйдем: давай повесимся, теперь уж все равно… Но Геннадий заговорил – очень быстро, потому что боялся, что досказать не дадут: «Братья и сестры! Если вам какой-нибудь священник когда-нибудь скажет, что плоть и кровь Христова, которую мы принимаем, – это просто вино с хлебом и ничего больше, и что здесь исполняют просто красивый обычай, – не верьте этому человеку: он предатель и вероотступник. А меня, грешного иерея Геннадия, простите и благословите», – поклонился народу и ушел сквозь Царские Врата. Больше я мужа не видела: его взяли прямо в алтаре, там были двери наружу, через них и увели. Ни одной передачи для него ни от кого не приняли, выдали бумагу, что он, как тогда называлось, «приговорен к высшей мере социальной защиты» – но потом, уже после того, как оттуда стали возвращаться люди, меня нашел его сокамерник. Он рассказал, что Геннадия ужасно пытали, много раз приволакивали в камеру без сознания, всего изувеченного, – и однажды он не вернулся с допроса, умер, вероятно, от пыток… Вот тебе, друг мой Илья, и вся история одного слабака. Правда, если хочешь, можешь считать, что фанатика.
Настасья Марковна хмуро смотрела на черную с белым, будто игрушечную баржу, гордо разделявшую вдалеке одинаково кобальтовые море и небо. Илья оглушено молчал…
А поздно вечером, когда он завернул в узкий переулок, ведущий к дому, – смяв белым боком свесившиеся за забор ветви давно отцветшей сирени, у калитки снова стояла, выключив огни, неуклюжая, казавшаяся огромной «скорая помощь».
«Мама! – ожгло Илью. – Не выдержала…». Но уже на садовой тропинке он ясно услышал ее звонкий голос с веранды и решил: «Значит, Анжела…». Взлетел по ступенькам, толкнул хлипкую дверь: крепко прижав к себе самозабвенно обхватившую ее за шею дочку, мама полусидела на подлокотнике ветхого кресла, а напротив как раз силился подняться с затянутого холщовым чехлом дивана бледный, испуганный, но вполне целый и невредимый отчим. В центре комнаты одна девушка в белом халате застегивала внушительный медицинский чемоданище – и оставалось только мимолетно удивиться тому, как непринужденно она с ним обращается, – а другая просто стояла, убрав руки в карманы, и громко, равнодушно говорила:
- В следующий раз, если вы опять ошибетесь, – умрете. Сейчас вы остались живы только потому, что приняли одну таблетку. Если бы, как обычно, две, то мы бы вас не то что здесь не откачали, но и до больницы бы не довезли… Так что…
- Да все же пузырьки одинаковые – коричневого стекла… – оправдывался отчим… Наклейки похожие! Да и не думал я, что может попасться что-то опасное…
- Так что впредь – внимательно читайте названия! – неумолимо продолжала докторица. – И помните, что при определенных болезнях есть лекарства, принимать которые смертельно опасно!
- Надо же, как чувствовал, одну принял… Подумал – не очень, вроде, прихватило, можно и уменьшить… – продолжал пострадавший.
Юная врачиха усмехнулась:
- Сегодня это вас спасло, но вообще-то дозировку не нарушайте. Если врач сказал принимать две – значит, две. Только правильные…
- Клянусь! – прижимая ладонь к груди, заверил он спину своей спасительницы, уже направившейся на выход.
Когда все успокоилось, мама, то и дело смаргивая слезы, объяснила сыну, что дядя Володя по оплошности чуть не убил себя, проглотив таблетку не из того пузырька. Она тоже теперь принимала по совету врача таблетки от сердцебиения, изводившего ее почти до тошноты весь последний страшный месяц, и держала их в той же аптечке, где и муж хранил свои таблетки от астмы, подхваченной еще на фронте: воевал он почему-то только в холодных и сырых краях – то стоя по горло в ледяной воде, то сутками не вылезая из гнилых ядовитых болот… С тех пор, чуя приближение приступа удушья, он не пугался, а заблаговременно принимал две сероватые таблеточки – и с их помощью почти незаметно перемогался. Ему, конечно, и в голову не приходило, что безобидные «пилюльки», прописанные жене и стоящие в той же аптечке, в такой же маленькой баночке темного стекла, могут убить его – молодого крупного мужика, расписавшегося на Рейхстаге! Он и сейчас с трудом это постигал – но Анжела уже лезла к нему на колени, смешно бодаясь мягкой душистой головкой, – пусть не своя кровь, но частица любимой женщины, которая тоже была здесь, у его еще крепкого плеча, и теплые слезы мочили ему рубашку…
Илья теперь не всегда таскал на себе тяжелый, все плечи оттянувший этюдник – носил иногда только легкую папку с бумагой, карандашами и ластиком. Останавливался, делал скупые наброски того, что остро цепляло внимание, – но больше думал. Он уже был достаточно взрослым в свои шестнадцать, чтобы понимать, что это лето станет для него переломным, на всю жизнь значимым, – и не только из-за потрясения нелепой смертью братика. Вот был он – ползал, гудел, пах собой и мамой, шкодил понемножку, смотрел весело – и нет его. И не будет. Нигде и никогда… Или… И как Илья ни запрещал себе заходить за это «или», как за пограничный столб, – все равно не раз и не два ступал туда с недоверчивым любопытством… Или он есть. Просто не здесь, будто уехал надолго-надолго… И вернется, когда станет уже взрослым, будет ему тридцать три года… Почему именно столько? Может, по аналогии с «тридцатью тремя богатырями»? Хотелось увидеть его большим и себя – большим, и отчего-то в мыслях он ощущал Кимку себе ровесником, будто им обоим по тридцать три, они идут и степенно беседуют… Илья вздрагивал и обнаруживал себя стоящим – спина вжата в мощный ствол – в дубовой роще Заповедника, и слышались сквозь резную листву и зеленый свет недалекие крики мальчишек, сигавших в пруд с высокого каменного мостика без перил. Кимка так никогда не прыгнет. Иногда во время таких скитаний юноша видел в стороне свою мать и сестру – теперь они часто совершали далекие прогулки в лесопарк, где даже набредали иногда на чистые россыпи молодых березовых белых грибов – и тогда Анжела собирала их в подол короткого платьица, а мама грустно восхищалась милыми находками дочки. Иногда две почти призрачные фигурки – женская и девчоночья – мелькали вдалеке на побережье залива, у самой кромки мягко плескавшейся у босых ног воды, нагибались, что-то поднимали, рассматривали… Собирали камушки, которые потом долго и серьезно вдвоем сортировали в Анжелкиной комнате, чувствуя спинами пустоту соседней.
Виделся Илья и с Настасьей Марковной, даже заходил к ней в большой и ветхий двухэтажный дом над сливочно-сиреневым от тесно росших головок клевера и кашки полем. На верхний этаж и во времянку она пускала на все лето дачников, сама по полдня убивалась в любую погоду над огородом… Дом, войной пощаженный, достался ей от матери, к которой она прибежала, отпущенная из Большого дома, – после того как обнаружила, что в собственном ее с мужем уютном – Маленьком! – домике, где они были счастливы, где родилась их несчастная девочка (попадья так ни разу и не произнесла вслух ее имени: «Не могу: заплáчу»), уже месяц живут чужие люди, тоже считающие его своим. «Мы всегда здесь жили», – не моргнув глазом, сказала потрясенной Анастасии новая бесстыдная жилица. Как жене и дочери репрессированных, на работу ей устроиться не позволили и даже на войну доброволицей не взяли – вероятно, как она сама с кривой улыбкой поясняла, боясь, что она из мести помчится продавать военные тайны врагу. После войны добавили попадье еще один официальный грех: жила на оккупированной территории, что, вдобавок к двум первым, и вовсе вычеркнуло ее из списка советских людей. Получив до замужества, при полусытом НЭПе, специальность акушерки, Настасья Марковна умела ставить капельницы, принимать несложные роды и делать инъекции – тем и перебивалась, когда деньги дачников и фруктово-овощные заготовки подходили к концу. Ее помощь была неизменно востребована у простых людей, не особо доверявших жестокой советской медицине, но с детства знавших бедную, рано осиротевшую поповну, дочь на глазах у всех застреленного из наганов деревенского батюшки Марка. Зато и на пенсию от государства ей, как презренной тунеядке, рассчитывать не приходилось… «Паду в оглоблях», – нерадостно шутила она.
Спустя годы Илья часто задавался вопросом: а правда ли, что иногда действительно можно каким-то образом провидеть будущее? Или просто человек чего-то очень желает или опасается, а когда это действительно происходит, убеждает себя, что знал все наперед? Про то лето он мог сказать твердо: чувство, что смерть Кимки – только начало неведомых бед, не отпускало его ни на минуту и осязаемо сгустилось, стало почти непереносимым ближе к началу жаркого, по-южному бархатного августа. Это казалось нелогичным: достигнув своего апогея, горе должно было пойти на спад, и, вроде, так и происходило – а все же, Илья подспудно ждал неотвратимого, как был втайне тоскливо убежден, повторного удара. Он всегда медлил возвращаться домой, инстинктивно боясь вновь увидеть в своем сумрачном, заросшем травой переулке страшную белую машину с красными крестами на боках и спящим водителем внутри. (Последнее его всегда оскорбляло, даже когда «скорая» стояла в городе у чужого парадного: внутри всегда либо спал, либо лениво читал газету праздный водитель, нимало не беспокоясь о том, что в тот момент кто-то жестоко страдал или вовсе прощался с жизнью.) Каждый раз юноша заворачивал за угол с остановившимся сердцем – и, облегченно выдохнув, тихо ругал себя матом за мнительность…
Но это случилось именно когда Илья уехал в Ленинград оформляться в новую школу. Он специально оттянул поездку до пятницы, зная, что дядя Володя, накупив в Елисеевском гостинцев, сразу помчится после работы к жене и дочери, и можно будет переночевать дома в блаженном и слегка незаконном одиночестве. Все так и вышло: квартира была пуста и прохладна, на соседской двери висел внушительный замок, а в их двух просторных смежных комнатах (еще весной там смеялась мама, надувал щеки Кимка, прилежно склонялась над книжкой-раскраской Анжела, что-то упорно писал и чертил за черным от времени письменным столом дядя Володя, а Илья, почти «под ноль» остриженный после больницы, расслабленно слушал хриплый транзистор – и все это вместе взятое называлось «счастливая семья») пахло старой пылью, припеченной отвесно падавшими сквозь высокие окна пушистыми лучами солнца, стояла посреди усеянного крошками обеденного стола недопитая утром отчимом кобальтовая с золотом чашка чая, преувеличенно спокойным женским голосом никогда не выключавшееся в доме радио бесконечно склоняло два насущных слова: «космос» и «кукуруза»… Он стоял в дверном проеме, как чужой, не вполне узнавая собственный дом и медленно холодея душой от понимания, что если бы Кимка был просто на даче, живой и здоровый, то не так враждебно выглядели бы родные стены! Он думал насладиться свободой и одиночеством – но навалилась черная, будто живая тоска. Борясь с ней, Илья вымыл пол, протер мебель, задвинул шторы, долго и преувеличенно бодро жарил себе на кухне картошку с салом, хрустел купленными днем на Ситном малосольными огурчиками – и все это с твердым чувством, что хочется только одного: броситься лицом в подушку и заплакать. Он поборол себя – на этот раз не осознав, что одержал нешуточную победу, – полистал, лежа на кровати (почему вдруг стало некуда девать ноги? куда ни протяни – все во что-то упираются…), неинтересные страницы первой попавшейся книги, прикрыл на минутку глаза… А когда открыл их, было уже совсем светло, в распахнутое окно шла волшебная свежесть и слышалось мерное дружелюбное шуршание: он знал, что это движется «свиньей» по Большой Пушкарской смешная маленькая армия поливальных машин…
В электричке удалось сесть только после Петергофа, когда шумно вывалилась из вагона потная толпа взрослых и детей, рвавшихся на фонтаны, – сесть и глотнуть воздуха из опущенного до предела окна. Там уж было недалеко, и от станции, еще на платформе позволив себе полностью расстегнуть рубашку, – по груди уже вились первые русые волоски, его законная гордость – Илья побежал почти вприпрыжку, решив лишь показаться матери, выпить стакан холодной воды и дунуть купаться, только не на молочно-теплый залив, а на глубокий и опасный, прослоенный отрадными ледяными течениями карьер по другую сторону от железной дороги. В эти минуты – наверное, из-за того, что стоял дивный полдень, а не грозная ночь, – он впервые не боялся увидеть «скорую» в своем тенистом переулке, и только уже не увидев ее, вспомнил, что она могла там оказаться и вызвать приступ тошнотворного ужаса. Впрочем, всего через несколько мгновений ему предстояло испытать кое-что похуже: на крашеных ступеньках крыльца, ведущего на веранду, спиной к распахнутой двери, за которой веяло белым тюлем, босоногий и желтоголовый, сидел и спокойно ел с голубого фаянсового блюда бледные северные вишни все тот же соседский мальчишка, чей пронзительный и жуткий крик когда-то раздался над серым песком у залива, сея страх и беду. Заметив будто на стену налетевшего при виде него Илью, он поднялся, шустро распихивая по карманам недоеденные ягоды, потом ловко выстрелил изо рта гладкой розовой косточкой в сторону кустов и недовольно сказал:
- И сколько я, по-твоему, тебя ждать должен? Притопал, наконец, слава, те… А мамаша твоя – «рано утром, рано утром…»! Ведь я как чувствовал, что продрыхнешь до обеда, – соглашаться не хотел… Короче, все, вахту сдал – вон ваша малáя, в саду пасется – видишь, белое платье мелькает? Ну, бывай…
- Стой! – расколдовался Илья. – Ты чего бормочешь?! Какая вахта?! Где мама?! С ней что-нибудь…
- Да не-ет… Не с не-ей… – маленький Алконост смачно отправил в рот еще одну неказистую вишенку, и трясущемуся Илье пришлось ждать, пока он ее со вкусом обсосет, и выплюнет скользкую косточку. – Этот высокий – не родной ведь тебе батя? Ну, короче, он там вчера таблетки какие-то не те выпил… Врачи понаехали, ругались – я через щель в заборе смотрел, через открытые-то окна и видно все, и слышно хорошо – что уж не первый раз он что-то там перепутал… И на мамашу орали, что не уследила. Потом в «скорую» его поволокли, а мать твоя к моей, как полоумная, кинулась – ну, чтоб за девчонкой присмотреть, пока она в больнице с ним … Сказала, ты рано утром приедешь – ага, как же, приехал ты… Маманя моя всю ночь тут на диване спала, а с утра пошла корову выгонять – и меня стеречь поставила… Да ты не бойся, я сеструхе твоей и каши с маслом разогрел, и молока парного принес – все как положено… Мы б так жрали – и сыр, смотрю, у вас в буфете лежит, и мясо в супе плавает… Ладно, пошел я… Ты давай не дрейфь, прорвемся.
Вечером пришел серьезный немолодой участковый, важности ради отрастивший себе совершенно буденновские усы, попросил показать лекарство, которое принимал отчим, – Илья провел милиционера к висячей деревянной аптечке, где тот долго изучал коробочки «тройчатки», нюхал пузыречки эфедрина и йода, пробовал на вкус микстуру от кашля, подержал в руке темный флакон с мамиными таблетками, которыми отравился дядя Володя и на который молча указал Илья… Но второго, «правильного», точно такого же на вид, только с другой надписью на этикетке – коричневого, почти непрозрачного, с тусклой пластмассовой крышечкой – не нашли нигде, хотя искали и на кухне, и в тумбочке, и по всем комнатам…
- Может, твоя мама с собой взяла… – бормотал участковый, пожимая плечами и озираясь. – Машинально… А потом выронила где-нибудь… От нее сейчас проку мало – в таком состоянии женщина… – он сочувственно потрепал юношу по плечу: – Ну, держись, сынок… Он ведь не родной тебе был, да?
Илья не отвечал ничего. Ему стало по-настоящему страшно.
Мама вернулась в двадцатых числах, но не одна, а с давней, со школы еще, близкой подругой, которую Илья любил, звал тетей Валей и был рад видеть всегда. Он боялся, что после повторного удара мама изменится еще больше, совсем уж необратимо, тяжело заболеет, или с ней случится что-то совсем уж страшное, например (Илья вздрагивал от этой мысли) она возьмет и помешается… Он с ужасом ждал ее приезда – и был поражен тем, что мама будто даже выглядела лучше, чем неделю назад. Во всяком случае, она с аппетитом съела немедленно приготовленный тетей Валей кровавого цвета борщ, положив туда неслыханное количество местной жирной сметаны, а потом спокойно заснула тут же, на веранде, обхватив рукой клубком свернувшуюся рядом дочь, под негромкое звяканье посуды, споро прибираемой расторопной подругой. «Думает, хуже уже не будет… – задумчиво смотрел на нее так и не вставший из-за стола сын. – И ошибается… Да, ошибается…» – он встряхнул головой, изо всех сил надеясь, что странная злая мысль выскочит сама…
Теперь Илья спешил в Заповедник не гулять – разговаривать с Настасьей Марковной. Ее почти всегда можно было поймать там с утра – отрешенно бредущую по длинным аллеям, скульптурно застывшую с книгой на коленях в укромном, всегда неожиданном уголке леса, красиво переплывающую нижний пруд наискосок… Было видно, что женщина сдержанно радуется ему, – а он неосознанно искал в ней то, чего всегда смутно недоставало в матери: серьезной заинтересованности его внутренним миром. Мама – в те, прежние, счастливые дни – педантично заботилась о сыне, следила за чистотой его скромного гардероба, сама любовно стригла «под польку», как ему нравилось, и вовремя замечала, что он «опять оброс», предлагая немедленно обновить его свидетельствовавшую о вольнодумии стрижку; готовя еду, считалась с его вкусами, заинтересованно рассматривала живописные работы и рисунки, наивно гордясь «увлечением» отпрыска, всегда готова была приласкать, взъерошив парню волосы и бегло поцеловав в висок… До встречи с серьезной и ласковой попадьей Илья ничего большего не желал, а мир своих сложных и противоречивых мыслей берег для смутно желанного, в жизни пока не случившегося друга, невольно представляя его ровесником и, уж конечно, не женщиной. С Настасьей же Марковной можно было говорить обо всем без утайки: о печальной гибели любимого котика, о досадных сомнениях насчет личности Аввакума, о роковом отсутствии друзей – однажды он даже на свои периодические ночные напасти, вроде тех, от которых Аввакум лечился с помощью трех свечек, осмелился намекнуть! Она поняла, пожала плечами и рассказала, не отводя глаз, что и с ней в девичестве случалось подобное, только в те годы никто и помыслить не мог о том, чтоб спросить о таком у старших, и она уж было начала считать себя бесноватой – да вовремя вышла замуж… О несчастном случае с дядей Володей юноша тоже немедленно сообщил ей, сразу покаявшись в том, что не слишком любил покойного отчима, – лишь терпел в доме пусть хорошего, но постороннего человека ради мамы – и вот, как вышло… Инженер-изобретатель был, рассеянный человек, весь в мыслях о работе, да еще несчастье с единственным сыном… Немудрено, что перепутал… Жаль его, а пуще – маму…
Попадья надолго задумалась, меж бровей, как тяжелая игла, повисла глубокая темная складка. Они сидели рядышком на глухом берегу самого верхнего, заросшего озера; прямо перед ними совсем молодая коричневая утица, тревожно вытягивая шею, неустанно следила за мнимо безопасным небом, пока беззаботно кормился в воде ее первый в жизни выводок утят-подростков, одних только ярких селезней; вот ей почудилась в бледнеющей синеве ястребиная тень, она трижды издала короткое резкое «Кря!» – и лишь убедившись, что все ее дети немедленно исчезли под прибрежными корягами, мать и сама поспешила в безопасное место. Илья с улыбкой наблюдал за ней, руки так и тянулись к папке с бумагой, но Настасья Марковна обернулась – и он вздрогнул: лицо женщины совершенно застыло.
- Если бы я была атеисткой, то сказала бы так, – вдруг жестко произнесла попадья. – Один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность. Сначала кот, потом мальчик, за ним – мужчина. И все чем-нибудь отравились. Если считать кота, то выходит два с половиной.
Юноша отчетливо ощутил, как екнуло сердце.
- Вы… вы считаете… – пробормотал он, – что все это… не случайно?..
- Я ничего не считаю, – тихим, но стальным, как нож, голосом отрезала она. – Я просто констатирую факт.
Глава V
Что тебе снится…
Следующий раз Алексей открыл глаза снова в угрожающей полутьме. Что это было? Занималось утро или уж подкрадывался вечер? В любом случае, свет заставил бы пастуха бесплодно выбирать «entre chien et loup». Он точно понял, что проснулся, и даже немедленно осознал, что находится на даче, причем пробуждение опять странным образом произошло на кухне: прямо перед глазами слабо мерцали медные фигурные гвоздики пурпурной кожаной обивки дивана. В ту же секунду он затылком почувствовал, что в помещении кто-то есть, – более того, тот, кто находился сзади, вероятно, стоял прямо около дивана, может быть, даже наклонившись над лежащим, и это была не дружелюбная, ласковая Аля! От незнакомого существа – сущности! – в ужасе понял Алексей и содрогнулся – шли осязаемые токи ненависти – холодной, и безжалостной, как у готового к нападению аллигатора. Происходившее совсем не напоминало уже ставшие привычными панические атаки и, более того, в какую-то очень ясную секунду несчастный понял, что ни один пережитый им приступ не может сравниться с тем, что происходит сейчас! Из глотки рванулся крик – и не вышел наружу: только беспомощный, еле слышный сип, слабое потрескивание услышал Алексей, черное безумие захлестнуло душу, побуждая вскочить и бежать, – и тут он обнаружил, что полностью, с головы до ног парализован и даже не может закрыть выпученные в смертном страхе глаза! А опасность зависала над ним все тяжелее, все ниже наклонялся тот, что стоял за спиной, живая и осязаемая жуть сгустилась вокруг – и его поразило, насколько сознательным, личным было зло, окружавшее его, – сейчас он сойдет с ума, это нельзя пережить!!! А вдруг это все-таки сон?! Нет, четко слышен недалекий ветер в ветвях, а вот вдалеке проехала машина: это явь или конец, ад – ад, вот, что это такое!!! Господи, может, надо перекреститься?! Но по-прежнему не двигаются даже кончики пальцев!!!
Страдалец сделал невероятное, на пределе всех возможностей усилие, чтобы либо умереть, либо вырваться из невидимых пут, – и вдруг с шумом выдохнул, освободились губы, зашевелился язык, дав возможность коряво прошептать: «Господи, помилуй…», и сразу началось медленное оживление всего тела – но ощущения не походили на те, привычные и любимые, когда он в полушутку баловал себя, позволяя ноге или руке полностью «задеревенеть», чтоб впоследствии насладиться мощным током словно прорвавшей плотину крови… Еще пара минут – и он уже сидел, опустив ноги на пол и чувствуя ступнями прохладу рельефной плитки, мокрый с ног до головы, крупно трясущийся, и с хрипом переводил дыхание, растирал скользкую от пота грудь… В комнате, конечно, никого не было.
Он с отвращением сорвал всю мерзкую одежду, пропитавшуюся вонючим потом и еще чем-то отвратительным, что выделяет человек в моменты смертных терзаний, – просто яростно стоптал ее на пол, брезгливо швырнул в стиральную машину, нагишом кинулся к зеркальному бару, коньяка не нашел – все равно, теперь и водка спасла бы, шарахнул сразу стакан без отрыва, распечатал тут же валявшуюся пачку сухариков, жадно вдохнул пряный дух дурного ароматизатора… И почувствовал, как душа возвращается в тело. С полдороги в неизвестно куда, не иначе… Уже на твердых ногах направился в душ, подставил лицо, голову, плечи под упругие теплые струйки, замер, смакуя наслаждение, голова стремительно прояснялась … «Неужели кошмар? Конечно, чему еще быть?» – но что-то смущало, не давало покоя, словно воспоминание в воспоминании или сон во сне – будто звучали в отдалении два голоса, не мужские и не женские, неузнаваемые: «Ты что наделала-то?!» – «Он сам… Откуда я знала?..» – «А если не проснется?» – «Должен…» – «Будем надеяться…» – «В следующий раз…» – «С телефоном хорошая идея была…» – «Что телефон! Главное, чтобы полностью читать разучился…»…
Последняя фраза окончательно убедила Алексея в том, что все это ему пригрезилось: действительно, как кто-то мог надеяться, что он разучится читать, когда он не то что читает, но и пишет, целую повесть сочиняет – да какую! Пожалуй, надо сказать Але, чтобы уже бралась за перепечатку и готовила почву в каком-нибудь журнале посолидней – ей виднее, разберется. А редактировать… Да пусть она и редактирует, кому еще: хоть полезным делом займется, а то здесь ей и заняться-то особо нечем… Он накинул огромную махровую простыню, завернулся в нее, как в римское одеяние, и эдаким благородным Помпеем прошествовал в свой кабинет. Отыскал глазами заветную амбарную книгу, ткнул пальцем в закодированную на Алю кнопку телефона и намеренно начальственно, дабы совсем уж вернуть подмоченную уверенность в себе, басом велел: «Поднимитесь-ка!» – и дал отбой, чтоб не объясняться. Вот так. Правильно. Он здесь хозяин, а она – обслуга, как ни крути, и сейчас он даст указание… Дожидаясь, рассеянно переворачивал страницы рукописи – и вдруг понял, что строчки расплываются перед глазами, сфокусировать на них взгляд никак не удавалось… «Водку-то я напрасно… – изо всех сил тщась проморгаться, подумал художник. – Коньяк – тот вернее… Здесь где-то должен быть, в кабинете… Ага, вон и фляга моя… Подруга верная… – Обрадовавшись, он быстро шагнул к ней и сделал небольшой вкусный глоток: – Ну вот, совсем другое дело… Надо пойти закусить чем-нибудь». Но при одной мысли о еде в нем бурно восстала тошнота.
Бесшумно открылась дверь, и вошла помощница – красивая, тонкая, с рыжеватыми волосами женщина лет около сорока, но одетая так, как обычно одеваются тридцатилетние, и оттого выглядящая много моложе. В руках она держала изящную мензурку.
- Алексей Саныч, вы меня напугали. Восемнадцать часов проспали, как убитый, – четким звонким голосом заговорила она, не посчитав нужным даже поздороваться. – И выпили… Не знаю сколько, но… Это перебор, как мне кажется…
- Мне неинтересно, что вам кажется! – сварливо оборвал Алексей и сразу поймал ее беззащитно-удивленный взгляд; таким тоном он никогда с ней не разговаривал, поэтому сразу до крайности устыдился и, чтоб не быть позорно раскушенным, пошел напролом: – Я вам плачу не за то, чтобы вы диктовали мне, как жить, а за работу! Вот и работайте! – он грубо ткнул в ее сторону амбарную книгу: – Сегодня же начинайте это перепечатывать – да повнимательней. И по ходу дела отредактируйте, что нужно, – я потом посмотрю. Это моя повесть – будет продолжение, так что подумайте, в каком журнале лучше опубликовать, и спишитесь, с кем надо. Можете идти.
Получилось здорово – ни убавить, ни прибавить. Вышколенная секретарша в таких случаях кивает хорошенькой головкой и цокает на выход.
- Вы что, уморить себя хотите? – строго сказала Аля. – Скажите, как заговорили… А ну-ка выпейте это, быстро! – и, в ответ на его закипевший было в горле протест грациозно притопнула ножкой: – И никаких «но»!
Укрощенный и пристыженный, он покорно глотнул из маленькой стопочки что-то горьковато-пахучее, неловко коснулся Алиной шелковой руки:
- Вы извините… Я сам не знаю, что… Кошмар приснился… Вы уж, пожалуйста…
Женщина повела головой из стороны в сторону с прощающей, лукавой полуулыбкой:
- Смотрите мне… Я ведь и обидеться могу… Ладно, посидите пока… Пойду бутерброды вам, что ли, какие-нибудь сооружу… – она окинула босса пристальным взглядом с ног до головы, и только в этот момент до него дошло, что он так и стоит перед Алей в простыне, под которой ничего нет, и, если сейчас притянет красавицу к себе, то не будет этих всегда одинаково неуклюжих раздеваний, губительно влияющих на мужскую силу при первом сближении.
Алексей нерешительно протянул руку, но, наткнувшись взглядом на Алину иронично дрогнувшую бровь, тут же отдернул и описал ею воздухе невразумительный полукруг, остановившись на бороде, которую, якобы, хотел пригладить. Аля чуть усмехнулась, но не стервозно – по-доброму, мило и завлекающе…
Со следующего дня была решительно начата новая жизнь. Во-первых, с ограничением коньяка до одной скромной фляжки в день (придирчиво перебрав несколько, остановился все же не на самой маленькой, но и не на пол-литровой серебряной бутылище). Во-вторых, с регулярными оздоровительными променадами вдоль побережья – возможно, даже неся на отвыкшем плече облегченный этюдник, дабы в приглянувшемся уголке ностальгически тряхнуть стариною. В-третьих… Да, в третьих, за пределами этого заколдованного дома с его пугающими шорохами, шепотами и тенями он задался целью здраво обдумать дальнейшее свое повествование, может быть, даже набросать что-то в блокноте, примостившись на каком-нибудь гостеприимном, мягким мхом устеленном валуне. Все равно невозможно будет сделать это в Петербурге, где с первого же дня после приезда его сразу обложат, как охотники одинокого волка, неотложные дела – и никакая Аля не спасет. А сейчас, когда она переключила все деловые звонки на себя, и его как бы не то что в Питере, но и в России – да пожалуй, и на планете Земля не найти, – единственное время и возможность исполнить, наконец, свою давнюю мечту, вызревавшую от самого владельца незаметно, как глубоко залезший в тело, почти безболезненный абсцесс, что годами может проявлять себя только плотным сгустком, иногда случайно нащупываемым в мякоти, – и вдруг непонятно почему рванет наверх, исходя старой черной кровью и застоявшимся гноем. Так засело в нем то проклятое лето, больше полувека выжидало своего часа – теперь уж не остановить – и хорошо! Но присутствовали и странные, мучительно-хорошие воспоминания. Ведь то было первое лето, когда он не просто почувствовал себя, но и теперь, оглядываясь назад, твердо знал, что именно стал – вынужденно! – взрослым. И не испытывал ни зла, ни горя, все эти годы вспоминая кристальность воды веселого дружелюбного залива, розово-полосатые ракушки, которые так легко вдавливались босой ногой в мягкий, темно-золотой, рельефный песок на дне, старые, хрупкие серебряные ветлы, похожие на состарившихся наяд, забывших расчесать седые волосы… Пепельно-розовые закаты за недоступным Кронштадтом, палевого цвета вода в облачные дни, цветная карамель гальки в полосе неопасного прибоя – все это каким-то образом просвечивало и в его зрелых снах в добротном доме прохладного камня на изобильном Средиземноморье, чья навязчивая яркость невольно раздражала строгую северную душу…
Ну, а в-четвертых, как только допишется повесть, – сразу в Петербург. Потому что в доме страшно. Притворяйся, не притворяйся перед самим собой и Алей – страшно. Вчера опять скрипела лестница среди ночи. А чего ей скрипеть – она же новая. Он тяжело задремывал, лежа в постели, и, услышав в темноте отчетливое легкое поскрипывание (если бы в доме еще кто-то жил, – голову бы дал на отсечение, что это шаги на лестнице!), одним отчаянным броском метнулся к окну, желая проверить, не открыта ли дверь в Алин домик и, стало быть, не прокрадывается ли она тайком по ночам в дом, мечтая, возможно, быть приглашенной к нему в постель, или еще что, – и увидел. Увидел ее умную пышную головку в окошке, прилежно, как у отличницы за уроками, склоненную над клавиатурой напротив ровно горящего монитора. Пчелка-труженица… Но тут ослабели руки, подступила тошнота – еле добрался до кровати, упал вниз лицом, и – темная яма…
Обо всем этом Алексей Щеглов рассуждал неожиданно ледяным, но сухим и безветренным днем, шагая по все так же, как полвека назад, не заасфальтированной улице, в своей теплой, любимой, несносимой морской куртке, в которой ходил минувшей весной в Марселе с галльскими рыбаками за барабулькой, опыта и развлечения ради, на их неказистом на вид, но передовыми компьютерами оснащенном баркасе… Правда, куртку он почему-то надел прямо на серую домашнюю пижаму, а босые ноги всунул в резиновые боты на рыбьем меху – но об этом задумываться не хотелось. За калитку выскочил незаметно и воровато обернулся, желая убедиться, что побег не замечен с утра засевшей в своей рабочей избушке секретаршей, – обернулся и тут же одернул себя: «Да что я ей, отчитываться, что ли, обязан?! Она мне не жена, а чуть выше прислуги! Ушел и ушел, не ее дело!» – но генетический мужской страх перед женской – материнской – опекающей строгостью все равно гнездился между сердцем и желудком, заставляя вжимать голову в плечи и переходить на трусцу, чтобы скорей покинуть обширную зону видимости, – даже в ступнях нехорошо свербело, будто из тюрьмы сбежал! Однако ноги вели его правильно: они-то за мелькнувшие десятилетия не забыли не раз легко протопанный ими путь – налево из переулочка, по грунтовой дороге, усеянной идеально круглыми, как специально выкопанными небольшими лужицами, – к узкому шоссе, круто стремившемуся вниз, к другому, широкому, по прозванию Ораниенбаумское; за ним, помнил он, еще одна земляная неровная тропа вдоль бетонного забора, за которым что-то гудело и бахало, изгибчиво бежала уже прямо к торжественному берегу, где справа открывался изумительно желтый пляж, окруженный сочными ивами, а слева тянулась живописная темно-серая, наполовину мокрая гряда округлых валунов, издали напоминавшая лежбище усталых котиков.
Подойдя к шоссе, Алексей чуть не заплакал от мгновенного умиления: прямо перед его глазами медленно проехал невзрачный автобус, и он успел ухватить взглядом номер за стеклом: четвертый! Господи, Боже, – ходит еще, родная моя! От холодного и глубокого – такого, что низ живота сводило при осознании той бирюзовой глубины – карьера наверху, за путями, – до вокзала в Ломоносове! В тот год, когда полетел Гагарин, «четверка» была короткая, кругленькая, с хромированными поручнями, с мягчайшими коленкоровыми диванами, в жаркие дни горячими – не прикоснуться! Он, случалось, когда очень уж было лень топать вниз или вверх под горячими лучами, случалось, одну остановку «зайцем» подбрасывался, если удачно подгадывал время! Теперь автобус был, конечно, другой – безликий параллелепипед с затемненными окнами, но суть сохранилась – и это завораживало, душило внезапным счастьем… Алексей проводил степенно удалявшуюся «четверку» растроганным взглядом, полез в карман за флягой… «Будь здорова, милая!» – сделал добрый глоток, повернул на шоссе.
И замер.
Нам кажется, что в заповедные места можно вернуться и застать их прежними. Вот пройдешь сквозь тяжелую дверь старого питерского парадного, взлетишь на два пролета по широким и низким ступеням, как с ранцем за плечами взлетал, возвращаясь из первого класса, нажмешь тугую черную пупочку звонка – а за простой деревянной дверью грохнет черный чугунный крюк, и откроет тебе молодая мама в халатике – а сбоку от нее кастрюльки, кастрюльки, свои и соседские, эмалированные, – меж двух дверей, ведь о холодильниках и не слышали еще… Ага, как же… От дома уцелели только стены, внутри произведена варварская перепланировка, и комната давно не ваша, а уж мама… В Петербурге он такими делами не занимался, хотя на старый свой дом на Петроградке все-таки съездил посмотреть – прилично и благоразумно, снаружи. Пожал плечами и ушел: дом стал чужой, отжил свое в его сердце и памяти, слишком многое нагромоздилось поверх. А здесь… Смешно, но ведь и вправду глубоко внутри себя ждал, что повернет голову – а там островерхие крыши разноцветных деревянных домиков выглядывают из-за приземистых, раскоряченных яблонь… И в одном из них, может быть, до сих пор живет бессмертная попадья – потому что не могла же она взять и умереть – такая живая, цельная, стремительная, угловатая, похожая – теперь он нашел точное сравнение! – на пражскую Цветаеву… Разумеется, она даже теперь, пусть и слепая от старости, но узнает его!
На месте целого цветника старых домиков, ютившихся некогда на пологом склоне, стояли мордатые бело-серые коробки уже немолодых пятиэтажек. Именно в этот момент он по-настоящему, не отвлеченно, понял, что Настасьи Марковны тоже больше нет – и быть не может – на этой земле. И на другой – той, что пишется с большой буквы. А также то, что из мiра, что гораздо шире и привычной земли, и того неба, куда ворота открыл Гагарин, она никуда не исчезла, хотя бы потому, что он сейчас медленно идет вниз вдоль шоссе, думает о ней – и слышит словно слабый отклик из стремительно приближающегося далёка, где она тоже полностью о нем не забыла…
Алексей равнодушно прошел мимо знакомой типовой школы, готовившейся в его бытность к своему второму учебному году, а ныне обветшалому зданию с неуместными новыми стеклопакетами, мимо современных стеклянных магазинов, мимо агрессивно красной бензоколонки за шоссе, подивился запущенности узкой дорожки, ведущей к пляжу, и с грустью подумал о том, что пляж, уж наверное, стандартно облагорожен, уставлен какими-нибудь, не приведи Боже, киосками – осенью, конечно, запертыми, но придающими всей местности нестерпимо унылый вид… А валуны? Может, их вообще вывезли отсюда, чтобы расширить доходную пляжную зону? Но тогда дорогу почему не окультурили? Ах, Россия-матушка, ты и здесь все та же! – любая нормальная машина в два счета подвеску оставит… Хотя, теперь подъезд к пляжу, наверное, в другом месте – с парковкой, конечно, павильонами всякими… С залива рванул резкий морской ветер, Алексей остановился, достал фляжку, глотнул от души, поднял капюшон, выпрямился, вгляделся в бледный просвет между разросшимися впереди деревьями, сделал несколько неуверенных шагов – и оказался будто на руинах погибшей цивилизации.
Некогда широкая песчаная полоса сузилась до крошечного пятачка, почти проглоченная вольно разросшимися сорными кустами, сквозь тусклый серый песок там и здесь пробивались седые пучки осоки. Несколько поломанных ржавых мангалов уродливо растопырилось среди угольно-грязных пятен заброшенных кострищ, усеянных пустыми пивными бутылками, мятыми жестянками и прочим убогим мусором, причем, откуда-то было ясно, что все это – остатки невеселых дешевых пиршеств озлобленных бедняков. И правда, кто и какую радость мог получить от дружеского пикника на берегу этого обросшего бурыми лохматыми камышами почти стоячего водоема с густой и жирной водой болотного цвета, покрытой отвратительной маслянистой пленкой? В мертвой желтоватой пене у полосы медленного прибоя едва колыхались две издохшие чайки…
Алексей стоял потрясенный, механически прихлебывая из неприятно отдающего металлом горлышка безвкусный, согретый под курткой напиток: он механически искал глазами три знакомых камня, которые они со Снежанкой когда-то так и называли: первый, второй и третий. Первый, стоявший немного правее, означал, что дальше можно не идти по мелководью, а почти плыть – во всяком случае, не загребая руками песок со дна. Вторых, горизонтальных, было два – «папа и ребеночек», и за них не умеющим плавать младшим ребятам заходить, как правило, не разрешалось. По третьему определяли уровень прилива – сколько видно было его темно-розового тела: много, средне или только макушечку… Ту невидимую черту переваливали только старшие – но однажды Снежана и прибившаяся к ней девчонка с пляжа в пору невысокой воды упросили Лешку взять их с собою «только обойти третий камень». Подружки осторожно, с видом отважных исследовательниц морских глубин, крались рядом с ним, поднимаясь в воде на цыпочки по мере того, как она грозила дойти обеим до вздернутых подбородков, – и так мужественно перешагнули запретную воображаемую линию, а там он велел обеим немедленно возвращаться в мелкий детский «лягушатник» и, показывая пример, шустро обогнул третий камень. Под водой оказался второй, меньший, о существовании которого Леша не знал, и поэтому с размаху врезался в него беззащитной босой ногой, успев в последний момент сдержать при детях дурное слово, заменив его на смешного «Еп-понского городового»… Превозмогая боль, он велел сестре пройти на шаг дальше, указывая на место нахождения зловредного «сыновнего» камушка, она ступила – и с криком упала в воду лицом вперед: у грозного Третьего Камня оказался и другой «сыночек»! Парень еле поднял рыдавшую от боли и чуть не захлебнувшуюся сестру, крикнув ее подружке, чтоб та отступила подальше, девчонка послушалась – и тоже громко охнула, едва удержав равновесие: под водой притаился еще и третий «отпрыск»!
Прошло почти шестьдесят лет, ничтожный срок для бессмертных по людской мерке камней, – но напрасно пытался Алексей уловить знакомые очертания, зацепиться за них отчаянным взором, хотя перед внутренним – стояли, как наяву: простые и родные, сверху от солнца белесые, снизу с мокрой полосой отступившей волны… Нет. То ли вода поднялась и затопила их, то ли, наоборот, ушла без возврата, обнажив незнакомые раньше формы…
Его тошнило, мучительно стучало в голове, осенний свет заметно тускнел – сколько он простоял тут, на этом островке погибших воспоминаний, отзвучавших голосов? Неверно ступая, побрел по трескучей гальке влево, где по-прежнему громоздились вдоль бетонной стены неведомого завода вековые, скотству человеческому неподвластные валуны; стал зачем-то упорно лезть по ним, карабкаться на высокие, соскальзывать с покатых, спотыкаться о низкие, нашел неглубокую расселину, сполз туда, скрючился… Что происходит? Господи, что происходит со мной?
...Кромешная тьма прорезалась жалко метавшимся из стороны в сторону белым пятнышком света и далеким знакомым голосом:
- Алексей Саныч! Алексей Саныч! Отзовитесь! Вы здесь?! Алексей Саны-ыч!
«Аля», – равнодушно понял он и тихо, тяжело простонал.
Голова жарко пульсировала, зато оледеневшие руки отказывались повиноваться, ноги ломило, в спину будто кол воткнули. «Ну, не алкоголизм же у меня – чтоб с такой маленькой фляжки… Сколько там было… Нет, не могу…». Он снова коротко взвыл, но слова не шли – язык не слушался, лежал, как чужой, – сухой и шершавый, словно у околевающего пса.
- Я слышу вас, слышу! Где вы?! – зашуршавшая было в противоположном направлении галька затихла – и мелкие женские шаги повернули к нему: – Вы упали? Вам больно?! Ответьте что-нибудь!!! – в Алином голосе отчетливо слышались слезы.
Он смог только протянуть на низкой ноте первую букву ее коротенького девчоночьего имени – но помощница быстро сориентировалась, и теперь пробиралась уже целенаправленно к пострадавшему, луч фонарика несколько раз мазнул его по лицу… Потом – тепло ласковых рук, мимолетные прикосновения волос, будто мягкий порыв весеннего ветра – запах духов, успокаивающее бормотание. Алексей сумел подняться, безвольным кулем навалившись на ее хрупкое надежное тело, женщина обхватила его поперек туловища, осторожно, шажок за шажком повела по крутым лбам гладких древних валунов, помнивших каменный век, и Золотой – помнивших… Онемение постепенно отпускало оживающий язык, проклевывалась полувнятная речь – «Алечка… Аленька моя…» – шептал он, стараясь причинять ей поменьше неудобств. Острый луч фонарика уверенно резал прозрачно-ледяную безлунную ночь. За последней ветлой острие света наткнулось на ярко-алое пятно – это ждала их обоих Алина маленькая верная машина.
- Слава Богу, – с полной искренностью проговорил Алексей, бурно радуясь обретаемой власти над языком. – Похоже, выкабарали… выкарабли… – махнул рукой: – В общем, вы спасли меня, Аля…
В салоне зажегся тусклый желтый свет, и он увидел ее строгое бледное лицо.
- Да, – мрачно ответила она. – Выкарабкались. Весь вечер вас искала по всему поселку. Хотела уже полицию звать. Берег залива – это было последнее возможное место. Чуть от страха здесь, простите, не сдохла. А вы, кажется, считаете, что это тоже входит в обязанности личного секретаря…
Алексей виновато покрывал поцелуями ее руку и лепетал, как во сне:
- Никогда больше… Никогда… Больше никогда…
И тогда ее прощающая рука мягко перевернулась узкой ладонью вверх.
Он очнулся от звука далеких голосов. Да, он был у себя в постели, абсолютно голый, под тонким шерстяным одеялом, как привык… Но откуда доносились слова – снизу? Из сада? Из-за стены? Он почти уверен был, что голоса – женские, только что-то словно вибрировало и подвывало в голове, завихряясь в ушных раковинах, – никак не получалось уверенностью определить, разговаривает ли с кем-то Аля или, может, просто громко работает телевизор… Его мучительно настороженным ушам удавалось разобрать только отдельные фразы: «Почти два месяца… торчим… Им-им-им-у-у-у… У-уже почти неделю под себя… А-а-а-а-е-е… Пе-ерестаралась, дура… Ра-ра-ра-ра-и-и… Говори-ила тебе… Что делать бу-удем… Бу-у-у-у…И-и-и… Лишь бы прочита-а-ать не смог… Ок-ок-ок-о-о-о… Во-от околеет – что тогда-а…». Он разом стряхнул с себя тягучий липкий кошмар и сел с протяжным криком:
- Аля-а!!!
Частые женские шаги почти тотчас легко застучали по лестнице вверх, и Алексей поразился – как это можно по шагам определить, что у идущего маленький размер ноги, причем понять это не по тяжести, а по качеству шага. Через полминуты она уже стояла у его кровати – бледненькая, с распущенными волосами, в простом светлом трикотажном платьице – взволнованная, впервые даже не пытающаяся придать себе спокойный корректный вид.
- Очнулись?! – почти выкрикнула Аля.
Вопрос несколько озадачил Алексея, потому что о своем вчерашнем приключении он имел воспоминания очень смутные и отрывистые – так, залив, камни, фляжка с коньяком, мечущийся в темноте неприятно белый луч фонаря… Значит, все-таки опять перебрал, да еще, наверно, и на голодный желудок – завтракал ли, обедал ли – Бог весть… Но что пил – это точно… Да, верно, гулял и прихлебывал, а потом завалился где-то средь камней и задрых – стыдоба какая…
- Да, я вчера… кажется… немножко… – стыдливо признал он; стыдливо – да не очень: он – мужчина, имеет право, ничего особенного, в конце концов. – Вам, наверное, повозиться… со мной пришлось, да?..
- Да уж… немножко, нечего сказать! – было видно, что Аля еле сдерживается, чтобы не наговорить резкостей, но не смеет, не желая портить пошатнувшиеся отношения.
- Там кто-то пришел? Вы с кем-то разговаривали сейчас? – со смутной ревностью спросил Алексей, потому что назойливая мысль о ее возможных тайных встречах с мужчиной никогда по-настоящему не покидала его.
Секретарша покачала головой:
- Вам, наверное, приснилось. Я никому не сообщила, что мы здесь, – как вы просили… Только, знаете, мне кажется… Я понимаю, что это не мое дело, но я давно у вас работаю, и вы мне не совсем посторонний… В общем, я считаю, вам надо решительно ограничить себя в отношении алкоголя. Очень решительно. Иначе вам может грозить серьезная беда, вы даже не представляете!
Аля была такая красивая и серьезная, когда произносила это, такая искренняя забота отразилась на ее тонком прозрачном лице, так мягко оттенили длинные русые ресницы ее матовую, чуть пушистую кожу… Конечно, она влюблена. Иначе зачем бы все это терпела?
- Аля, идите сюда, присядьте, – сглотнув неожиданно набравшуюся слюну и неосознанно протягивая руки, попросил Алексей и, когда женщина доверчиво опустилась на край кровати, быстро и крепко обхватил ее руками и опрокинулся назад, в подушки, увлекая ее за собой под одеяло, как старый опытный крокодил, не разжимая железной хватки, утаскивает на каменистое дно мутной реки опасливую косулю, пришедшую на водопой.
Но Аля не сопротивлялась – наоборот, подтверждая давние самоуверенные предположения своего работодателя, она сразу же обвила руками его шею и страстно ответила на требовательный поцелуй, а потом, избавив жаждущего мужчину от всегдашнего неудобства первых стеснительных расстегиваний заколдованных пуговиц и выпутываний желанной женщины из множества ее непонятных одежд, мгновенно выскользнула из своего платья, выбросила из постели еще две кружевные тряпочки – и прижалась к нему, жарко дыша и влажной кувшинкой раскрываясь навстречу. Но она не учла, что, опытный любовник и красивый мужчина, Алексей уже много лет как пресытился быстрой женской доступностью и смутно ждал нешуточного, быть может, сопротивления, чтобы торжествовать над усмиренной добычей сладкую, но нелегкую победу. Тупая Алина готовность не воспламенила, а почти разочаровала его, пресное соитие прошло по безличному кроличьему сценарию, и меньше, чем через минуту Алексей раздраженно перекатился на спину, испытав вместо ожидаемого удовольствия, лишь неясное облегчение, будто разрешившись после краткого запора. «Не баба, а оладья непропеченная! – с досадой думал он, слегка морщась и с отчетливой неприязнью уворачиваясь от нежных поглаживаний и чмоканий, с которыми она посчитала нужным немедленно к нему пристать. – И фригидная, вдобавок. Будто я не вижу, что притворялась… Изображала тут… Совсем, что ли, за идиота меня принимает? Нет уж, хватит… Сейчас повесть допишу, приеду в город – и до свидания… И вообще, пора в Европу… Хватит, пожил на Родине, спасибо… Вот и предлог – не с собой же в Париж мне эту куклу неотесанную тащить!».
- Я устал, Аля. Мне еще поспать нужно, иди к себе, пожалуйста, – сухо сказал он, и, дождавшись, когда она, шепча какие-то нежности, на цыпочках убралась, с наслаждением перекатился к стене.
И остолбенел – если это может случиться в постели; тогда уж – «обревенел». То место, на котором он рассчитывал уютно вздремнуть еще пару часиков, было абсолютно и недвусмысленно мокрым и ледяным. Только теперь он вспомнил, что с момента пробуждения ему совсем не хотелось в туалет, – вот, почему, оказывается… И Алю он сперва именно в эту лужу завалил, она и раздевалась здесь – значит, все поняла… Жгучий ужас облил Алексея с головы до ног: теперь только застрелиться! Она… Эта… чертова баба... теперь будет пальцем на него показывать… Или ее задушить и закопать тут, чтобы никогда и никому?.. Господи, что за мысли в голову лезут…
Он буквально свалился на пол, еле встал на дрожащие ноги, шагнул к столу, не глядя, выдернул из ящика флягу, потряс – забулькало – приник к ней с гораздо большим рвением, чем только что к женским губам, – перевел дух – вытер пот… Его прекрасно-трагический мир, соскочивший было с катурнов, стал нехотя возвращать себе былое величие. Алексей брезгливо сорвал с постели не только гнусное, в бурых пятнах белье, но и оскверненный матрац, и прикасавшееся ко всему этому безобразию одеяло… Просто забыть. Забыть, или жить дальше станет невозможно. Отволок все это в глухую каморку внизу под лестницей, где свалено было кое-какое сохранившееся после ремонта барахло, подлежащее разборке, до которой, знал, все равно никогда не дойдут руки. Завтра он сделает перед Алей вид, что ничего не было. Так, случайность. И велит немедленно вызвать людей, чтоб приехали и хлам из чулана вывезли. Скопом. И все. Белье он сейчас достанет новое, из магазинной упаковки, а одеяло и матрац притащит из гостевой комнаты. Застелет – и за работу! Как там они говорили, эти голоса из кошмаров? Или не из кошмаров… Этого и того, прошлого… Ведь было же что-то подобное и раньше… Когда?.. «Главное, чтобы читать не мог» – как-то так? Это вы, милые мои, палку перегнули, да-ас… За семьдесят перевалило, и только сейчас выясняется, что есть, что сказать, по-настоящему есть, и столько мыслей, и образы, как живые! Эк, загнули, хотят, чтоб он буквы различать перестал…
Когда Алексей стал подниматься по крутой, пахнувшей лесопилкой лестнице, то, случайно подняв глаза, увидел, что наверху, на площадке, с трогательной собачьей заинтересованностью склонив благородную кудрявую голову набок, сидит крупный и статный черный пудель.
- А-а, вот и господин Мефистофель пожаловал... – бесстрашно погрозил ему пальцем повеселевший художник. – Милости просим…
Глава VI
К новым приключениям спешим, друзья
Полтора десятка лет есть полтора десятка лет. С тридцати до сорока пяти. Лучших лет человеческой жизни, когда у тех, кто в принципе небезнадежен, уже жестоко сбиты розовые очки, но еще не ушла надежда на лучшее и не утрачена способность к созиданию – как мира вокруг, так и себя самого. И, главное, не обступили болезни: словно вороны вокруг подраненной собаки, они стоят пока широким кругом поодаль, ожидая, когда потенциальная жертва еще больше ослабеет. Полтора десятка лет, которые можно прожить, а можно просрать, и большинство населения так и поступает, не заморачиваясь глобальными проблемами, когда есть же одна, но насущная: выжить любой ценой и сохранить потомство… У Лёси так и не появилось потомство, но она надеялась, что эти пятнадцать – уже с лишком! – лет она все-таки прожила. Хотя… Можно ли было считать личным достижением, что они все с той же Леной – словно застывшей навеки в возрасте около сорока и не старившейся, а как бы усыхавшей – вырвались с вещевой ярмарки и перебрались в некое трехэтажное блистающее сооружение из стекла и зеркал, с ресторанами и эскалаторами, и их торговая точка называлась теперь не секцией, а бутиком и торговала не мятым китайским трикотажем, а отутюженными турецкими платьями? Потому что для Вечности – какая разница… А вот для самоуважения… Хотя за что тут себя уважать?
Промелькнуло несколько активно осуждаемых мужененавистницей Леной полуинтеллигентных связей, с виду даже красивых, с подарками, театрами и средиземноморскими пляжами, но на поверку все равно унизительных… Но царило, изо всех щелей смотрело, да и в самих ее уже не таких ярких, как раньше, глазах в зеркале стояло одиночество – не женское, а просто человеческое. Когда ни отца, ни матери и ни единой родной души.
- Ну, положим, отец-то есть у тебя, – напомнила на унылом Лёсином сорокапятилетии Лена. – Уж лет, наверное, десять, как обратно на Родину прискакал. Альбом его недавно в продаже видела… По телевизору мелькает – знаешь? Может, нашла бы его, поговорили б…
- Да брось ты, какой он мне отец? Мы друг другу посторонние… – отмахнулась Лёся.
Но мысль, высказанная извне, неожиданно растопырилась в душе, сурово потеснив там давно окаменевшее решение ничего общего с этим чужим человеком не иметь. В конце концов, она не с протянутой рукой к нему пойдет – таких горьких сиротинок, через сорок лет объявляющихся перед небедным папочкой, она и сама презирала – а состоявшейся женщиной с собственным бизнесом, просто пожелавшей взглянуть в глаза тому, кто дал ей имя, отчество и фамилию. Кого, в конце концов, любила мать, и о ком можно было составить представление только с ее слов… Но, с другой стороны… Сорок три года, если быть точной… Они с мамой обе могли остаться для этого круто сменившего свой курс человека где-то в настолько утонувшем в тумане прошлом, что он и вспоминать его не пожелал бы! Но все равно постепенно прижилась и не отпускала идеалистическая мечта, стояла перед глазами почему-то непременно осенняя их прогулка под белесым небом, среди желтых кадмиевых и охряных пятен палой листвы – пожилого отца и неюной дочери, свидевшихся через столько прожорливых лет и ведущих неторопливый серьезный разговор… О чем им говорить? Может, и не о чем – тогда она просто извинится и уйдет. А может, общая кровь подскажет неиссякаемую тему?
Телефон, выставленный на официальном сайте, молчал – и тогда вездесущая Лена, уговорив знакомого риелтора пробить номер по таинственной «базе», принесла ей два адреса недвижимости, зарегистрированной на художника Алексея Александровича Щеглова в России: пятикомнатной квартиры на Невском проспекте в охраняемом государством реликтовом здании, и загородного дома – недалеко к югу, на заливе. Остальная – немалая, надо полагать, – собственность оставалась за пределами страны и розыску не подлежала, сам же творец свободно жил меж двумя Родинами – родной и приемной.
Во второй половине осени, давно по-домашнему расположившейся в Лёсиных мечтах, в старинном доме, как и предполагалось, восседала холеная, похожая на школьную директрису консьержка, готовая насмерть стоять, защищая от незаконных вторжений барские владения своих работодателей.
- Я его дочь, – Лёся давно заматерела и больше уж не смущалась перед обслугой.
- Вижу, – неожиданно покладисто согласилась женщина. – Вам бы волосы осветлить – и были бы его копией, разве что без бороды… Да и ничего удивительного: на такого красивого мужчину женщины и до сих пор вешаются, так что можно быть уверенной, что вы у него не единственный ребенок, да? Уехал ваш папа. А на сколько – не сказал.
- За границу? – показала осведомленность дочка.
Консьержка покачала головой:
- А вот и не знаю. Когда за границу – тут за ним целый обоз везут всякой всячины, да не в том дело: он ко мне всегда лично подходит, дарит духи и сто евриков, прощается и просит за садом ухаживать, ключи дает… Зимний сад у него там, во двор выходит – гордость его, вроде как хобби… А тут… Чуть не полтора месяца, как последний раз его видела, с секретаршей своей выходил – или кто там она ему – и мне не кивнул даже, хотя всегда вежливый такой, сразу видно, что по женскому полу специалист. И все. Ни его, ни секретарши. Я еще подумала – может, в больнице? А с садом тогда как быть – погибнет ведь, там растения такие… деликатные попадаются. И спросить не у кого…
- Подождите! – заволновалась Лёся. – Раз он бросил то, что ему дорого, значит, случилось что-то! Вы в милицию – пробовали?
- Девушка, не смешите меня! – рассердилась честная служащая. – Я консьерж здесь, а не сыщик! Мало ли, куда жилец отправился, лишь бы квартиру оплачивал, а деньги регулярно поступают, я проверяла… Да и что я там скажу? Уехал человек и не доложился? А он что мне в этом – подписывался?
«Да. И мне тем более, – подумала Лёся. – В милиции мужики, пожалуй, ухохочутся: приехала дочурка богатого родителя к рукам прибирать – а он тю-тю!».
На следующее утро, как следует напоив бензином свою безотказную, лет десять без инфаркта и паралича пробегавшую темно-синюю «Кию», Лёся упрямо выехала со двора. Путь ее лежал на южный берег Финского залива.
Дальше Петергофа она в ту сторону никогда не ездила, да и на традиционные фонтаны, вмененные в любовь каждому, хоть каплю питерской крови несущему в себе человеку, последний раз ездила с мамой лет в двенадцать – когда мама была еще самая красивая, умная и нарядная. Лёся целенаправленно копила перед такими поездками маленькие «золотые» копейки – с тем чтобы, весело постанывая от усилий, бегать вприпрыжку вокруг крошечного, круглого, неглубокого бассейна, где злобный коричневый бульдог из крашеной глины обречен был вечно гнаться в воде по кругу, среди горбатых струй, за двумя неуловимыми ядовито-зелеными селезнями с широкими плоскими спинами. Под трескуче доносившуюся из усилителя магнитофонную запись тявканья и кряканья следовало ухитриться не просто попасть монеткой в лупоглазую собаку или ее вожделенную, но во веки веков недоступную добычу, а совершить бросок настолько меткий и плавный, что копейка осталась бы на спине одной из подвижных мишеней, не отскочила бы в сторону и не была бы смыта водой… Тогда исполнялось любое желание – так все вокруг говорили! И за долгие годы прыжков вокруг «охотничьего» фонтана Лёсины монетки все-таки несколько раз торжественно уезжали на облупленных утиных лопатках, а однажды удалось оставить и на округлой, небогатой застрявшими монетами песьей спине целую «двушку», предназначавшуюся для телефона-автомата и брошенную последней, в азарте отчаянья… Только желания были тогда все такие смешные – и такие в те моменты важные: написать на «отлично» контрольную по геометрии, накопить тайком на бежевые туфельки, а еще, чтоб мама разрешила посмотреть взрослый фильм после программы «Время»… Да, и «пятерка» как сама собой получалась, и на туфельки неожиданно добавляла крестная, а уж маму и без монетки стоило только попросить… Еще вдоль фонтана всегда истово метался какой-нибудь виртуоз, грамотно отмечавший монеткой собачий лоб, – уж он-то, наверное, загадывал что-то посущественней!
Усмехаясь, Лёся медленно ехала вдоль высокой ограды… А что – свернуть вон туда, на тихую улочку, где никто не ездит, припарковаться на площади у касс… И спустя минуту-другую отяжелевшая тетка в середине пятого десятка, тряся пышным бюстом, начнет скакать с монетками в горсти вокруг лающего фонтанчика, мечтая попасть собаке на голову или, на худой конец, утке на хребтину легкой никелевой монеткой – чтобы загадать что-то исключительно важное… Попадет – а загадывать будет нечего. Маму не вернешь, вера в любовь кончилась, искра таланта погасла. Просить крикливых птиц и одуревшего от вечного гона бульдожку, чтобы чужой отец стал родным?
Лёся прибавила газ и включила четвертую передачу.
Навигатор – подумать только, еще пару лет назад она без него легко обходилась, а теперь страшна даже мысль о том, чтобы ехать, не косясь на дружелюбный экранчик и не слыша заботливого мужского голоса, – уверенно вел ее вправо и вниз, к голубой кляксе залива и вдоль него, по узкому извилистому шоссе. Петергофский парк словно зацепился за что-то в ее путаных мыслях, потянул невидимую нить – и теперь быстро разматывался тугой клубок старых воспоминаний. До самой последней поездки на фонтаны маме удалось сберечь для дочки тайну «того самого» камушка за Монплезиром – и девчонка осторожно ступала по серо-розовой площадке из круглых голышей, любопытной ножкой в лакированной туфельке отыскивая тот из них, от легкого нажатия на который вдруг брызнет вода со всех сторон, – и нужно будет со счастливым визгом выпрыгнуть на мокрую земляную дорожку… Разгадку она узнала случайно – просто оказавшись в нужный момент в нужном месте. По-соседству несколько минут увлеченно отыскивала заветный камень девочка постарше, еще не совсем девушка, но все-таки уже не ребенок. Она была не с родителями, как школьница, а с мальчиком, как взрослая, – они, наверное, даже целовались. Во всяком случае, юноша – вызывающе красивый и заносчивый с виду – чувствовал ее вполне своей собственностью, потому что, непринужденно держа в одной руке сразу два эскимо за двадцать восемь копеек, другой по-хозяйски, не спрашивая согласия, вывел подружку за линию угрожающе подросших струек. Лёся случайно выскочила одновременно с ними и, отряхивая мокрые волосы, услышала, как, вручая своей даме мороженое, будто цветок, он снисходительно пояснял ей: «Ну что ты, маленькая, что ли? Неужели до сих пор веришь? Нет, правда, – веришь в то, что надо наступить на определенный камень, чтобы вызвать воду? Ну, ты даешь! Даже я с первого класса знаю! Вон, посмотри на белые скамейки, якобы, для зрителей! Видишь, мужичок позади, скромный такой, видишь? Сидит и делает вид, что просто глазеет. А на самом деле у него под ногой педалька, совсем незаметная. И он ее время от времени нажимает, чтобы брызнула вода. Работа у него такая, понимаешь? И сильно подозреваю, что она ему осточертела: смотри, какая рожа кислая!». Девушка не поверила – сунув мороженое в руки парню, на цыпочках кинулась проверять… Изумленная Лёся следила за ней жадным взглядом, парень – тоже, но презрительно посмеиваясь… Вот недоверчивая девчонка осторожно подкралась сзади к вялому толстому мужику в кепке, будто присевшему отдохнуть в холодке, глянула ему через плечо – и вдруг обеими руками зажала себе уже готовый засмеяться рот, отпрянула, огромными тихими шагами описывая полукруг, устремилась обратно… А к застывшей Лёсе уже шла, как большая добрая слониха, мама в закрытом летнем платье неяркого ситца, и тоже несла два мороженых на палочке, в серебряной обертке – и не было душевных сил даже помахать ей рукой… «Ну, что – нашла камень?» – издалека протрубила мама, пока не замечая изменившегося дочкиного лица. «Да ладно… Я уже взрослая», – убито мотнула головой Лёся. Это было похуже, чем узнать, что Дед Мороз – попросту артист-неудачник: в него она никогда по-настоящему не верила, а тут… Так постепенно не уходило, а словно на носках отступало счастливое детство.
Лёся встрепенулась. Справа пролетела темная кирпичная церковь, сверкнув неожиданным золотом большой иконы, вписанной прямо в высокую нишу на наружной стене; слева, на высоком крутом холме проплыл двухэтажный желтый дворец с белыми колоннами, потом по обеим сторонам мелькнули крашенные серебрянкой солдатские мемориалы… Конечно. Здесь шли бои. Ораниенбаумский пятачок. Она ехала по костям – и очень хорошо это понимала.
«Через триста метров поверните налево», – мягко подсказал незримый приятный мужчина, и Лёся стала взбираться на довольно крутую асфальтовую гору, венчавшуюся старой типовой школой среди корявых тополей, неопрятно, как старые проститутки несвежее белье, сбрасывавших последнюю рваную листву. Было велено снова свернуть налево, и, тяжко переваливаясь с колеса на колесо, машина покатила по ямистой грунтовке, со всех сторон, однако, окруженной вполне солидными особнячками пошлой новой постройки, а если и виднелась где-то за уже почти голыми деревьями треугольная крыша старенького дома, – то была непременно выложена безликим белым сайдингом, что делало улицу опрятной, но неуютной, как квартира в новостройке с типовой отделкой от равнодушного застройщика. Лёся послушно свернула в тенистый переулочек, почти лишенный неба сомкнувшимися наверху ветвями мощных кленов, отчего похожий на сумрачный заброшенный тоннель, и около высокого железного забора ядовито-синего, казенного цвета виртуальный попутчик сообщил, что она приехала. В этот момент где-то сбоку, будто сквозь маскировочную сеть, косо прорезался бледный солнечный луч – ноябрьский, ценный, из самых последних. Он услужливо осветил едва заметную среди рифленых железных модулей калитку, давая убедиться, что звонка на ней нет, – и наглухо, безнадежно занавешенное окно второго этажа очень добротного, каменного, идеально оштукатуренного дома – их тех, что спокойно и надежно стоят уже почти век, укрывая и успокаивая людей, храня тайны жизни и смерти, накапливая воспоминания и реликвии… Между калиткой и основной оградой оказался крошечный зазор – и Лёся немедленно приникла к нему нетерпеливым глазом. Сверкнуло что-то алое, напомнившее вульгарный маникюр, – ну, конечно, лак. Машина! Итак, в этом доме кто-то жил, и предстояло до него достучаться.
Лёся неуверенно отступила на шаг, так что можно было бы заметить, если б дрогнули занавески на окне, набрав побольше воздуха, воззвала: «Хозяева!!!» – и сразу же ее буквально захлестнуло прямо огненное дежа вю. Когда она точно так же стояла, с надеждой задрав голову на чье-то неприступное окно, и выкрикивала какое-то слово? И тут пришло еще более странное чувство: ей совсем мало лет, она влюблена в синеглазого, с льняной головой Колю, который на самом деле Клаус Шульц, и его дразнят: «Немец-перец-колбаса-кислая-капуста»; только она стоит посреди пыльной улицы неузнаваемого дачного поселка не перед его домом, а перед домом молчаливого, темноволосого крепыша Дани, и зовет: «Данька!» с целью сделать перед всеми вид, что влюблена именно в него, потому что в Клауса – стыдно, и вообще, пусть он лучше поревнует немножко… Это озадачивающее воспоминание встало перед Лёсей – яркое, как обертка от молочной шоколадки, – только при этом она совершенно точно знала, что никаких дач ей мама никогда не снимала, а ежегодно возила на месяц «дикарем» в голодную обшарпанную Евпаторию, разбавляя зеленым морем две нудные и тяжелые лагерные смены, из-за которых она никогда не ждала летних каникул, как все нормальные дети, а, наоборот, усердно пыталась их мысленно отодвинуть. Откуда взялся этот маленький немчик в ее памяти – вкупе с мужичком-с-ноготок по имени Даня? Лёся не помнила, чтоб они с мамой ездили к кому-то погостить на столь долгое время, чтоб она успела влюбиться, – а память имела вместительную и цветную, как июльский луг с его буйным разнотравьем, пасущемся вдалеке пестрым стадом, сливочной пенкой облаков у горизонта, и даже неудачливой полевой мышью, взмывающей к небесам в когтях только что метеоритом упавшего с небес ястреба… Не было в ее жизни никакой дачи, под окнами которой она маялась бы в надежде на колебание занавески. Или была? Маму уже не спросишь… А может быть – фильм, сон? Модная ныне параллельная реальность? Помотав головой, Лёся еще раз позвала хозяев и, не дождавшись ответа, принялась колотить рукой в водительской перчатке по неприятно синей, как стена в советском общественном сортире, железной калитке. Не успела она отчаяться, как с той стороны со скрежетом отъехал засов, и в небольшой, с девичью ладонь, щели показалось спокойное женское лицо в бледно-апельсиновом облаке легких непослушных волос, а ниже, как за долгие века неизменно культивируется рыжими всех мастей, тянулась лягушаче-зеленая полоса какой-то одежды. «Блондинки с ромашковым отливом должны носить синий электрúк и пепельно-розовый», – автоматически отозвался в Лёсе заживо похороненный модельер, меж тем, как она, задействовав нейтральную улыбку, уже говорила:
- Мне нужно увидеться с Алексеем Александровичем Щегловым, я его дочь, – а рука тянулась к замку сумки, куда предусмотрительно был положен паспорт и свидетельство о рождении.
Женщина не улыбнулась, в глазах мелькнуло быстрое беспокойство:
- Он болен, лежит в постели, никого не принимает, – голос оказался женственным, богатым и теплым – она, наверняка, могла бы неплохо петь. – Когда ему станет лучше, я не знаю – болезнь тяжелая, он человек немолодой. Поэтому извините… – и без того неширокая щель начала драматически сужаться, судя по всему, исчезая навсегда.
Невесть чем вдохновленная, Лёся успела четким движением вставить в зазор тупое рыльце своего брутального лакированного ботинка:
- Вы не можете так просто выгнать меня, ничего не объяснив! – было обидно ухлопать полдня на дорогу и поиски лишь для того, чтобы ее, как школьницу, развернула у самого порога строгая тетя.
- Могу, – просто ответила женщина. – Здесь частная территория, на которую вас никто не приглашал. Уберите ногу.
- Не уберу, – Лёся не зря получала у этой жизни многочисленные жестокие и дорогостоящие уроки и, разумеется, не привыкла к тому, чтобы ей указывали, что именно делать. – И не подумаю, пока вы не пойдете и не доложите вашему хозяину, что к нему пришла его дочь Елена.
Она понятия не имела, кем приходится ее отцу эта уверенная в себе особа, но по статусу ему, как будто, не полагалось управляться в доме одному, так что она могла оказаться как молодой женой, так и обнаглевшей уборщицей. Поэтому слово «хозяин» Лёся употребила со злорадным удовольствием, искренне желая оскорбить нахалку, приравняв к собаке, и с удовольствием развила свою мысль:
- Раз он не в больнице, то, значит, в сознании! А стало быть, способен самостоятельно решить, можно мне войти, или нет. Пойдите, уважаемая, выполните свою обязанность, да поживей: я не галантерею приехала предлагать, а навестить родного отца.
Стрела попала в цель и вонзилась, надо полагать, больно. Лёся давно знала, что сильно обиженный человек невольно выдает больше, чем изначально собирался. Женщина вспыхнула и задохнулась:
- Да вы… Как вы смеете… Я… Я самый близкий ему человек… Немедленно убирайтесь! Иначе…
И по тому, как она запнулась, силясь мгновенно найти себе определение, стало ясно, что женщина Алексею Щеглову, во всяком случае, не законная жена, причем, скорей всего, попирает обеими ногами эту неприступную «частную собственность» еще с меньшим правом, чем круглый носок Лёсиной стильной обуви.
- Нет, – мило улыбнулась Лёся и сразу пошла на почти беспроигрышный блеф: – Мне абсолютно точно известно, что папа в законном браке не состоит. А учитывая его личность и… внешние данные… дать себе такую характеристику, как вы, могут мечтать многие поклонницы, мимолетно им, так сказать, облагодетельствованные. Так что освободите дорогу, милочка, не злите меня. Таких, как вы, у моего отца…
- Я… я сейчас милицию вызову… – тихо, с претензией на грозность проговорила женщина, но по тому, как быстро опустились и метнулись туда-сюда ее изумительные, цвета самой первой листвы глаза, стало ясно, что этого она хочет меньше всего.
- Это я – вызову! – еще повысила голос Лёся. – Потому что не очень-то мне все это нравится! Живет себе человек, известный художник, работает, дает интервью, ездит по миру – и вдруг пропадает, никому ничего не сказав! Обнаруживается в каком-то захолустье – да и обнаруживается ли?! – а при нем чужая женщина, которая заявляет, что он никого не хочет видеть, даже родную дочь! Странный какой-то у всего этого душок, вы не находите?
На самом деле Лёсе ничего уже не хотелось – ни романтического обретения отца с взаимными сентиментальными излияниями, ни победы в дурацком споре над этой внезапно смутившейся дамой, ни, тем более, разборок с местной, скорей всего, дикой милицией… В один миг стало отчетливо понятно, что затеянное ею мутное дело – напрасно, просто потому, что прошло сорок три невозвратимых года, и там, за этим высоким металлическим забором, как за железным занавесом, под который когда-то ловко юркнул отец, давно и совершенно независимо течет незнакомая и не очень-то интересная жизнь посторонних людей, вторжение в которую будет совершенно лишним – как им, так и ей самой… Лёся обмякла и почти убрала ничуть не пострадавший ботинок, решив прекратить некрасивый и бесцельный скандал, и почти удивилась, когда калитка вдруг оказалась широко перед ней распахнутой.
- Ну, что ж, пожалуйста, – женщина сделала плавный пригласительный жест. – Сами хотели – теперь не жалуйтесь. Идите за мной.
Не понимая, как реагировать на внезапную капитуляцию врага, Лёся растерянно последовала за ним по мощеной серой плиткой тропинке сквозь весьма неопрятный, похожий на копну спутанных волос великана, осенний сад. Дом, однако, оказался чудесным, пережившим дорогой и тщательно продуманный ремонт, который не убил старый колорит вековой постройки, а лишь деликатно подновил ее, добавил удобства и разумной роскоши. Простая и симпатичная лестница вела на второй этаж к элегантной двери светлого дерева; напоминавшая расколдовавшуюся Царевну-Лягушку провожатая бесшумно распахнула ее перед Лёсей в бесцветный полумрак, та шагнула – и оторопела.
В комнате царил омерзительный смрад, сразу вызвавший в памяти отчего-то именно евпаторийские пляжные туалеты, где прямо вдоль ряда угаженных дырок, разделенных низкими фанерными перегородками, всегда стояла нетерпеливая очередь отдыхающих в купальниках. Поперек широкой кровати со спинкой в стиле «модерн», голый по пояс, разметавшись среди каких-то скомканных тряпок, лежал и болезненно, с перебоями, храпел седой лохматый старик. Вытянув шелковый шейный платочек, Лёся инстинктивно натянула его почти до глаз, и собственное нутряное, знакомое тепло вдруг показалось изысканно душистым… Она неловко приблизилась, наклонилась… От некогда сведших с ума ее молодую мать резких мужественных черт не осталось и следа: заплывшее, мятое лицо, усыпанное старческими пятнами, словно забрызганное коричневой краской, отвратительно белоснежный в фиолетовых длинных губах оскал… Это ее отец, с которым она еще утром мечтала гулять по осеннему парку и высокопарно толковать о вечности.
- Я не знала… – прошептала потрясенная дочь. – Он… пьет, да? Вы… Как ваше имя-отчество… Извините меня, пожалуйста… Я абсолютно не представляла…
- Алевтина, – горько и сдавленно отозвалась в шаге позади стоявшая женщина. – Можно Аля. Да. И вы меня извините. Просто, когда… Когда ежедневно видишь, как твой… бесконечно любимый… человек губит себя, и ничего не можешь с этим поделать… Ровно ничего! Когда вот такие запои – по многу дней – и даже прислугу не наймешь, потому что он известный человек… И не хочется, чтобы узнали про… Ну, про это… Когда все приходится брать на себя – и так изо дня в день… Когда необходимо и мыть, и переодевать, и кормить с ложки – а он потом ничего не помнит… И все равно – любишь… Когда никакой надежды… – Алевтина длинно и горько всхлипнула, но взяла себя в руки. – И приезжает посторонняя женщина, говорит, что она – дочь, а ты – никто… Приезжает, можно сказать, на все готовое, потому что… Потому что долго так продолжаться не может!.. Послушайте, вы ведь его не знаете, как и он – вас. Если вы планируете что-то выгадать…
- Нет-нет! – ужаснулась Лёся. – Мне ничего не надо! Если что – у меня успешный бизнес, свой бутик, детей нет! Я… видите ли, я просто совсем одна, и думала, что вдруг найдется родная душа, и, может быть… Но теперь…
Еще минуту она постояла над скорбным ложем, тщетно пытаясь наскоро разобраться с той пыльной бурей, что взвихрилась в душе, заслонив собою мир, – и сделала решительный шаг назад. Повернулась и бросилась вон, наплевав на никому не нужную здесь вежливость, коротко грохотнув по лестнице и в мыслях быстро прокляв себя, отца, Алевтину, этот чужой вонючий дом среди непроходимых дебрей, в захолустном поселке с невозможным названием, годящимся лишь для африканской деревеньки… Задним ходом рванула по узкому переулку, вырулила, отчаянно крутя баранку, на земляную дорогу, нырнула вправо с асфальтовой горы – мимо школы, из которой уже валили через шоссе беспардонно, прямо на ходу курившие школьники, мимо особенно, по-ноябрьски безнадежно, уродливых серых пятиэтажек, мимо местной убогой стеклянной торговой точки…
Инстинктивно держась ближе к обочине, погнала по извилистому шоссе, постоянно ощущая невдалеке, по левую руку, то и дело мелькавшее в просветах меж полураздетыми деревьями хмурое зеркало залива цвета серого жемчуга, – и боялась, что губительно занесет на лысоватой летней еще резине, но скорость сбавить было никак нельзя. Нельзя, потому что стоило сбросить ногу с газа – и тотчас вставало перед внутренним взглядом, требовало обдумывания и сочувствия это жалкое распростертое тело единственного по плоти родного человека, из чьей крови ровно наполовину состояла ее собственная, так жарко и настойчиво бившаяся в ней сейчас! На высокой скорости удавалось отстранять мучительное видение, игнорировать его настойчивый стук в сознание, отодвигать «на потом», с тем, чтобы, может быть, суметь постепенно избавиться от него навсегда. Для чего это все, на что ей новые мучения?! Этот человек ничтоже сумняшеся бросил ее, двухлетнюю, и, процветая в стране, при мысли о которой первым делом вспоминаешь о духáх, а не о великих художниках, ни разу не поинтересовался, жива ли его дочь, не нужна ли ей отцовская помощь! Вернувшись пятнадцать лет назад, когда она торговала на рынке китайскими футболками, он и не подумал отыскать свою кровиночку, чтобы хоть любознательности ради взглянуть на то, какой она стала, красивой ли, нет ли, – ведь и внуки могли уже быть – не полюбопытствовал! Поэтому нечего тут закусывать губы и мертвой хваткой цепляться за руль – просто приехать домой, откупорить бутылку розового вина… И сказать себе, что… Да ничего – просто все, как раньше. Как до сегодняшнего дня… Что-то мешало, и Лёся долго не могла нащупать – что именно. Но, уже въехав в Новый Петергоф и застряв на светофоре, который, казалось, навеки заело на красном, вдруг наткнулась на воспоминание, как натыкаются беззащитным бедром на угол стола в темной комнате, – и немедленно свернула на ближайшую, оказавшуюся неожиданно уютной улицу.
На чистый капот синей машины падали лимонного цвета липовые листья. Однажды восемь лет назад было так же нарядно, только капот – серо-стальной, и осыпали его листья огненно-алого цвета с породистого красавца-клена в ее дворе, а в чужой – Ленкиной – машине сидело их двое. На водительском месте – брат Лены, морской офицер из Владивостока, капитан второго ранга, с которым они познакомились месяц назад на печальном дне рожденья у Лены же. Он только что сказал Лёсе, что подниматься к ней не будет, потому что если поднимется, то опять останется до утра, а завтра все равно самолет, только расстаться станет гораздо невозможней, чем теперь. Она сидела на непривычном пассажирском месте, тупо пялилась на щедро валившие сверху кленовые листья, похожие на растопыренные дамские ладошки, – или на пылающие следы от пощечин, которые так хотелось оставить на его бесконечно любимом, сурово-нежном лице с яркими глазами. И думала о том, что у него случайно расстегнулась вторая пуговица серой джинсовой рубашки, и если повернуть голову, то можно снова увидеть чуть вьющуюся русую шерстку у него на груди – и тогда сойти с ума от понимания того, что на эту надежную грудь свою несчастную голову уже никогда не положишь. Не из-за того, что до Владивостока двенадцать часов лету, а потому что у него с его давно нелюбимой и нелюбящей женой – сын-подросток, больной тяжелой формой ДЦП: недоглядели в родах – пьяная акушерка, и все такое… И еще о том, что в этой негустой поросли волнистых волос, имеющейся почти у всякого русского мужчины, – какая-то вопиющая незащищенность, от которой так больно, что хочется кричать. И Лёся не оборачивалась к нему – не могла, потому что знала, что взвоет, – отвратительно, с причитаниями, как простая истеричная баба, теряющая желанного мужика навсегда…
Потом, конечно, прошло. Нескоро, через несколько лет – но отпустило. Почти. Уже смутно, как сквозь толщу воды, вспоминались глаза, вкус губ, тембр голоса – все отжило в ней положенный крайний срок. Но не листья на капоте машины, не слегка седеющая шерстка на беззащитной груди, вопиющей о помощи, – такая же, как у этого омерзительного, чужого, полуголого старика, увиденного сегодня в смрадном полумраке одинокого дома… Тогда, восемь лет назад, помочь было нельзя, оставалось только желать себе скорой смерти: ведь нельзя было представить себе жизнь – после. Однако жила, и даже другие какие-то встречи порой намечались – нерадостные и ненужные. Но сейчас полуувядшее драгоценное воспоминание чудесным образом слилось с новым хрупким впечатлением, цепляло душу, как огромная заусеница, и не было тех ножниц, что отрезали бы, избавили. И не будет, поняла Лёся. Тот спившийся мерзкий старик – ее отец, и как бы он ни поступил с ней, когда был в силе, подло было смести его из памяти, как крошки со стола, теперь, когда он так беспомощен. Вот если бы не было у него этой шерстки… Но она есть.
Лёся развернула машину классически – в три приема, включила у перекрестка левый поворотник и без колебаний поехала обратно, в сторону старого города Ломоносова.
Глава VII
Пусть мама услышит, пусть мама придет
До отъезда оставалось всего ничего – около недели, а потом – хлопотливый сентябрьский Ленинград с красными звонкими трамваями, последним теплом и первыми дождями, новой школой для Ильи и работой для мамы. Наблюдая за нею, Илья откровенно недоумевал: вместо того, чтобы окончательно сломаться после второго нежданного удара, она, наоборот, стала выглядеть едва ли не лучше, чем в спокойное время, когда был жив не только покладистый, рассеянный и, как смутно подозревал теперь Илья, не очень-то и любимый муж ее, но и несчастный младший сын. Она по-прежнему хорошо и со вкусом ела, не стесняясь класть себе в тарелку лучшие куски жареного мяса, до того безоговорочно предназначавшиеся главному семейному кормильцу, жадно пила густые сливки от соседской умницы-коровы, сама варила на веранде ягодное варенье, негигиенично слизывая с деревянной, въевшегося свекольного цвета ложки густые ярко-розовые пенки… Расположившись на венском стуле, умиротворенная, вся округлая тетя Валя такими же округлыми быстрыми движениями взбивала вилкой в банке смородиновый, туго окающий мусс для нетерпеливой Анжелы, что жадно наблюдала за трудоемким процессом из-за ее плеча.
- Вот увидишь, Нюта… Вот увидишь, что через полгода уже… Подожди, Ангелочек, он еще не такой густой, как ты любишь… Да, так вот, через полгода… Ты будешь вспоминать это лето, как сон. Да, кошмарный, – но сон… – голос у тети Вали был такой же сладкий, густой и гулкий, как нежно-фиолетовый мусс. – С твоей завидной внешностью… С твоим золотым характером… Удивлюсь, если ты еще не будешь снова замужем и ждать нового малыша. А ты будешь, конечно, потому что у нас в Военмехе – на десять мужиков одна баба, а я, не забывай, – по кадрам… Так что отберу тебе холостых-неженатых лично и самых лучших… Работать пристрою по специальности: хочешь – в машбюро тебя посажу, хочешь – секретаршей к кому-нибудь… Лучше секретаршей, конечно, хотя зарплата и ниже на пятерку. Зато подарками больше доберешь, да и на виду всегда… Но халтурки же никто не отменял… Ну, вот! – она с гордостью подняла обеими руками пол-литровую банку, полную густой красивой пены. – Живые витамины, так и прыгают! Держи, красавица! Кстати, Нюта, ты, когда время придет, Анжелку свою в институты там какие-нибудь не запихивай, не губи девку: нечего ей с такой мордашкой над конспектами сохнуть. Учи на машинистку – и к нам. Или просто лаборанткой. У нас даже уродки себе мужей находят, а твоей принцессе сразу кандидата наук подберем – не отвертится! Или молодого доцента… Ну, что, вкусно?
Последнее относилось уже к счастливой, столовой ложкой заталкивающей в себя редкий десерт Анжеле, – она даже до стола дойти не дотерпела, ела, стоя посреди веранды, прямо под голубым бахромчатым абажуром, причудливо освещавшим ее светлую пышную головку сверху, так что казалось, будто вокруг девочки действительно распространяется слабое ангельское сияние. Лакомящийся ангел кивнул с полным ртом – и все по-доброму рассмеялись, включая не только всегда последнее время серьезного Илью, сосредоточенно резавшего на кухонном столе яблоки для повидла, но даже маму, чей смех он скоро услышать не надеялся и даже смутно боялся. Ему казалось, что после пережитого мать может навеки разучиться смеяться…
На другой стороне железнодорожного полотна лежала настоящая terra incognita. Странное дело: там тоже разбросаны были веселые разноцветные домики, чертили прутиками «классики» девчонки-дачницы в узких земляных переулках, драгоценные кусты дикого орешника, на «их» половине поселка не встречавшиеся совсем, здесь обильно плодоносили – а рельсы Илья отчего-то каждый раз переходил, как линию фронта, хотя и знал, что никто там с ним враждовать не собирается. Однажды он понял, верней, придумал, в чем дело: он был из большого и дружного племени добрых «заливников», а по ту сторону проживала непонятная и оттого подозрительная община «карьерников», всегда остававшихся в меньшинстве, но очень гордых. Конечно же, нехитрое дело – расхваливать теплую и безопасную бирюзовую лужицу залива, где в погожие дни можно наблюдать странное зрелище, а именно – что-то похожее на медленную демонстрацию людей в пестрых плавках и купальниках, неровной широкой колонной уныло бредущих по колено в мелкой воде прочь от берега в поисках хотя бы относительной глубины… И как трудно, наверное, полюбить пронзительно голубое озеро, обнесенное по краям плотными, бархатными, цвета горького шоколада свечами камышей, лишь поверху чуть теплое, а немного глубже – опасно ледяное, ненасытное, каждый год неумолимо требующее человеческих жертв. Потому что в Карьере – другого имени озеро не имело – каждый год тонуло не менее пяти человек, и все это знали. Даже Илья, редкий гость в тех сомнительных краях, умудрился один раз попасть на его крутой травянистый берег именно в тот момент, когда огромный неуклюжий водолаз в иззелена-черном мокром костюме вынес из воды и бережно опустил на истоптанную траву скрюченную шафранового цвета утопленницу в уцелевшей на странно маленькой голове черной резиновой шапочке. Илья отвернулся и побрел прочь, только на ходу осознав, что не испытал положенного потрясения, и грустно подумал, что после двух смертей уходящего лета, эта третья – чужая! – уже не кажется столь ужасной… «Вот, как, оказывается, черствеют душой, – отчетливо не подумал, а именно произнес он про себя. – Буду знать».
К концу августа жара, конечно, изрядно уступила позиции, в воздухе оставалась лишь вялая влажная теплота, несшая в себе некий таинственный, сытный и густой запах – чувственно желанный, вкусный, атавистически родной.
- Это грибы повысыпали, – с улыбкой пояснила ему Настасья Марковна, неожиданно встреченная им недалеко от Карьера. – Так пахнет грибной лес. Ты не знал?
Ладная и подтянутая, выше и стройнее, чем обычно, в темно-синем шерстяном спортивном костюме и высоких резиновых сапогах, попадья первая заметила Илью под стеной сдержанно рокочущего завода, где он завороженно и блаженно тянул носом млечно-парной воздух. Усталым движением она поставила у ног битком набитую клеенчатую продуктовую сумку, и юноша с удивлением – хотя чему было удивляться, август же, август! – увидел, что она доверху заполнена свежими нарядными подосиновиками, живописно прикрытыми сверху ажурным папортниковым листом.
- За углом вдоль стены их полно. За полчаса насобирала, – гордо сообщила женщина. – А дальше начинается настоящий лес – с белыми, с маслятами… Сыроежек видимо-невидимо… Ты любишь собирать грибы?
- Не знаю… – растерялся Илья.
И сразу в душе, будто она была шелковым, легким на разрыв мешочком в недрах его явно повернувшего на мужество тела, ткнулась изнутри далекая тупая боль. Он ходил за грибами только раз – совсем маленьким, дошколенком еще, с родным отцом. То воспоминание таилось где-то почти в до-памяти, на самом рассвете осознаваемой жизни: палевая седина колючего мха, пружинящего под ногами, темно-вишневые полусферы грибных головок, их ровный кремовый испод и толстые округлые ножки, словно закрашенные коричневым карандашом, но сахарно-белоснежные на изломе… «Папа, а это хороший гриб? А это?». «Эх, сынище! Да ты и сам у меня хороший, как белый гриб!»…
- Нет, скорей, не люблю… – на секунду зажмурившись и вновь открыв глаза, ответил он.
Настасья Марковна бросила на Илью такой взгляд, словно ходила с ними тогда по голубоватому мху, словно видела, как он сжигал в унитазе свой заповедный альбом, и еще в каком-то важном месте была вместе с ним – или в нем – или просто умела читать его душу, как книгу про Аввакума… Про Аввакума, которого он не напишет. Теперь – никогда. Они вместе торопливо перебрались через рельсы, дружно косясь на далекую электричку, плоским красным пятнышком маячившую там, где сходились рельсы; на правах взрослого мужчины он упорно нес ее тяжелую сумку с прохладными, упругими (иногда приподнимал поклажу и гладил их упитанные тельца свободной рукой) подосиновиками. Миновали ветхую деревянную платформу, взобрались на невысокий пригорок, пошли темной, вековыми липами усаженной дорогой в сторону залива – и, хотя видеть его было еще нельзя, уже будто доносилось издалека его вольное пряное дыхание.
- Здесь раньше было старое финское кладбище, – кивнула вдруг налево попадья. – И однажды – мне двенадцать исполнилось – лет так сорок назад, когда еще… – она неприметно вздрогнула, – почти все были живы… Здесь откопали два захоронения петровского времени. Народ, знаешь ли, с ума посходил, кинулся грабить старые могилы, драгоценности искал или еще что… В общем, оказалось там золото, или нет – один Бог знает, но нашли два прекрасно сохранившихся трупа, мужской и женский. Они не разложились, а высохли, превратились в мумии. Взрослые, кто видел, говорили, что женщина почти как живая лежала, с прической даже, с ресницами… Сама в шелковом платье, чуть ли не розовом, а на ногтях – лак, представляешь? Приехали ученые и увезли их, сказали – ценная находка. И теперь стоят они, бедные, в полный рост в Ленинграде, в Музее Здравоохранения, можешь пойти посмотреть…
- Не пойду… – глухо отозвался Илья, и рот его быстро наполнился жидкой теплой слюной.
Помимо воли перед глазами встало то, о чем думать – запретно: там, в маленькой могилке, сейчас совсем темно, и… и… И если какая-нибудь сволочь через двести лет откопает, то увидит крошечный череп с молочными зубками… О, нет, гадость какая, нельзя об этом…
- Прости, я не подумала, – быстро сказала Настасья Марковна и на секунду легонько стиснула юноше плечо. – Я не спросила: как мама?
- Лучше! – он с охотой переменил тему. – Гораздо! Ну, во-первых, у нее Анжелка есть – мама ее от себя теперь не отпускает почти: и гуляют вместе, и спят ночью в одной кровати… Если б не она – вообще не представляю… Ну, а во-вторых, к нам подруга мамина приехала погостить, одноклассница ее, тетя Валя, веселая такая. Она маму очень поддерживает, не дает наедине с горем оставаться. Пироги печет, борщи там всякие наваривает – и все, знаете, с шутками, ловко так – смотреть приятно. В Военно-механическом институте работает, в отделе кадров, бойкая… Все обещает маму на работу к ним устроить по специальности и даже нового мужа ей найти грозится… Да я – что? Пусть бы и за другого выходила, не жаль… Я все равно скоро уйду от них, как школу окончу… Один хочу жить, работу найду, хватит… В общежитие какое-нибудь пристроюсь или, вон, в этом доме поселюсь, он же теплый. Одну комнату обживу и топить буду – ничего. А в Ленинград на электричке ездить… Подумаю. Ну, до того потерплю, лишь бы ей хорошо было, а то ведь жить после такого... Сами понимаете…
- Понимаю. И живу… – тихо вставила попадья.
- То – вы! – протянул Илья. – Вы сильная! И у вас – идея. Правильная или нет – другой вопрос. Но, у кого идея или там мечта, – тем легче…
- А у тебя она есть? – приподняла бровь Настасья Марковна.
Парнишка ни на минуту не задумался:
- А как же! Я мечтаю стать художником. Только не таким, как… Ну, каких много, и все одинаковые, а… Настоящим, что ли… И чтобы писать, как хочу, и людям бы нравилось…
Они остановились перед серой от времени острозубой калиткой ее обшарпанного деревянного дома.
- Зайдешь на чай? – кивнула в сторону попадья. – Дачники мои съехали. Пряников поедим…
Илья важно отдал хозяйке оттянувшую все руки сумку с грибами, представил себе, как в очередной раз застесняется наедине с ней за столом, в четырех стенах, покажется себе мальчишкой, не знающим, куда девать локти, и от смущения начнет громко хлебать горячий коричневый чай под ее теплым, полным нерастраченного материнства взглядом…
- У меня там… Этюд не закончен… – неловко пробормотал юноша. – Я зайду еще до отъезда, не беспокойтесь, – и шустро зашагал прочь.
«Вот дурак! С чего ей беспокоиться? Дел у нее других нет, кроме как гадать, придет ли к ней какой-то глупый школьник!» – злясь на себя, он ускорил шаг.
На следующий день была предпринята неотложная – отъезд предстоял буквально в ближайшие дни, дальше откладывать было некуда – и важная экспедиция. За маму и сестру, молчаливо оставляемых на попечение расторопной тети Вали, Илья совсем не волновался, интуитивно чувствуя надежность рук, которым их вверял. Он знал, что три женщины – две большие и одна маленькая – сначала пройдутся по саду, выбирая с веток последние густо-лиловые, как тальком присыпанные, огромные нежные сливы с темно-золотой мякотью, истекающей сладким соком, а потом, расстелив на траве старое стеганое одеяло, уютно расположатся на солнечной стороне под стеной дома, жадно ловя последние, еще почти жаркие лучи предосеннего солнца.
Плотно позавтракав коричневато-румяными, как пирожки из сказки про Машу и Медведя, тети Валиными калиброванными сырниками, надев рубашку попроще и потемней, надежные парусиновые брюки и обнаруженные в кладовой чьи-то еще довоенные непромокаемые ботинки, Илья в очередной раз перекинул через плечо на совесть снаряженный этюдник и снова отправился на ту сторону железной дороги. Путь его лежал в обход притягательно-грозного Карьера, туда, где стеной стоял густой неприветливый лес, рассеченный пополам аккуратной неприметной одноколейкой, скромно нырявшей под высокую, сетчатую, опутанную ржавой колючей проволокой ограду. За оградой стоял точно такой же безобидный смешанный лес, там так же надрывалась все лето кукушка, отчетливо виднелись среди травы и погибали, никем не сорванные, подберезовики с мраморно-бежевыми головами… Там ни разу не мелькал вдалеке средь кустов ни один человек, ибо то была – Запретная Зона. Казалось бы, такая соблазнительная тайна прямо под боком должна была стать местом всеобщего притяжения и вечных попыток проникнуть в нее и победно раскрыть, но – странное дело! – никто из местных жителей не говорил о ней с охотой, во всяком случае, не делился воспоминаниями о своих попытках пробраться за довольно хлипкую в некоторых местах, как подметил Илья, ограду. А попытки такие, конечно, предпринимались, и не единожды, как же иначе? Ничего не известно было также и ни о каких запрещающих и гибелью грозящих надписях, вроде «Стой! Стреляют!», непременно развешенных вокруг военных полигонов и мест дислокации специальных воинских частей. Зона просто – была. Как данность. И почему-то особо никого не интересовала. Именно этот парадокс и решил сегодня разгадать Илья, когда понял, что в расспросах скрытных соседских мальчишек не преуспеет. Добиться ничего более определенного, чем смутное: «Хреновое это место, лучше не соваться», он так и не сумел за все стремительно стареющее лето, а оставлять неразгаданную загадку гулять на свободе было не в его правилах… В конце концов, не привидения же там водятся! Ну, а на случай, если его все-таки поймают и арестуют некие на то уполномоченные товарищи, новенький первый в жизни паспорт он с собой тоже предусмотрительно захватил, а легенда была проста и почти правдива: ученик изостудии, искал натуру, заблудился, перелез какую-то ограду… Не расстреляют же на месте! Хотя… Он поежился на ходу… Да нет, прошли те времена!
Перелезать ни черезо что не пришлось: осторожно пройдя метров триста от одноколейки вдоль колючей проволоки, Илья обнаружил давно, судя по всему, поваленную секцию ограды, косо повисшую на усыпанных неведомыми ягодами кустах, и очень аккуратно, высоко поднимая ноги в плотных брюках, принялся перешагивать оборванную проволоку, стараясь не зацепиться за острые стальные шипы. Готово! Он стоял там – в Зоне, и ничего не случилось. Пока… Парень прислушался: неподалеку застрекотала в теплой еще траве, толстая, наверно, зеленая «коровка» со страшными глазами на полголовы, высоко в небе рокотнул реактивный самолет. Внимательно смотря по сторонам и часто оглядываясь, отважный исследователь неведомого бесшумно двинулся вперед, в негустую лиственную рощу, стараясь не наступать на трескучий валежник и вздрагивая от внезапных царапающих прикосновений вездесущих веток. Он поймал себя на мысли, что напряженно ждет чего-то: злобного окрика, железной руки, тяжело опустившейся на плечо, угрожающего движения в просветах деревьев... Пару раз, вспугнутое ложной тревогой, сердце противно екало, будто в предчувствии пули, но сперва это оказался тяжелый пузатый шмель, деловито, как еще не отбомбившийся бомбардировщик, с низким гудом проплывший над землей; а потом суетливая серогрудая птица заинтересовалась незваным пришельцем и уселась на недоступной для него ветке, вполне осмысленно, едва ли не удивленно разглядывая непривычного ей человека.
Он не понял, когда это началось. Все кругом было настолько в порядке, что вязкое, темное, дремучее чувство, постепенно поднимавшееся в душе и все более и более походившее на безотчетный страх, казалось чем-то незаконным. Очень мирный, нежаркий свет стоял в грибной роще, хлопотала кругом, издавая негромкие звуки, разная Божья тварь – и будто ледяная ядовитая жаба разрасталась в душе Ильи. Он уже отдавал себе отчет, что подступает самый настоящий, бессмысленный ужас, но еще боролся с ним, как с убийцей, напавшим сзади, еще пытался убеждать себя, что это следствие самовнушения, неизбежного при нахождении в заведомо запретном месте, что он сейчас запросто сумеет задушить все в зародыше – например, упрямо раскрыв этюдник и твердой рукой взявшись за кисть, – вот только найти натуру поинтересней – может, за рощей? Почти бегом, не обращая внимания на жгуче хлеставшие ветви, Илья бросился к просвету, выскочил – и черная, неуправляемая паника затопила его: под ногами оказалась гладкая бетонная дорога среди леса, упиравшаяся в распахнутые, полусорванные с петель металлические ворота. По бокам от них тянулась в обе стороны и тонула в близко подступившем лесу новая, более низкая ограда – кирпичная, весьма добротно оштукатуренная, с несколькими покосившимися башенками, в которые вели снаружи крепкие лестницы из железных скоб. Вынырнув из чащи, одноколейка обрывалась прямо у бетонки. Юноша стоял на хорошо просматриваемом месте, открытый для выстрела, в неизбежности коего уже почти не сомневался, – и твердо знал, что отовсюду за ним пристально наблюдают сотни невидимых глаз… Какой там этюд! Страшно было не только оглянуться или сделать шаг, но даже просто вздохнуть чуть глубже или вытереть холодный пот. Собрав все силы, – причем, не только те, что всегда имелись в распоряжении, но и некие дополнительные, что далеко не каждый день были к его услугам и будто выдавались под расписку в особых случаях, как морфий неизлечимо больному, – Илья судорожно, по-жеребячьи трепеща ноздрями, втянул влажный воздух, расправил плечи и вздернул подбородок.
- И ничего особенного! – вслух произнес он, ужасаясь глухому и жесткому тембру собственного голоса. – Просто бетонка! Сейчас пойду и посмотрю, что там! И ничего я не боюсь – что я, какой-нибудь… Вот я уже иду… И ничего! И сейчас ничего… – но прикусил язык, вдруг сообразив, что думает совсем другое: «Я жив… И сейчас жив… И сейчас еще жив… И сейчас…».
Проявив недюжинную храбрость, до ворот он все-таки добрался без видимых потерь, очертя голову шагнул в кривой зазор и оказался в широком квадратном дворе с бетонным полом. Вход и выход был только один – тот, через который он попал сюда; по сторонам, за оградой, виднелись темные деревья, но сквозь плотно пригнанные цементные плиты не пробивалась ни одна травинка, валялись лишь сухие скрюченные трупы листьев, занесенных случайным ветром, – но не они, конечно, стали причиной того, что, медленно оглядевшись, Илья обхватил голову руками, издал хриплый жалобный крик: «Мама-аа!!», неловко повернулся и кинулся прочь, продолжая на бегу подвывать без слов, а тяжелый угластый этюдник нещадно колотил его по худому бедру… Илья бы сбросил его и швырнул куда попало – лишь бы облегчить себе бегство – но, чтоб сорвать переброшенный накрест через грудь ремень, нужно было хоть на миг остановиться. «А-а-а-а!» – мальчишка напрямик ломился сквозь колючие кусты, взлетал на холмы, нырял в овраги – почти слепой от своего прозрения – и все это время чувствовал, что они здесь – все незримо здесь – и следуют за ним как один…
Потому что стены того двора изнутри давно утратили штукатурку. Они были иссечены, изрыты, изгрызены, раздроблены – со всех четырех сторон, и коричнево-красные осколки кирпичной кладки придавали выбоинам вид рваных ран. Там не шли бои: какие безумцы палили бы друг в друга, беззащитными стоя в закрытом дворе, оставив целыми его стены снаружи? – нет, там стреляли сверху, с этих башенок, которые на самом деле – пулеметные вышки. В тех, кто стоял внизу. И у кого оружия – не было. И так происходило много дней подряд…
Илья на всю жизнь запомнил, как остро кололо в левом боку – так что казалось, что вот-вот лопнет на бегу селезенка; как в два прыжка перескочил через рельсы почти что перед полосатым рылом истерически ревевшей электрички; как несся по тенистой, усыпанной рифлеными вязовыми листьями улочке – но лишь в последний момент, уже рванув калитку, сообразил, что прибежал не к себе, а к Настасье Марковне. Она стояла в своем опрятном, выложенном желтоватой метлахской плиткой дворике спиной к нему и развешивала на веревку, доставая из побитого эмалированного таза, какие-то бедные застиранные тряпочки. Услышав, как бешено хлопнула калитка, попадья стремительно обернулась, и по сверкнувшему тусклым острым огнем взгляду юноша вдруг понял, что она решила, будто дома у него опять что-то случилось, более того, ждала этого и вовсе не удивлена. Задыхаясь, Илья рухнул на лавку, тяжело мотая головой в бессильном отрицании, зверски дернул ворот рубашки, так что легко отлетели две верхние пуговицы. Еще не продышавшись, силился объяснить:
- Нет, это не то… Не то, что вы… Это другое… Я ходил… туда… Ну – туда… Вы понимаете… Там… Там… Что-то есть… Кто-то… Не знаю…
Он ни на миг не задумался – почему отвечает на вопрос, который не задавали, почему уверен в том, что его свистящий отрывистый шепот правильно поймут, почему вообще прибежал с этой невозможной жутью не к матери родной, а к посторонней тетке. Настасья Марковна очень медленно и глубоко кивнула; закусив губу и, все продолжая кивать, только чаще и мельче, отставила таз на распухший и почерневший от старости фанерный стол, вытерла руки о холщовый фартук, присела рядом на край скамейки…
- Бедный, бедный… Спросил бы меня, прежде чем самому, без подготовки… – и, в ответ на его сипло мычащий протест: – Ну, да, да, понимаю: ты не из таких, ты все сам… Тогда – готовься, это будет повторяться, – она помолчала с минуту. – Там, Илья, расстреливали – с середины двадцатых и до самой войны. По одноколейке привозили живых, увозили мертвых. Сваленных горой на платформе под брезентом. Почти каждый день – да не по одному разу. Мы слышали отдаленные очереди – и привыкли к ним. Ты ведь привык к стукам механического завода, что у залива, пишешь себе этюды под стеной и не замечаешь. Так и мы. Мы прекрасно знали, что там – не ученья: ходили всякие слухи, пропадали люди, которые что-то видели и рассказывали… И мы постепенно привыкли делать вид, что ничего не слышим, приучили к этому детей. Даже теперь, когда все кончилось, это место обходят стороной, только дачники, бывает, лазают. Или случайно кто наткнется… И уж второй раз не пойдет. Как ты.
- И они все там сейчас? – Илья чувствовал, что между ним и этой женщиной установилась та самая заповедная связь, что не знает ни возраста, ни пола и разрешает задавать любые, даже самые невероятные вопросы. – Те, кого убили, да? Это они на меня смотрели со всех сторон, когда я там… ходил? Потому что я – чувствовал. Я точно знал, что не один, – не знаю, как объяснить…
Она слегка улыбнулась, одним уголком бледно-сиреневых губ:
- Ну, что ты, нет, конечно… Не придумывай. Их души далеко отсюда. Они никогда не приходят к нам, – улыбка стала ярче, четкие брови приподнялись: – Ну-у-у… Ты комсомолец – и веришь в привидения?
- Я чувствовал. Я знаю, – упрямо повторил он. – В этом не ошибешься. Хватит, наконец, из меня детсадовца делать. Я за одно это лето на десять лет… – он хотел сказать «повзрослел», но, поняв, что глагол не отражает сути, тихо закончил: – Состарился.
Попадья снова наклонила голову, не спуская при этом с него своего светло-огненного взгляда:
- Там растворены в воздухе их последние муки. Запредельное отчаянье. И, да – смертный ужас. И кровь. Кровь продолжает вопиять к небу об отмщении, даже если ее давно смыли дожди. Этого еще надолго хватит… Со временем ослабеет, конечно, но не так скоро. Только когда простят – и забудут. Верней, когда уйдет последний, кто вспоминал.
- Я не забуду, – пробормотал, уставившись в плитку под ногами, глухо пробормотал Илья; и через много лет он помнил, что грязно-желтый восьмигранник меж двух его массивных ботинок был расколот точно пополам и сквозь трещину проросла единственная тонкая травинка.
Он опять отказался от чая – на этот раз просто потому, что чувствовал такую усталость, что валявшийся на полу этюдник казался неподъемным, и хотелось просто лечь навзничь, закрыть лицо локтем, поплыть куда-то…
- Одного не пущу. Провожу. Давай свой ящик, – приказала попадья.
Они шли быстро, широким шагом, не разговаривая и строго глядя каждый перед собой. Только теперь Илья отчетливо понял, что поселок этот – очень древний, и деревья здесь, в основном, вековые и старше. Что вокруг похоронено много жутких неразгаданных тайн – но все-таки не таких, к какой он сегодня невольно приблизился… На подходе к повороту в свой незаметный тупичок он забыл испугаться увидеть в нем белую машину с крестом – предвестницу очередного горя, ее вытеснили из сознания мысли о беде уже свершившейся и непоправимой – и, не дойдя, замер: «скорая» грузно выехала, буксанув на повороте, и тяжело покатила прочь. В тот же миг рука Настасьи Марковны мягко сжала юноше локоть.
- У нас… Еще три дома в переулке есть, – малодушно пробормотал юноша, чувствуя, как дыхание перехватывает.
Они свернули.
- Нет. Это к вам, – попадья указала подбородком на знакомого Илье по прошлому участкового с богатыми усами, как раз закрывавшего за собой их калитку.
Участковый раздраженно шел прямо на опередившего спутницу Илью, но вдруг обогнул его и заступил дорогу Настасье Марковне.
- Ты чего это здесь?! – без всякого предисловия хамски гаркнул он ей в лицо. – Сказал – сиди в своей халупе и не шляйся – значит, сиди! Все не доходят руки двести девятую тебе оформить – ничего, дождешься как миленькая! Шастает она тут! А ну, проваливай, пока за решетку не упек!
Даже посреди всего липкого кошмара, вновь начавшего исподволь обволакивать сознание, Илья поразился тому, что усатый пигмей холуйского звания осмеливается говорить таким образом с интеллигентной, во всех смыслах на голову его выше женщиной. Кровь бросилась в лицо, заставив круто развернуться на ходу:
- Это мой друг, который идет ко мне в гости! Она ничего плохого не сделала! – дерзким юным петушком кинулся Илья на удивленно поводящего усами милиционера. – Почему вы с ней так грубо разговариваете?! Мы советские люди, и я не допущу…
- Кто тут советский человек – она, что ли? – с невыразимым презрением прервал участковый. – Не допустит он... Ты, парень, друзей-то с умом в следующий раз выбирай. А то, знаешь, – с кем поведешься... Она у меня скоро тут сядет лет так на дцать… Для начала на один годик, по майскому указу за тунеядство и нетрудовые доходы. Это мы быстро… Это мы умеем… А там – стоит только начать… Что – молчишь, святоша? – он снова переключился на стоявшую с неподвижным посеревшим лицом и стиснутыми зубами попадью. – Правильно. Не разевай пасть, чтоб пожалеть не пришлось. А ты, сынок, домой чеши по-быстрому. Там тетку вашу, или кто там она вам, зашибло, так мать с сестрой ревут одна другой громче... – Он обернулся на дом, почесал затылок под форменной фуражкой, покачал головой: – Везет вам в этом году, ничего не скажешь: три несчастных случая, считай, подряд – и все в одном месте. И, главное, не подумаешь ничего такого – просто масть вам черная повалила... Но это не навсегда: потом красная попрет.
Виной всему оказался захламленный балкончик второго этажа, принадлежавший нежилой, тленом пропахшей комнате-кладовке, разобрать которую у матери руки не доходили второе лето. Правда, каждый член семьи, случайно завернув в нее с деревянной балюстрады, не единожды выходил оттуда, благодарно прижимая к груди нечто интересное, полезное или просто странное. Например, не далее как позавчера мама гордо вынесла овальный антикварный соусник расписного фарфора, говоря, что отмоет его и выставит на обеденный стол, наполнив сметаной, – но всезнающая и смешливая тетя Валя, лишь раз глянув на симпатичную вещицу, громко прыснула, что-то быстро зашептала в ухо маме – и у той постепенно начали округляться глаза, а потом она сконфуженно прикрыла рот рукой и тоже тихонько хмыкнула, с изумленной недоверчивостью вертя в руках свою находку; «У соусника – носик, а тут – овал!» – торжествующе закончила подруга, и женщины вместе пошли вниз по лестнице, не переставая неприятно хихикать. В начале лета отчим обнаружил некое ржавое колесо с застопорившей посередине стрелкой и торчащими во все стороны железными штуковинами, объяснив заинтересованному пасынку, что ему выпал уникальный шанс лицезреть воочию легендарную астролябию. Сам Илья в разное время разыскал там несколько пар крепких удобных ботинок, пришедшихся полностью впору, а также выволок и отчистил до сих пор верой и правдой служивший старинный кульман. Даже Анжела ухитрялась разжиться там какими-то недоломанными дореволюционными еще игрушками – на вкус Ильи, слегка жутковатыми (лысого плюшевого обезьяна Джаконю с мордой Джека-Потрошителя дядя Володя, помнится, даже пытался у падчерицы изъять, но столкнулся с таким оглушительным воем оскорбленной шестилетки, что обескураженно отступил). Анжела сумела даже, улизнув по-тихому с веранды от возившейся с живым еще Кимкой мамы, преодолеть баррикаду из затхлой мебели в пыльных чехлах, пробраться на тот самый балкончик и немедленно взгромоздиться там на хлипкий треногий табурет... Проказница чуть не сверзилась на землю со второго этажа: неосторожно схватилась за одну их двух круглобоких каменных ваз, украшавших углы балкона, – и тут выяснилось, что ваза ничем на закреплена или просто оторвалась со своего места: она зашаталась – и девочка вместе с ней. Отчим с Ильей, наблюдавшие драматическую сцену снизу, вдвоем рванулись в дом, предсказуемо столкнувшись в дверях, и несчастье непременно стряслось бы, если б Анжела не ухитрилась сама восстановить равновесие, да еще и принять при этом свой фирменный вид слегка нашкодившего пушистого котенка, что всегда мгновенно исключало любые попытки наказаний со стороны разгневанных и перепуганных взрослых...
Именно эта, уже раз провинившаяся и забытая на прежнем месте ваза теперь снова упала, но сама по себе. Прямо на затылок беспечно загоравшей в саду под балконом тети Вали... Оставив Анжелу «печь куличики» из песка на нагретых полуденными лучами ступеньках крыльца, Анна отправилась встречать разговорчивую пышнотелую молочницу, а потом, прижав к животу зеленый эмалированный бидон, полный теплого душистого молока, простодушно заболталась с ней в открытой калитке – не подозревая, что тем самым обеспечивает себе железное алиби. Короткий, жалобный, полный последнего недоумения крик прозвучал в ту секунду, когда беспечные собеседницы прощались, – но до дома нужно было еще добежать по садовой тропинке – и не расплескать драгоценное молоко... У крыльца стояла с остекленевшими от ужаса глазами и крупно тряслась пепельная, как перед обмороком, Анжела.
- Там... Там... – прошептала она, слабо кивая вбок и с шелестом оседая на ступеньку.
Анна подхватила ребенка, а молочница завернула за угол.
Соседи вызвали помощь и привели участкового. Валентина была еще жива, когда «скорая» увозила ее, но зрачки не реагировали на свет, из ушей и носа текли на коричневый дерматин носилок длинные пурпурные струйки. Хмурый доктор, торопливо залезая в машину, буркнул в сторону неостановимо рыдавшей и бившейся в пыли Анны, что перелом основания черепа редко заканчивается хорошо...
Поздно ночью, под обильным звездопадом – словно Боженька вдруг с чего-то решил накидать землянам полные горсти небесных алмазов – Илья и Настасья Марковна медленно шли по грунтовой дороге меж двух черных рядов треугольных крыш. Луна уже завалилась за одну из них, но звездный свет был так загадочно ярок, что путь перед ними лежал, будто серебряная ладонь огромного доброго волшебника. Попадья неуютно молчала, остро сдвинув брови, юноша не смел заговорить.
- Только до фонаря, – наконец, глухо сказала она, не поворачивая головы. – Дальше сама. Ты сейчас нужней своей матери.
А косой деревянный столб, увенчанный звенящей под жестяным колпаком лампочкой, был уж тут как тут, в десяти шагах. Илья решился:
- Я знаю, о чем вы думаете. Я же помню, что вы тогда, у пруда, сказали: случайность, совпадение, закономерность... И вы сейчас спрашиваете себя, не убийство ли это. Так?
Он хотел, чтобы получилось сурово и взросло, благо голос за лето созрел и окреп, – но нет, на последних словах мелькнула предательская сиплость.
Настасья Марковна остановилась и встала к нему лицом, голубовато мерцавшим, с четко обозначившимися провалами щек и глазниц.
- Спрашиваю? Зачем? Я знаю, – ответ прозвучал в ночи слишком резко, будто крикнула неясыть.
Илья стиснул зубы, исподлобья ища ее взгляд:
- Считаете – убийство? – на этот раз голос не дрогнул.
- Три убийства, – отозвалась попадья и добавила задумчиво: – Даже четыре, если считать кота...
Глава VIII
Мы ночные ахи-страхи
Они тогда чудом вырвались с Ксанкой из города на четыре дня: отправились вдвоем на уже запертую до весны чужую дачу, случайно выпросив ключи... Беременная жена взяла больничный, профессионально преувеличив в консультации незначительные симптомы своего необременительного токсикоза, и так им удалось присовокупить к традиционным «ноябрьским» еще два праздника сугубо личных, хитроумно у жизни вырванных…
Потом, когда на протяжении следующих сорока пяти лет жизни его периодически спрашивали (обычно женщина, кому ж еще!), случалось ли ему чувствовать себя когда-нибудь абсолютно счастливым, перед внутренним взором всегда вставало большое, похожее на упавшее навзничь старое тусклое зеркало, озеро с увядающей ряской у берегов, замшелая и седая от времени банька «по-черному» прямо на берегу, земляная дорожка на некрутой холм, к уютной чисто русской избушке, где любая жизнь текла не около, а вокруг огромной русской печи, которую они вдвоем неумело и весело топили средь ночи – и сквозь круглые отверстия в чугунной, старинного литья дверце гудящее пламя бросало таинственно-радостные отсветы на задумчивое лицо его молодой жены. Днем они навещали соседскую Пеструху, целовали ее сизо-розовый, скользко-шершавый нос, слушали плавную речь опрятной хозяйки и уносили с собой в голубоватой литровой банке теплое, пахшее чем-то позабыто родным молоко, мечтая о том, как сейчас будут снимать с него густые жирные сливки, которых всегда набиралось сверху не менее чем на три пальца, – и уступать ложку за ложкой друг другу, ссорясь не всерьез из-за того, что каждому казалось, что он недодал сливок другому... Еще гуляли в дубовой роще, собирая твердые холодные желуди в крапчатых беретиках, – а вечерами Оксана делала из них смешных зверюшек, вспоминая какие-то давние уроки труда... И легонько гремела на слабом ветру съежившаяся, но почти не облетевшая тускло-медная листва, невысоко стояло холодное, белое с пунцовым ободком солнце, с неба неслись трагические крики припозднившихся птичьих клинов... Если существовало в его жизни химически чистое счастье, то оно притаилось в тех четырех неярких, аппетитно хрустевших утренней изморозью, поздним арбузом отдававших днях...
В последний полдень к ним постучались два молодых стеснительных милиционера и благодарно пили на кухне заваренный Оксаной чай с брусничным листом, рассказывая страшную, для беременной совсем неподходящую историю. Накануне в районном центре задержали двух убийц-рецидивистов, из тех, что давно уже утратили и дух, и образ человеческий, но отправить их в Ленинград под надежную охрану не успели: разыграв хитроумный спектакль, бандиты сумели бежать из отделения, заколов невесть откуда добытой заточкой двух сержантов и одну заявительницу, случайно подвернувшуюся под руку. Милиционеры посланы были провести опрос населения – не видел ли кто чего-нибудь подозрительного – ну, и заодно предупредить людей, чтоб посторонним не открывали и вообще держались настороже: мало ли что – ведь преступникам нужно где-то переждать облаву, разжиться едой, сменить во всех сводках фигурирующую одежду...
- Смотрите, дом у вас на отшибе стоит, одним расположением соблазняет... – шумно хлебая обжигающий красноватый чай из широкой, как полоскательница, чашки, поделился опасениями румяный лысоватый лейтенант.
Они ушли, а перепуганные Оксана с Алексеем тщательно проверили запоры на всех дверях и окнах («Положим, шпингалеты на раме лихим людям не преграда, вынут стекло, да и все дела», – подумал, но предусмотрительно промолчал Алексей), поставили в сени «поганое ведро», чтобы не выскакивать по нужде среди ночи, притащили побольше сосновых дровишек – и, урбанизированные дети мегаполиса, начисто позабыли про воду для мытья.
Будь он в доме один – плюнул бы и обошелся остатками питьевой, что плескалась на дне пузатого эмалированного кувшина: уж очень неуютно казалось выходить с лязгающим ведром в ледяную неприветливую тьму, неотступно ожидая бесшумного нападения сзади и кинжальной боли в пронзенной печени. Но с ним была любимая еще жена, в бабьей немощи полностью от него зависимая, и продемонстрировать ей банальную трусость было немыслимо для мужской гордости.
- Да чего там, ерунда это все, какие еще бандиты... – солидно произнес Алексей и решительно вышел, захватив два ведра и легкомысленно оставив Оксану читающей на теплой печной лежанке.
Однако под насмешливо-пристальным взглядом злодейки-луны, как расплавленным оловом облившей крышу их теплого домика, острые зубья деревянной калитки, пустую собачью будку с оборванной, теперь драгоценной на вид цепью, храбрость его начала стремительно вянуть, и, вместо того чтобы пуститься в относительно далекий, полукилометровый путь к деревенской колонке, Алексей воровато потрусил к озеру, намереваясь быстро зачерпнуть воды и скорым шагом вернуться. Потрескивал под сторожкими шагами сверкавший, как слюда, ледок на тропе – и сразу припомнился садик Трудящихся у Адмиралтейства, где малышом с настоящим, еще хорошим, еще надежным папой он выкапывал прямо на дорожке у памятника Пржевальскому похожие на мутный горный хрусталь кусочки той самой слюды – и много их у него со временем накопилось... Он бесстрашно прошел по косоватым мосткам, нагнулся над черной, словно масляной в темноте водой, погружая свой тусклый жестяной сосуд... – и тут отчетливо услышал слева, от баньки, тугой и звонкий всплеск, уж никак не рыбьим хвостом произведенный, – разве что там белые акулы водились, в том безобидном озерце... Легонько звякнув, от неожиданности выпущенное ведро тихо ушло вглубь. Алексей замер и прислушался, но кровь так стучала в ушах, что застила слух. Он задержал дыхание... Да. В бане кто-то был. Осторожно ходил, шурша в темноте спиной по деревянным стенам, скрипя гнилыми половицами... Вот новый всплеск – что-то кинули в воду... Послышался даже быстрый хрипловатый шепот... Видят ли они его?! Господи, да конечно, видят: чертова баня давно ни на что не годна, вся щелястая, и он тут возвышается перед ними в лунном свете, как тень отца Гамлета! Дальше Алексей не думал. Огромными тихими прыжками он помчался верх по тропинке к дому, спиной ожидая погони и почти удивляясь, что ее не слышно. Ни про какие опасности внезапных испугов для беременных он и не вспомнил, врываясь в нагретую, полную мирного аромата тушеного мяса и сосновой смолы комнату, где разморенная, босая, в легком цветастом халатике, Оксана так и не успела оторваться от книжки.
- Они тут, – бухнул он с порога в ее изумленно приподнявшиеся брови. – В бане. Ждут, пока деревня заснет, а потом...
Что потом, объяснять не требовалось: их дом стоит в отдалении; чтобы беззвучно расправиться с обитателями и отсидеться несколько дней, повесив снаружи замок и не включая свет, лучшего места не придумать; тут полно консервов и солений в погребе, а, в качестве неожиданного и приятного приложения, есть еще и симпатичная молодая женщина, которую зарежут не сразу... далеко не сразу. Бежать из дома было поздно – кто бы выпустил их теперь поднимать в деревне тревогу? Тратить время на вскрытие прочной старинной двери никто не станет – негодяи просто выдавят оконное стекло, практически без звука... Алексей знал, что, как мужчина, обязан принять немедленное и единственно правильное решение, – и все не мог заставить себя ворочать словно коркой ночного ледка подернутыми мозгами, в условиях, когда нападения можно было ожидать с минуты на минуту, и уже чуть ли не слышался под окном быстрый и мягкий шаг вышедшего на охоту свирепого хищника!
Верная мысль пришла в голову, увы, не ему.
- Слушай, а на двери в погреб есть изнутри засов? – тихо спросила Оксана. – Если так, то можно попробовать спрятаться там... Без инструментов ее не вскроешь, а ящик с ними мы с собой заберем: хоть какое, но оружие... Положим, они просидят здесь всю ночь и день до вечера... Но если до нас не доберутся и еды не достанут, то с темнотой уйдут. Переоденутся и уйдут, потому что оставаться караулить нас им рискованно и бессмысленно...
Алексей сразу понял, что эта пусть и не самая удачная идея прекрасно подходит, за неимением никакой другой, но, поначалу раздосадованный тем, что показал себя тугодумом, а смекалку проявила эта тощая соплюха, его жена, буркнул:
- Глупости, какой еще погреб...
Но она уже влезала ногами в войлочные тапочки, хватала с полки фонарик и бесстрашно открывала дверь в холодные сени...
- Дай, я первый! – опомнился молодой муж, и супруги вдвоем спустились на несколько ступенек к массивной, окованной еще дореволюционным железом двери.
Засов имелся – мощный и делавший любую осаду каменного погреба совершенно бесперспективной; осталось только спросить себя – а зачем в действительности его приделали? Кому и от кого пришлось тут хорониться?
- Небось, еще в гражданскую то ли красные, то ли белые прятались... – прошептал Алексей. – Н-да... Такую дверь не выломаешь... И топор не поможет...
- Мне нельзя здесь... – жалобно отозвалась Олеся. – Холодно, как в склепе. В таких погребах молоко неделями не кисло. К утру я заболею, а к вечеру... – она горько всхлипнула, – потеряю ребеночка...
- А я не хочу потерять, прежде всего, тебя! – шепотом крикнул Алексей. – Стой здесь и, если что, сразу запирайся и никого не впускай, даже... – он помедлил, подло наслаждаясь собственным благородством, – даже меня...
Он втащил в погреб неподъемный ящик с инструментом, потом метнулся наверх, стараясь не прислушиваться к звукам за окном, схватил с вешалки в охапку теплые вещи, сунул в карман второй, уже почти разрядившийся фонарик, вернулся вниз, подбородком прижимая к груди в последний момент добытый пакет с мятными пряниками, свалил это все за порогом у ног жены – но тут обоим послышался громкий шорох из горницы – и сбегать за кувшином с последней водой Алексей уже побоялся.
Они задвинули засов и долго стояли у двери, напрасно прислушиваясь при слабом свете гаснущего первого фонаря: через такую толстую дверь вообще ничего нельзя было расслышать. Но только теперь Алексей разглядел ее голые до плеч руки, тощие голубоватые щиколотки – и принялся напяливать на неподвижную, как большая пластмассовая кукла, перепуганную жену какие-то кофты, шарфы и носки из уже ледяной кучи рухляди, так и валявшейся на песке у них под ногами...
И его, и ее часы остались где-то наверху, в комнате, и оттого они не знали, сколько уже времени сидят в чужом подполе на двух жестких чурбаках, мучительно слушая кромешную тишь и с ужасом глядя на уже едва-едва розовую крошечную лампочку карманного фонарика. Они молчали, каждый наедине со своим отвратительным страхом и беспомощностью, в голову лезли невероятные картины взлома, насилия и крови – а неизвестность усиливала невыносимое томление. Никакие куртки и свитера не помогали: холод стоял смертный, они почти уже не ощущали его, как рептилии, впадающие в анабиоз, и очень скоро стало ясно, что им, непривычным к серьезным лишениям, долго так не продержаться... Оксана первая нарушила тишину:
- Все-таки не может быть, что они в доме, а мы их не слышим... Не по воздуху же они летают – а горница прямо над нами... Доски бы скрипели... И потом, наша дверь ни разу не дрогнула... Ни единого стука... Они бы ее первым делом проверили, как только сюда попали, стали бы дергать, плечом налегать... Может, там нет никого, а, Леша? – с надеждой спросила она.
- Там они! Просто тоже осторожничают! – строго ответил Алексей; сама мысль о том, что всю эту панику он поднял напрасно, показав себя распоследним из трусов, ожигала хуже укусов роя диких пчел. – Скорей всего, стоят прямо под дверью с другой стороны и дожидаются, пока мы решим, что никого нет, и сами выйдем – прямо к ним в лапы.
- Невозможно так сидеть и ждать, неизвестно чего. Это... Это... страшнее смерти... – дрожащим голосом пропищала жена. – А дальше будет только хуже... Кроме того, есть и другие способы попасть сюда: пол, например, разобрать – наверняка же в сарае другие инструменты есть... Или просто дыму как-нибудь напустить, чтобы выкурить... Да мало ли еще что...
Он уже и сам обо всем этом подумал и, художником будучи, успел представить в ярких красках.
- Пойду, гляну осторожно... Топор возьму на всякий случай... – решился он. – Заложи за мной на засов. И откроешь, только если я постучу вот так: тук-тук, тук, тук-тук и повторю это три... нет, четыре раза! Поняла?
Оксана быстро обняла его, прижавшись на миг губами к небритому подбородку.
- Ничего не случится, – шепнула она. – Вот увидишь.
Его жена оказалась настоящим товарищем – классическим, готовым рискнуть собой, прикрыть тыл и подставить плечо. Со всеми предосторожностями пройдясь по дому и обнаружив, что попыток вероломного нападения не случилось, все мирно и, по крайней мере, внутри, – безопасно, Алексей уже спокойней вернулся к высоким ступенькам в погреб и увидел, что неприступная дверь открыта, в проеме стоит, в нитку сжав губы, Оксана и, бледная и грозная, сжимает тонкими пальцами древко второго топорика...
Полностью одетые, без света, они просидели рядышком на лежанке до нескорого ноябрьского утра, вздрагивая и обмирая при малейшем шорохе в доме и снаружи, напряженно готовые вскочить и бежать вниз при первом же признаке тревоги. Только когда кокетливые кисейные занавески обнадеживающе побледнели, супруги дружно расколдовались и принялись суматошно собираться в дорогу...
Скорым шагом они шли по едва проснувшейся деревенской улице – с серыми от недосыпа и схлынувшего ужаса лицами, и подавленно молчали, стесняясь поделиться сокровенностью пережитого страха, когда вдруг попалась им навстречу неторопливая хозяйка ласковой Пеструхи.
- Надо предупредить ее, – вслух решил Алексей и шагнул наперерез женщине: – Тут у нас ночью знаете, что творилось...
Он принялся горячо и сбивчиво рассказывать о ночных приключениях, сам заново переживая их и размахивая руками, – но вдруг присущим ей широким и медленным махом пухлой натруженной руки соседка прервала увлекшегося оратора:
- Так то бобры.
Последовало несколько длинных секунд оглушающей тишины. Увидев окаменевшие лица рафинированных ленинградских гостей, простая женщина бесхитростно растолковала им:
- Ну да. Там за старой баней – ее еще бобыль Бородуля до войны поставил – плотина у них построена – неужто не видали? А сами звери-то какие красавцы: большие, круглые, морды усатые, а шуба коричневая – так золотом и переливается! Все боюсь, приедут браконьеры да на мех перестреляют... А пока раздолье им тут: плавают себе, плещутся, ночью особенно: плёск-плёск хвостищем-то по воде... Детенышей который раз вывели... А уж трудяги! Им бы в колхоз наш – то-то производительность бы повысили! – она хорошо, по-утреннему рассмеялась.
И сразу же Алексей с Оксаной оба увидели, какое сумрачно красивое, тихое утро наступает, как исчезает льдистый налет на траве под строгим солнечным взглядом, услышали торжественный рев сытой черно-белой коровы в хлеву...
Они пробыли вместе еще около двух с половиной лет, и года полтора – последний-то уж совсем плохим оказался, не до шуток стало – каждый раз, когда в семье назревало нехорошее, Оксана трижды укоризненно покачивала указательным пальцем и назидательно произносила: «Бэ, бэ, бэ», – что означало «Баня Бобыля Бородули» – и неизбежно включалось смущающее воспоминание о том, как два взрослых человека с высшим образованием полночи просидели в ледяном подполе, прячась от нескольких безобидных резвившихся на озере бобров. Это еще означало: потом станет стыдно – и затухала разгоравшаяся ссора, сам собой рассасывался выеденного яйца не стоивший конфликт. Заклятие действовало, пока оставался стыд, но утратило силу с его незаметным исчезновением...
Почему он думал об этом сейчас, проснувшись на излете ночи в этом давно проклятом и забытом, но для чего-то заново навязанном ему доме? Ну, конечно, потому что здесь тоже страшно, и, наверное, так же беспочвенно, как и сорок пять лет назад... Чертовы тетки, как умеют втираться в жизнь и в душу – и вот уже эта Аля вертит им, как хочет: сказала, поедем – и вот он здесь! Он ведь, кажется, решил выгнать ее, не везти во Францию... Или все-таки взять с собой? Привычка есть привычка, а баба удобная... Хотя с этим бабьим управлением, вообще-то, пора заканчивать. Кто сказал, что ему необходимо побыть тут одному, вдали от друзей, дел? Да она и сказала! Почему он вообще такой покорный стал – самому противно! Сейчас он позвонит... Да хоть Андрюхе! Нормальный мужик, успешный галерейщик и выпить не дурак. Попросить его собрать народ и привезти всех ну, скажем, в ближайшее воскресенье (интересно, а сегодня день какой? И число, кстати? там похолодало, кажется, или нет?). А Аля... Ее он поставит на место – и самым жестким образом. Она помощница – так? Ну, вот пусть и помогает. Подготовит-закупит-накроет все для воскресного дня и уползает в свою избушку на курьих ножках, а у его гостей, приличных людей, под ногами не путается, вспомнит, наконец, что она не хозяйка тут, а всего-навсего – наемная обслуга, не больше. А то возомнила... Да, и не забыть сказать Андрюхе, чтоб какую-нибудь одинокую женщину – лет до сорока, не старше – прихватил, искусствоведку там, или еще какую-нибудь сговорчивую дуру: может, удастся ее потом на ночь оставить, чтоб Алька не думала, будто исключительная какая-нибудь, – тоже мне, королева секса, вспомнить противно... А потом... Повесть подходит к благополучному (ну, ладно, пусть трагическому) завершению – так что Питер ждет – а там и Париж! Пора встряхнуться – в кого он тут превратился с ее помощью!
Утро отчетливо обозначило свое полноправное присутствие и, вспомнив о том, что дружище Андрюха – пташка ранняя и певучая, Алексей решил не откладывать принятое решение, и позвонить тотчас, не вылезая из кровати. Он нашарил впотьмах на тумбочке свой верный старый телефон – серебристый, надежный, с простым и понятным меню, не чета этим новым ненадежным коробочкам, которые то откажут, то взорвутся, – нажал кнопку, глянул на экран... И понял, что ничего разобрать не может: все странно сливалось, выскакивали непонятные значки, список имен никак не находился. В остервенении Алексей принялся тыкать во все кнопки наугад, чуть не плача от бессилия, зажмуривая глаза в попытках смахнуть отсутствующую слезу – и действительно, вдруг разобрал сквозь туман: «Андрей Галерея». Послал вызов – и почти сразу же получил металлический ответ: «Набранный номер не существует». «Спокойно, я просто сделал что-то не так», – вернул, повторил – и опять этот проклятый голос стервозной бабы... Везде они, везде... Даже роботы говорят их голосами! Ладно, пусть не Андрюха... Было уже все равно – лишь бы услышать живой человеческий голос, пожаловаться, позвать на помощь кого-нибудь, кроме чертовой Али, посадившей его сюда, как в клетку. Он сел в постели и стал прокручивать список вниз, не разбирая имен и названий, вызывая номера подряд, – и все время слышал роковое проклятье: «Номер не существует» – хотел швырнуть взбунтовавшийся телефон об стену, чтоб вдребезги разлетелся, ненавистный предатель, – но одумался, вспомнив, что спасение есть: горячая кнопка «1».
Уже через несколько секунд в ответ на заспанное «Да...» Алексей истерически, не узнавая своего красивого, за душу берущего голоса, почти визжал в трубку:
- Аля-а-а! У меня чушь какая-то полная происходит! Я ни до кого не могу дозвониться! Телефон глючит! Здесь черт знает, что такое! Собирайте немедленно самое необходимое, и едем в город! Я ни минуты в этом доме не останусь, ни минуты лишней, слышите!! Мерзкий дом, паршивое место, я как заживо похоронен! Я вам час даю на сборы, и чтобы все было готово! Нет, полчаса!! Иначе я, на хрен, пешком пойду! Сделали тут из меня идиота!! Я ваш хозяин, я вам, черт возьми, приказываю!!! Слышите вы меня или нет?!!
Не дожидаясь ее ответа, дал отбой и отбросил бесполезный телефон; в ушах толчками нарастал шум, виски прихватило... «Сдохну сейчас... Сдохну...». Он сумел ловко нырнуть рукой в тумбочку, наткнулся на прохладное стекло – «Слава Богу...» – поднес к губам, глотнул, с наслаждением переживая сладкий ожог в груди. С лестницы раздались четкие твердые шаги – и замерли у его двери. «Однако, быстро она...» – и крикнул:
- Входите, Аля!
Но дверь не шевельнулась. За ней кто-то стоял – но не входил в комнату. Подойти и открыть было невозможно... Вспыхнуло ясное дежа вю – но только на миг: да, конечно, едва освещенный погреб, два насмерть перепуганных человека прислушиваются у запертой двери, за которой – словами не выразимый ужас. Но сейчас – это ведь Аля? Больше некому... И в ту же секунду он услышал знакомый музыкальный скип во дворе: так открывалось дверь Алиной избушки! Не соображая, метнулся к окну: помощница в пестром халатике спускалась со своего ладного крылечка, на ходу закутываясь в старушечий оренбургский платок. Алексей обернулся на дверь: кто-то другой, не Аля, сделал шаг по площадке и принялся шустро спускаться в холл, ей навстречу. На нее сейчас нападут? Надо спасать? Как? А если и его тоже? Неужели он такое дерьмо, что побоится вступиться за женщину? Да его же ноги еле держат, он и сам пропадет, и ее не спасет, так что какой прок!
И в этот момент целая и невредимая Аля, на правах утвержденной любовницы, без стука вошла в полутемную спальню, щелкнула выключателем, повела туда-сюда носом:
- Опять!.. С утра… – и укоризненно покачала головой.
- Кто там был?! – перебил Алексей.
- Где? – спросила женщина.
Он взвизгнул:
- Не прикидывайтесь! Вы не могли не столкнуться на лестнице! Или вы с ним заодно?!
- С кем? – искренне недоумевала она.
Старик затопал перед изумленной секретаршей ногами в бессильном гневе:
- С той сволочью, которая тут разгуливает, вот с кем! Которая мой телефон... Мой телефон испохабила, пока я спал! Так что я никому не могу позвонить! И которая шастает по лестнице и под моей дверью сопит!!! Вы лжете мне!! Вы – интриганка! Я теперь вас раскусил, я знаю!! Имейте в виду, что я больше ни минуты, ни минуты... – что-то оборвалось в нем, он обреченно опустился на скомканную постель и беззвучно заплакал.
Аля тихонько опустилась рядом, с настойчивой нежностью обхватила его локоть, прижалась виском к плечу и зашептала, борясь со слезами:
- Алеша... Пожалуйста... Ты слишком много пьешь... Ну, нельзя же так... Нельзя... Посмотри, до чего ты себя довел, смотреть страшно... Небритый, лохматый, не моешься… Прошу тебя, милый...
- Кто здесь еще есть, кроме тебя? – упрямо спросил он, безуспешно выдираясь из объятий. – Твой любовник? Отвечай сейчас же! – и вдруг у него вырвался детский болезненный всхлип: все-таки не хотелось, чтобы она еще с кем-то...
Женщина грустно покачала головой:
- Никого здесь нет, Алеша. Никого, кроме нас двоих. А у тебя, кажется, уже слуховые галлюцинации начались... Послушай, если ты не перестанешь...
Снизу, из холла, раздался громкий звук резко сдвинутого тяжелого кресла – будто кто-то с размаху наткнулся на него в темноте. Алексей вздрогнул, хватая Алю за руку:
- Вот! Я же говорил! Там кто-то есть!
Он вскочил и, выворачивая ей руку, бросился к выходу, увлекая секретаршу за собой. Страх отступил перед желанием ясности, Алексей летел вниз по лестнице, не обращая внимания на то, что любовница упирается и тянет его назад, возмущенно бормоча:
- Что за фантазии... Ничего я не слышала... Пусти, это все чепуха какая-то...
Но теперь-то он точно знал, что Аля врет, потому что помнил, как почувствовал ее краткий вздрог в момент внезапного шума, как она запнулась на полуслове... Лгунья! Актерка! Значит, все-таки есть что-то такое... Силой втащив остервенело сопротивлявшуюся женщину в холл, он отчаянно ударил по выключателю... В рыжем кожаном кресле, достойно и благородно, как английский лорд, свесив скрещенные передние лапы, восседал крупный, черный, будто из каракуля сшитый пудель. Его длинные пушистые уши были тщательно расчесаны, а надо лбом умело взбит ровный пышный кок. Пес улыбался, дружелюбно и открыто, как умеют собаки именно этой интеллигентной породы, и, очевидно, знал, что не понравиться он не может. Алексей выдохнул и инстинктивно улыбнулся пуделю, как улыбаются приличному человеку в ответ на его улыбку, хотел что-то сказать и вдруг почувствовал неудержимое стремление обратиться к незваному гостю на «вы».
- Я забыла сказать... – пояснила сзади отпущенная им на волю Аля. – Это соседкин. Ей пришлось ненадолго в больницу лечь, а Ромео не с кем оставить... Ну, я и согласилась взять его на несколько дней. Он воспитанный, аккуратный, умный такой – сам видишь... Я его, разумеется, в домике у себя держу, но сейчас он, наверно, за мной увязался, когда я выскочила... Ты ведь не против...
- Конечно, нет... Я люблю животных... – Алексей с облегчением двинулся к соскочившему навстречу Ромео и, как многие делают при виде неопасной собаки, безотчетно протянул ему правую руку. – Ну, здравствуй...те...
Тяжелая шерстистая лапа немедленно плюхнулась в ответ ему на ладонь, и состоялось крепкое мужское рукопожатие. Совсем успокоенный и повеселевший, он выпрямился:
- Аля, у меня там что-то с телефоном, а я хотел другу позвонить... Ты не посмотришь?
В ее ловких и цепких пальчиках аппарат оказал полное повиновение и, когда Андрюхин номер был благополучно набран, расторопная помощница поднесла телефон к уху своего патрона – но там уныло тянулись длинные безответные гудки...
- Он просто не отвечает, а с телефоном все в порядке... Перезвонит, я думаю... – Аля, как всегда, открыто и ясно улыбалась. – Пойду кофейку заварю, а ты, может, пока душ примешь?
Алексей кивнул, послушный и благодарный. Они перешли на «ты»? Ну и пусть. Должна же быть у человека хоть одна родная душа...
Когда проснулся – голова болела так, что вынести это, казалось, не хватит сил. Но, сумев, наконец, разодрать веки – тяжелые, будто на них уже положили старинные медные пятаки, – он в одну секунду позабыл про физическое страдание, потому что увидел абсолютную, ни единым слабым проблеском не нарушаемую темноту. Его подбросило, сердце колотилось, подступала нешуточная тошнота... Вот теперь – точно ослеп! Это было воплощением главного, отчаянно подавляемого, всю жизнь преследовавшего страха – и недоумения: почему самое ценное, что есть у человека в жизни – защитительная способность видеть Божий мир и осознавать себя с ним единым целым – заключено в таком нежном, мягком, уязвимом – и невосстановимом! – органе, как человеческий глаз?! Изо всех сил он пялился в плотную равнодушную тьму – нет, ничего... А ведь сейчас день, день! Они же только что позавтракали с Алей: выпили кофе с какими-то тощими бутербродами, и он совсем уверенно, собственническим жестом взял ее за руку, вытянул из-за стола, увел в постель и... И, заснул, наверное, после всего на пару часиков... А во сне и случилось... Случилось... Что?! Но тут его бедную голову пронзила спасительная мысль о настольной лампе на тумбочке – отчаянно, как на вражеский дот, рванулся, выставив беспомощные руки, едва не повалил, подхватил за бронзовую ногу, утвердил, нащупал выключатель... Жгучий, как лимонный сок, ядовито-желтый свет брызнул во все стороны. Спасен!!! Ложная тревога... Притормозило зашедшееся в отчаянье сердце – зато сразу пришпорила виски отступившая было боль...
- Аля... – выдавил Алексей сквозь слипшиеся губы, но обругал себя: что ему, три годика, что ли, чтобы мамку среди ночи звать?
Кое-как выпутался из постели, обнаружив себя совершенно голым и мечтающим добраться до туалета без досадных потерь по пути, включил верхний свет, распахнул дверь на лестницу, глянул с площадки вниз... Едва различимый в тающих книзу лучах света, метнулся в кухонной арке и вмиг пропал стремительный человеческий силуэт.
- А-а-а! – он оступился на краю площадки, но вовремя перенес тяжесть назад и больно съехал на спине по ступенькам, тщетно пытаясь зацепиться за ускользавшие перила.
Не расшибся – или просто не заметил – кинулся к двери – заперта – стал дергать тугую задвижку – щелкнуло – подалась – шершавый холод под ногами – морозный ожог всего тела...
- А-а-ля-а-а!!! – споткнулся и упал на четвереньки; жестко и жгуче хлестнуло болью по коленям и локтям...
Ее, ошалело выскочившую в короткой рубашке из домика, он встретил, стоя раком посреди плиткой выложенного дворика, метя кудлатой бородой шуршащие скукожившиеся листья...
Алексей плакал и горько, бессвязно жаловался, пока, усмиренного и укутанного в колючий клетчатый плед с кистями, секретарша вела его, обхватив поперек туловища, обратно в дом, заходила с ним в туалет – и он уже не стеснялся изливать оглушительную, как Ниагара, струю прямо в ее присутствии – поила водой с сердечными каплями, укладывала и успокаивала – и сама ложилась рядом, не выключая настольную лампу, прижимаясь и гладя его уже не как любовница, но как сестра... Он вздрогнул:
- Аля, ты веришь в призраков?
Женщина изумленно повернула голову на его груди, коснулась губами шеи:
- Ты что, Алеша, какие призраки? Нет, конечно. Спи.
- Но ты ведь перепечатываешь... мою повесть! Ты уже поняла, что она про это место, про этот дом... Милая, здесь убили троих человек... – он лихорадочно приподнялся. – Я сегодня закончу, сегодня же... Там чуть-чуть осталось досказать... И я подумал – а вдруг это правда, что попадья говорила? И души не умирают... Тогда, они, может, скитаются здесь, где их убили, и...
Аля нервно хохотнула:
- Алеша, ты в каком веке живешь? Какая попадья? Мертвые лежат в могилах – и точка. Но ты много пьешь, я тебе говорила. Ужасно много. Вот и грезится тебе...
- Ты уверена? – спросил он, как маленький, и сразу почувствовал, что Аля улыбнулась: губы и щеки ее щекотно шевельнулись на его шее.
- Конечно. Давай спать. До рассвета еще далеко, – шепнула она, устраиваясь поуютней.
Утро настало пронзительно белое, с оглушительным вороньим скандалом где-то в саду, с пустым, но еще чуть теплым Алиным местом в кровати, с мутным блаженством от предчувствия творческого восторга... Действительно, хватит бухáть и чертей ловить по коридорам. Сейчас он встанет, умоется и закончит, наконец, свою печальную повесть, которую нигде, кроме как здесь, не дописать: сам дом выстрадал ее за долгие десятилетия, стены дышат человеческой болью и смертью – оттого так страшно здесь, так невыносимо – как в той Зоне, что за путями, за Карьером, за пределами Памяти. Но он художник и знает, что такова атмосфера подлинного творчества, немыслимого без боли...
Дверь открылась, и вошла Аля – собранная, гладко причесанная, в коротком платье; одно слово – секретарша; перед собой она несла стопку бумаг; вот опустила ее на тумбочку, отодвинув лампу, и заботливо отвинтила колпачок его любимого золотоносого паркера:
- Давай, надо подписать это все. Тут бумаг накопилось, пока ты... м-м... был не у дел... Что еще мягко сказано... Тут договоры всякие, счета – ну, как обычно... Держи ручку. Только читай внимательно, чтоб мне потом проблем не прибавилось.
В бумаги, приносимые Алей на подпись, Алексей никогда особенно не вникал, не то чтобы доверяя ей полностью, но испытывая инстинктивную брезгливость ко всему, что не связано было с Красотой во всех ее проявлениях, – и теперь, опершись в кровати на локоть, он привычно занес перо над бумагой, ища глазами заранее проставленные помощницей галочки в нужных местах. И не увидел ни галочек, ни печатных строчек – лишь расплывчатую черноватую грязь, как на погубленной ксерокопии. Напрасно он тряс головой, жмурился и силился протереть безжалостно подводившие глаза – все так же лежал перед ним слепой, нечитаемый текст. Сердце опять захолонуло. Не желая признаваться в очередной напасти, дабы не подвергнуться новым упрекам в вульгарном пьянстве, Алексей раздраженно отпихнул пачку документов от себя – и с кратким шлепком она приземлилась на пол.
- Что ты мне тут подсовываешь! – рявкнул он в сторону обиженно потупившейся Али. – Не разобрать ничего! Время нашла – подождать нельзя было! Дай мне хоть штаны надеть, а потом уже приставай со своими бумажонками!
Собрав с полу разлетевшиеся листы и особенно прямо держа оскорбленную спину, помощница без звука вышла. Униженный и озадаченный, художник откинулся на податливую подушку.
- Совсем беда... – прошептал он в исчерченное черными ветками молочное окно.
Со двора раздавался радостный лай задыхавшегося от одному ему ведомого счастья Ромео.
Глава IX
Под окном стою
Ни один в здравом уме человек, не имеющий прямого отношения к таинственному преступному или романтическому следовательскому миру, – даже вероломно нарушающий брачные клятвы супруг! – не предположит всерьез, что за ним ведется банальная слежка. В ней самой по себе есть что-то почти сексуально непристойное – даже если по каким-то веским причинам не возмущаться несанкционированным вторжением в частную жизнь ничего не подозревающего человека. У Лёси (размышляя об этом, она гнала по изгибчивому Ораниенбаумскому шоссе в сторону уездного города Ломоносова, никогда в жизни не посещенного – и визиту не подлежавшего, потому что свернуть налево предстояло, не доехав до него километров пять), в черной кладовке неприятных воспоминаний, в самом дальнем, паутиной повитом углу, под толстым слоем разных мелких жизненных несуразностей, умышленно наваленных поверх, хранилось одно совершенно особенное. Она почти никогда не прикасалась к нему мысленно, потому что уже точно знала, что оно – наиужаснейшее, в чем-то даже страшней воспоминаний о смерти матери: то горе, в свежести своей казавшееся непреодолимым, со временем стало светлым и умильным; оно, определенно, не требовало отправки в тайную кладовую, что хранила в себе не болезненное, а – гадкое. Там был навеки заперт первый гнусный сексуальный контакт – и вот уже тридцать лет Лёся искренне недоумевала, как можно желать на всю жизнь остаться с мужчиной, с которым пережита такая мерзость; там ждали своего часа – часа ее какой-нибудь особой беспомощности – намертво забытые прямо на школьной сцене идеально выученные слова отрепетированной патриотической песни, заставившие пионерку Лёсю в слезах убежать за кулисы, а потом до конца концерта прятаться в учительском туалете; пылилась там и шелковая, с богатыми кружевами нижняя юбка, однажды выскользнувшая из-под благополучной верхней при всем честном народе на платформе метро, – пришлось гордо перешагнуть потерю и невозмутимо продолжить путь, надеясь лишь на то, что не найдется услужливого дурака, подобравшего бы ее и пустившегося вдогонку за хозяйкой, потрясая оброненной собственностью; там вечно горела под потолком безжалостная хирургическая лампа, распластанная под которой, она когда-то спросила огромного, с голыми до локтей красными руками доктора: «Будет очень больно?» – и услышала в ответ: «Я сейчас твоего ребенка на куски резать начну – вот кому будет больно так больно. А что при этом почувствует какая-то сука, мне неинтересно в принципе»; там под ерзающей паркетной половицей до сих пор таилась и в глаза не виданная ею зеленая «трешка», выкраденная неизвестно кем из сумочки воспитательницы группы продленного дня, спрятанная – и обнаруженная – в том нехитром тайничке у туалета, – но именно второклашку Лёсю посчитали преступницей и публично заклеймили воровкой из-за того, что она в самый неподходящий момент невинно попросилась «выйти», – и потом долго демонстративно хватались в ее присутствии за карманы и ранцы, нарочито испуганно шепча: «Осторожней... Здесь воровка...». Если как следует покопаться в том чуланчике ужасов (хорошенько заперев за собой дверь, потому что нежить имеет свойство разлетаться не только из сундучков любопытных женщин), то и не на такое там можно было набрести, – но среди всей нечистой силы не имел конкурентов один приставучий демон.
О, ничего такого – она тогда просто влюбилась, как это периодически происходит со всеми порядочными людьми, даже ласково стреноженными с помощью желанных брачных уз, – мягких снаружи и шипами утыканных изнутри. Знакомый знакомых, периодические незапланированные столкновения, все как обычно... Только с первых же встреч их общение повернуло в русло несказанной задушевности, почти наивной доверчивости – без прикосновений, но глаза в глаза... Веяло не родственной, но уже родной душой, неуловимым яблочным ароматом – тех спелых душистых яблок, что вызрели на одной ветке в разные урожайные годы, и навеки запомнили родное дерево... Находясь пока в том возрасте, когда близким подругам выкладывают всю подноготную, Лёся поделилась сокровенной тайной со своей убогой Леной – а та в недоумении подняла белесые брови: «Как? Ты не знаешь? Ну, ты даешь – все знают... У него же есть невеста, и чуть ли не свадьба назначена. Его постоянно с ней видят. Говорят, удивительно красивая... – тут она издала длинный скорбный вздох, изображая покорность судьбе. – Не то, что мы с тобой...». Еще не закончился период времени, когда эта записная уродина пыталась объединиться в некое ущербное «мы» с каждой вполне себе симпатичной женщиной, которой просто однажды не повезло, исподволь убедив ее в том, что причина невезения таится в исключительной некрасивости...
Лёся и поверила, и нет: сказанное могло оказаться как вдохновенной «дезой», выданной на пике безжалостной зависти, так и чистой правдой – почему бы нет? Тяжко промучившись несколько дней, она решила поставить точку в своих сомнениях – и либо прекратить общение с обаятельным обманщиком, либо с упоением погрузиться в теплую реку новой оживляющей любви – эдакий полноводный Нил с до времени спящими на дне крокодилами. Адрес узнала в честном, вовсе на коварных дам не ориентированном справочном бюро – существовали тогда еще на земле такие – убедилась, что он одиноко живет в однокомнатной квартире недорогого кооперативного дома, в заведомо рабочее время потрудилась провести тщательную рекогносцировку местности, воровато заскочила в свежеокрашенный подъезд, постояла у пухлой коленкоровой двери, несказанно обрадовалась, обнаружив ее на первом, идеальном для работы шпионов этаже, прикинула, куда выходят окна, высчитала, что на противоположную сторону, осторожно обошла грязно-бежевую, похожую на черствую буханку «брежневку», произвела нехитрый подсчет... Окна глядели в облюбованный собачниками скверик, и, как положено, снабжены были легкими, неосторожно раздвинутыми занавесками – прозрачными, определила Лёся. Операцию назначила на Восьмое марта: если у приличного мужчины есть невеста, то он обязательно проведет этот праздник с ней, ну, а потом... потом они непременно приедут к нему: не дети же – ему за тридцать, она тоже едва ли девчонка... Вряд ли им привалило такое счастье, что по собственной квартире есть у каждого!
Лёся прибыла в скверик со всеми предосторожностями, когда уже достаточно стемнело, чтобы по-глупому не попасться на глаза возлюбленному объекту слежки, и принялась топтаться по мокрой и скользкой, собаками закаканной тропинке взад-вперед, сначала с трепетом, потом с легкой досадой, а через несколько холодных и влажных часов – с глухим раздражением косясь на упорно не желавшие загораться заветные окна. Обидно было уйти ни с чем: неужели они все-таки остались ночевать у этой самой «невесты»? Но существует ли она вообще? Может, он просто маму поздравлять поехал? Или сестру? Но вдруг он сидит себе сейчас с любимой девушкой в теплой компании (рисовался уютный, и, главное, с пылающим камином дорогой ресторан), и у них не текут носы, не мерзнут ноги? Около часу ночи Лёся уже мечтала о том, чтобы проклятое окно зажглось, наконец, она увидела бы их там вдвоем – и с облегчением понеслась бы в свою предусмотрительно далеко припаркованную машину: к чертям собачьим всю эту любовь, когда того и гляди околеешь! Пятнадцать минут второго ей стало абсолютно ясно, что свободный мужчина сегодня решительно не намерен ночевать дома, и незадачливая филерша дала себе последние четверть часа – так, для ровного счета... Ах, если б она так не любила круглые числа! Может, все и кончилось бы хорошо... Да еще как хорошо могло бы кончиться! Так, что не было бы ни дурнотой отзывавшегося рынка с китайскими трусами, ни страшной погони в ночном лесу, ни памятного воспаления легких...
За пару минут до того, как уйти, заледеневшая с головы до ног, жестоко простывшая, она подошла прямо к дому, в котором заведомо не было любимого, – просто чтобы последний раз с тоской глянуть на запретную тьму за по-прежнему не зашторенным окном – и именно в ту секунду оно внезапно вспыхнуло. От неожиданности Лёся растерялась и замерла, стоя непосредственно в желтом прямоугольнике света и обратив вверх ярко освещенное лицо, как нищая чахоточная девочка из душещипательного романа Золотого девятнадцатого века, рискнувшая заглянуть в окно богатого дома, где празднуют Рождество, – и сразу же увидела за стеклом: в мятой футболке, с растрепанными густыми волосами, заспанный, он то ежился, то потягивался со сна... В одно мгновенье несчастная уже знала, что все то время, пока она тут металась, раздираемая страстями, этот умный и симпатичный мужик спокойно спал, радуясь дополнительному выходному, в своем доме, под приоткрытой форточкой; и что нет никакой невесты – мало ли с кем встретили человека на улице! Но главное – что, не устрой она сегодня эту более чем дурацкую, унизительную и ему, и ей, эскападу, – и очень скоро между ними произошло бы все самое хорошее, что возможно в мире, – но теперь ничего не произойдет, и не только сейчас и с ним, но никогда и ни с кем; и что если до этого момента она жила, идя прямо и вверх, то теперь, сколько бы лет ни осталось, а путь один – вниз по склону, все быстрей и быстрей; наступил период бесплодного доживания... Миг прозрения прошел. Лёся отпрянула. «Елена?!!» – донесся из-за форточки его изумленный вскрик – но жалкая и глупая женщина уже уходила, не оборачиваясь, потому что в таких случаях ничего нельзя объяснить. И вернуть ничего нельзя. Больше они никогда не увиделись.
Теперь, как слегка неисправный самолет с еще не успевшими по-настоящему испугаться пассажирами внутри, не сумев выпустить левое, самым роковым образом заклиненное шасси, с надеждой заходит на второй круг, Лёся экспромтом предпринимала вторую, вполне спонтанную попытку слежки. Что-то было не так. Не состыковывалось. Вернее, состыковывалось, но не вполне подходило – как неродная крышка на фирменной кастрюле или красивый, но противоестественный кожаный кушак на драповом пальто. Эта Аля... Так доверительно, так правдоподобно все объяснила, так по-человечески жаль ее, почти как себя, но... Вот черт, если бы она, Лёся, беззаветно любила какого-то мужчину – того, во вспыхнувшем окне, или того, с нежной шерсткой над расстегнувшейся пуговицей, или другого... – разве она позволила бы ему, пусть даже и по собственной вине – но явно и сильно страдающему, валяться на заблеванной кровати, в комнате, воняющей зверинцем, – без квалифицированной медицинской помощи? Алевтина стремилась скрыть от общественности тот прискорбный факт, что маститый и модный художник – всего-навсего конченый алкоголик? Но существуют частные специалисты и клиники, гарантирующие сохранность непрезентабельных тайн, – и, уж, наверное, не из-за отсутствия средств любовница пренебрегает лечением! И по той же причине в доме нет прислуги? Чушь какая – не прислуги нет, а свидетелей! Свидетелей чего – пьянства? Эка невидаль: сколько пьющих знаменитостей ничуть не потеряли во мнении поклонников из-за того, что принято считать вполне простительной слабостью! Это даже чем-то роднит их с простым трудовым народом, не особо уважающим всяких там тунеядцев с кисточкой в тощей лапке – вместо гаечного ключа в мозолистом кулаке: мол, наш человек, свой в доску и выпить не дурак... Значит, Аля скрывает не алкоголизм – или не только алкоголизм... Но что?! Узнать можно, лишь повидав отца, когда тот придет в себя: не может же он не иметь никаких просветов в сознании и, раз весь день пролежал в омерзительном пьяном сне, как под глубоким наркозом, должен, хотя и поздно вечером, но очнуться! И если добраться до него в это время... О, нет, ничего такого: прогулка по мокрым листьям под сенью величественных лип и доверительная беседа об ошибках молодости и смысле жизни отменяются навеки – просто убедиться, что отец понимает, где и с кем находится, и не против всего этого, – а дальше не ее дело.
На заправке у въезда на холм, где стояла школа, Лёся купила вкуснейшие, горячие слоеные булочки с кремом и малиной, запаслась высоким картонным стаканом кофе, в надежде, что он, хоть и неминуемо остынет, но дружески поддержит в трудный час. Отчетливо темнело – заметней, чем в городе, где при первых же признаках наступающих сумерек судорожно вспыхивают миллионы горящих окон, наливаются пронзительным светом, как ядовитым соком, агрессивные рекламы – так что на подъезде к мегаполису, особенно, если въезжаешь, например, с Пулковских высот, сначала видишь в ночи гигантское оранжевое зарево, как бы отсвет неугасимого пожара, – и только потом появляется внизу словно огромная чаша, наполненная языками пламени (Иерусалим, сход Небесного Огня, вид сверху)... В сельской местности все не так: скромные нечастые фонари, постепенно затухающий собачий перебрех за заборами, каменно и деревянно молчащие дома, да совсем уж изредка – ленивые осенние разборки припозднившихся, то ли самых активных, то ли просто упустивших летом удачу котов... Ненадолго. Потом, как ватное одеяло, поселок укутывает тишина...
Автомобиль Лёся с сожалением оставила на дороге, запихнула пару булочек в свою вовсе не дамскую, а вместительную сумку деловой женщины – а потом, сжимая рукой хрупкий стакан и сквозь перчатку чувствуя стремительно уходящее кофейное тепло, нерешительно свернула в заманчиво тенистый днем, а ночью попросту темный переулок, где, как она смутно запомнила, было еще не менее двух других, не таких шикарных домов. Там стоял с выключенным мотором внушительных размеров шиферно-серый внедорожник, который обходить пришлось, едва ли не обтираясь боком о соседский покосившийся забор – хотя еще днем в переулке не было ни одной машины. Интересно, почему хозяин не загнал его в свой двор? Временно переквалифицировавшаяся в сыщицу модельерша с сомнением огляделась: неужели обладатель мощного авто стоимостью с небольшую однокомнатную квартиру, похожего, по воле знавшего, что делает, промышленного дизайнера, на мрачного и опасного зверя, – мог приехать в одну из этих деревянных развалюх, что торчат из-за хлипких дощатых, кое-как сколоченных заборов? Или кто-то пожаловал к ее отцу? К Але? Вновь ломиться в калитку она не решилась – да и что там можно было найти? Не доходя до искомого синего забора, Лёся остановилась посмотреть, с каким участком он граничит, – и с легким восторгом убедилась, что соседей у ее отца нет, как минимум, лет пять: трухлявая приоткрытая калитка болталась на одной петле, фонарик Лёсиного смартфона осветил неухоженные заросли за ломаной изгородью, заколоченные крест-накрест окна, огромный, обмотанный грязным пластиковым пакетом замок на двери... Там никто не жил – а значит, и возражать против ее незаконного вторжения было некому. Приятный зуд пробежал по хребту: вспомнилось что-то совсем детское, какие-то милые «тайные общества», секретные собрания при свечах в сухом и чистом подвале элитного дома, где жила с матерью странная, в огромных двояковыпуклых очках одноклассница, дочь дававшей знаменитую «подписку о неразглашении» горничной кого-то из горкомовских секретарей... И незаконное предприятие, в которое легкомысленно пускалась сегодня Лёся, враз перестало казаться неловким и уважаемой даме средних лет не подобающим – да и дамы-то никакой, по сути, уже не стало... Кралась по чужому покинутому саду вдоль высокого синего забора, подсвечивая себе в самом прямом смысле тернистый путь фонариком, беззаботная ученица младших классов средней школы, и самое худшее, что могло случиться с ней сегодня, – это стеснительный выговор юного участкового – такого, например, какой накрыл когда-то их засекреченный Орден Желтого Тюльпана за вычерчиванием подробного плана некоего таинственного подземелья, а потом и сам по-мальчишески заинтересовался происходящим и принялся задавать вполне серьезные вопросы: «А это у вас зачем? А тут что?» – и довольно долго не спохватывался о том, что он-то уже взрослый...
Широкий конус серебристого света неожиданно выхватил из тьмы нечто ослепительно белое – будто прилетело крупное привидение и заградило путь. Лёся сдавленно вскрикнула, тут же зажав себе рот и едва не выронив при этом смартфон: береза! Матерая, толстая и кряжистая, расставив, как в хватательном движении, массивные руки-сучья, она росла прямо у металлического забора, навалившись на него, упрямо тесня, закидывая ветви на соседскую сторону... Тут и думать не о чем было: быстро допив уже холодный и противный кофе, бывшая респектабельная дама, а ныне проказница и обаяшка-девчонка, всегда весело избегавшая наказаний за невинные шалости, перекинула сумку через плечо, сунула смартфон в карман и почти на ощупь, радуясь вольной ширине и плотности своих собственноручно скроенных брюк, полезла вверх по березе. Та не возражала: услужливо подставляла один за другим сучья, как ступени, особенно ветками в лицо не тыкала, подсадила на широкую и крепкую, с развилкой, надежную ветвь... Без особого труда удерживаясь на ней, Лёся изловчилась достать смартфон и оглядеть недружественную территорию: там тоже виднелся запущенный сад, чуть ли не с буреломом, несколько в стороне угадывалось что-то похожее на овраг или русло высохшего ручья – дальше свет был не в силах проникнуть. Перегнувшись, она глянула вниз: многолетние заросли мертвой крапивы. Что под ними? Рискнуть? А рука уже перехватывала ветку поудобней, колено осторожно нащупывало соседний сук... Спрыгивая в мокрую, но, казалось, уже неопасную крапиву, она зажмурила глаза. Оглушительный шелест, тупой стук, собственное сдавленное «Ух...» – и, поднявшись на ноги, Лёся принялась наугад продираться сквозь колючие джунгли, прикрывая голову локтями и наскоро подсчитывая понесенные потери: несколько чувствительных ожогов недоумершей крапивы – последней, самой злой, как осенняя гадюка, – пара-другая несерьезных ушибов... Держась вдоль канавы, она довольно скоро выбралась к задней двери отстраненно возвышавшегося дома, осветила ее – и без всякой цели, заведомо уверенная в неприступности, автоматически, потому что невесть когда и кем в таких случаях это «положено», потянула, потом подтолкнула, нажав на массивную ручку... – а дверь взяла – и бесшумно распахнулась внутрь, втягивая незваную гостью за собой в пугающе черный проем. Пахнуло свежей древесиной, кожей хорошей выделки и горькими женскими духами. Ошеломленная, едва на ногах устоявшая Лёся в эту минуту вспомнила, что днем от Али пахло иначе – чем-то несвоевременным, будто весенним, неуместным среди всеобщего тления... Тишина стояла абсолютная: ни дыхания, ни тиканья, ни шороха...
Вспоминая эти секунды потом – то есть, после всего – Лёся четко определяла их для себя как некий рубеж, разделивший происходящее на то, что рождал ее хрупкий внутренний мiр, живший по пограничным, но нравственным законам, и то, что грубо вторглось извне, зло и настойчиво требуя быстрых действий, а не привычной рефлексии. Были чувства – начались события...
Луч фонарика выхватил черно-белые очертания мебели, высокий арочный проход к лестнице, ноги бесшумно ступали по мягкому ковролину; широкий, бледнеющий от центра к краям круг холодного света воровато крался перед затаившей дыхание преступницей. Она словно негаданно попала в захватанный кадр, столетие кочующий по всем, претендующим на маломальскую ужасность фильмам, – тот самый, клишированный, обязательный в любом уважающем себя триллере или детективе, будто единый для всех. Никакого особенного страха не чувствовалось – лишь здоровое щекочущее любопытство: так ощущают полную безопасность и легкое возбуждение люди, созерцающие в темном зале непритязательную страшилку в продвинутом формате 3D. Лёся помнила, что дверь в комнату ее страдальца-отца – прямо на площадке второго этажа, и стала осторожно подниматься по лестнице; подошла к двери, прислушалась и принюхалась, ощущая пока только приятный канифолево-терпкий запах древесины, почему-то напомнивший ей какие-то давние сборы в остро-зеленом мху приятных на ощупь грибов – с замшевыми, болотного цвета шляпками и оранжевыми толстыми ножками; да, да, моховики, странные грибы, которые пахнут мужским вожделением... Пришелица мотнула головой и надавила плечом на послушную дверь. Запах немедленно сменился на давешний тошнотворный, но она была готова к этому и сразу принялась дышать через рот – ничего, терпимо... Полуобнаженный человек, наискось лежавший вверх лицом на кровати, почти свесив с нее лохматую голову, по-прежнему недвижимый, дышал на этот раз ровно и тихо, без пугающих хрипов и стонов, – казалось, сон его стал спокойней. Луч скользнул по сбитым и разбросанным простыням, в беспорядке валявшимся подушкам, сползшему одеялу, осунувшемуся, до глаз бородой заросшему, оскаленному лицу – создавалось впечатление, что неискусный фильм продолжается закономерной находкой вполне реалистичного трупа. Лёся протянула руку, хотела позвать – и запнулась: как обращаться? «Отец»? По имени-отчеству? А то еще лучше – «господин Щеглов»?
Она дотронулась до холодного влажного плеча и сказала:
- Папа.
Его веки быстро дрогнули, и глаза распахнулись – мгновенно и страшно.
Именно в эту секунду снизу отчетливо стукнула дверь – и Лёся метнулась к окну, давно мерцавшему чем-то голубоватым, на что она собиралась посмотреть чуть позже: внизу напротив сияло другое окно – поменьше, и за подсиненной тюлевой занавеской виднелся в полутьме мирный компьютерный экран, а перед ним – прилежно склоненный мягкий женский профиль в золотистом нимбе: Алевтина. Но внизу кто-то ходил – это было очевидно. Ходил тяжело, по-хозяйски, не думая скрываться, – вот обозначилась вокруг двери тонкая тускло-желтая рамка – включили на кухне свет; потом звякнуло стекло, хлопнула легкая дверца... Лёся стояла посреди чужой комнаты ни жива, ни мертва, прекрасно осознавая, что путь к отступлению отрезан, и почти уверенная, что удары ее взбесившегося сердца так же прекрасно слышны внизу, как и здесь – мирные передвижения человека, совершающего некие рутинные, им самим едва замечаемые действия... Только тут она спохватилась, что нужно потушить фонарик, но сделать это дрожащими, откровенно вышедшими из повиновения пальцами оказалось не так-то просто: сначала включился интернет, потом таинственный «синий зуб», за ним – беззвучный режим – и только на четвертый тычок погас знак горящего фонарика. Тьма, разбавленная голубым, мягко обхватила и чуть-чуть успокоила; обнаружились словно временно отлучившиеся ноги – и удалось быстро и тихо перебежать к стене, чтобы, на случай, если враг – а кто там еще мог быть! – войдет, оказаться под прикрытием открывшейся двери. Но не успела Лёся справиться с бурным дыханием, как шаги вверх по лестнице и правда раздались – быстрые, уверенные – и она замерла от ужаса, изо всех сил зажимая себе обеими руками рот...
Дверь действительно немного прикрыла незваную гостью – и, осторожно высунувшись, в матовом свете с площадки она беспрепятственно увидела спину высокой худой женщины в черных брюках и облегающем свитере, разглядела даже большую блестящую заколку в ее седых – или очень светлых – небрежно прихваченных волосах... Что-то держа в руках, женщина склонилась в потемках над лежащим, но времени на дальнейшие наблюдения у Лёси не оставалось: совершив слепой, отчаянный бросок вокруг дверной створки, она, не таясь, стремглав бросилась вниз по ступенькам. Хотела спасаться прежним сомнительным путем – через сад и стену, на которую с этой стороны вряд ли смогла бы забраться без дружеской помощи старой березы, но, увидев в холле приоткрытую дверь сбоку, инстинктивно выскочила на улицу через нее и оказалась в знакомом нешироком, плиткой вымощенном дворе – а невдалеке справа, на ярко-белом с изнанки железном заборе заметила прямоугольник калитки с карикатурно огромной задвижкой. Беглица ловко отодвинула ее – сзади уже нарастал гром приближающейся погони – и брызнула наугад по переулку, в сторону недалекого света главной улицы, на лету нащупывая в кармане спасительные ключи от машины. (Некстати пришла идиотская мысль: «Сейчас оступлюсь, упаду, и острый ключ с размаху воткнется мне в глаз».) Протиснулась мимо джипа – позади с лязгом захлопнулась, и вновь распахнулась калитка – «Ах, вот, он чей – понятно!» – вырвалась на широкую дорогу – «Надо же, я и сумку тащить умудряюсь!» – еще чуть-чуть – ключи в дело – рванула дверцу – какой холод внутри – где эта херова кнопка – все четыре двери блокированы – теперь просто так не достанет – попасть в зажигание – слава Богу!
Оказавшись в своей машине, Лёся мгновенно обрела кентавровую уверенность: все же за годы она сумела стать неплохим, вполне вменяемым автомобилистом, любила и чуяла машину, как часть собственного тела, доверяла ей, словно другу, без нужды не мучила – и железная тварь с таинственным нутром, про которое каждый водитель знает, что оно больше, чем только пламенный мотор, платила ей полной взаимностью, в трудные минуты не подводя. Синяя «Кия» свою работу знала: она послушно снялась с места, развернулась среди ям, как балерина, и понеслась во тьму – бесшумно и плавно, разбуженной в ночи птицей. Когда свернули на асфальтовое шоссе, Лёся расслабилась, не разжимая хватку внимания, как всегда делала за рулем, – и снисходительно усмехнулась сама себе: все, хватит очком играть – на что им теперь за тобой гнаться – застрелить разве – так это вряд ли... Но не успела приятная мысль благополучно погаснуть, как в зеркале заднего вида, грузно вывалившись из-за поворота, возник давешний – сомнений не было, Лёся вмиг узнала злобную квадратную морду с тяжелым неоновым взглядом – тускло сверкнувший внедорожник. Тот, кто сидел внутри, жестоко пришпорил его, и гордый автомобиль, как оскорбленный шпорой и плетью мустанг, с глухим ревом одним рывком почти настиг низкую и хрупкую, слабой женщиной управляемую машинку...
В груди горячо плеснуло, нога сама нажала на газ.
Дорога шла под уклон, и, не привыкшая к такому безграмотному обхождению, всегда лелеемая хозяйкой «Кия» возмущенно клюнула тупым своим носом и, недоумевая о внезапных прихотях водительницы, вынужденно принялась опасно ускоряться в условиях, когда по правилам однозначно следовало тормозить. Цепочка редких молочных огней сразу же будто прыгнула навстречу, и в одно перехватившее дух мгновение Лёся пронзительно поняла, что на такой скорости попросту невозможно удачно вписаться в поворот под прямым углом... А Ораниенбаумское шоссе – вот оно: гремящее и мигающее, уже пересекает путь. Нет, не суметь! Намертво приклеившийся сзади внедорожник не давал ни малейшей возможности хоть сколько-нибудь сбавить ход, недвусмысленно грозя в этом случае безжалостным пинком в багажник, крутым заносом – с последующим непременным сальто-мортале...
«Что она делает?! Зачем?!! Ведь это же убийство!!!» – высветлилось очень логичное, но по вполне понятным причинам должного развития не получившее соображение.
«Кия» стремительно перелетела шоссе, чудом увернувшись от столкновения с протрубившей, как разъяренная мамонтиха, фурой и едва не задев бетонную стену слева; оказавшись на узкой земляной дороге, с размаху врезалась во что-то твердое низким беззащитным брюхом, истерическим усилием отпрянула, попала в глубокую каменистую яму, сумела выскочить – и понеслась, взлетая и падая на рытвинах, наугад в зловещую темень. Лёся не чувствовала ровно ничего: так бывает только перед неотвратимостью самых страшных, смертельных катастроф и потерь. Как за спасательный круг, взмывший на гребень девятого вала, в странном оцепенении она хваталась за грозивший сокрушительным переломом ребер, утративший всю былую послушность и силу, скользкий от ее смертного пота руль... Впереди стояла непроницаемая ночь без единого проблеска, но и доли секунды нельзя было выкроить на то, чтобы пальцем дотянуться до рычажка и включить спасительные фары, повернуть зеркала, чтоб не слепили отраженьем дремуче-огненного взгляда настигающего хищника – той машины, где сидел – сидела! – хладнокровная убийца. Жалкий и тусклый «ближний свет» лишь чуть-чуть пробивался сквозь мрак, иногда вырывая из него прыгающий кусочек неровной, усеянной провалами и булыжниками дороги – с глухою стеной по левую и беспросветным мраком по правую руку. «Это конец. Мне не вырваться. Так вот, оказывается, какая смерть меня все эти годы ждала...» – отвлеченно мелькнула беспомощная мысль в ту секунду, когда на машину обрушился сзади свирепый удар стального намордника, мгновенно смявший хрупкий багажник дешевенькой иномарки, как серебряную фольгу от съеденной шоколадки. Взвывшую от боли и захлебнувшуюся «Кию» развернуло и швырнуло вправо, она замерла на миг, балансируя на невысоком земляном взгорбии, но раньше, чем сорвалась в кювет, под колесами начала проседать и крошиться почва... Старая машина сдалась. Она делала все, что могла, из последних скромных силенок спасая беспечную владелицу, но теперь, смертельно раненная, стала медленно и неловко заваливаться набок перед конечным кувырком – и именно своей неуклюжестью (точно такой же, как и у человека, схватившего на бегу роковую пулю) дала хозяйке последний ничтожный шанс. В те растянувшиеся до бесконечности секунды Лёся сумела механически совершить левой рукой два последовательных молниеносных движения: разблокировать выход и потянуть ручку... Очертя голову беглица боком выбросилась в темноту через куда-то вниз ускользающую дверцу... Она упала на твердое и острое, покатилась по бугристому откосу, ожгла слепящая боль в боку, плече, затылке – руки панически вцепились во что-то невидимое, но на ощупь крепкое, – земляной выступ!.. Надежность его оказалась мнимой: целый пласт влажного песчаного грунта оторвался от родного основания – и рухнул на трепыхающуюся добычу, засыпав ее рыхлой пахучей землей, оглушив и подмяв, – но остановив низвержение в неведомую бездну.
Боль пришла такая, что из всех невнятных обрывочных импульсов задержался в сознании один, перешедший в паническую молитву: «Почему я не теряю сознание... почему... почему... вот сейчас... нет... Господи, Господи, дай мне забыться!..». Внезапно рядом, буквально метрах в пяти, словно сам собой возник высокий костер: до отказа заправленная машина все-таки вспыхнула – и сразу сквозь обрывки растений и куски земли стал виден четкий человеческий силуэт на фоне ярко пульсирующего зарева. Статная женщина в брюках какое-то время внимательно вглядывалась в огонь, а потом из ее руки как выстрелил острый белый луч и, расширяясь до конуса, начал бросаться из стороны в сторону. Свет дважды прошел мимо Лёсиной полузасыпанной головы: один раз слегка мазнул поверху, а другой – промчался по жухлой траве у подбородка. Пометавшись еще немного, он умер, и в отсветах крепчавшего пламени высокая женщина легко побежала вверх по некрутому склону, задержавшись буквально в полушаге от своей почти погребенной заживо изувеченной жертвы. Но жадный взгляд убийцы был безопасно устремлен совсем в другую сторону – туда, где вот-вот ожидался впечатляющий фейерверк:
- Ну, что, получила моего... – и последнее слово утонуло вместе с Лёсей в теплом море долгожданного забвения, где не было ни грызущей, выворачивающей боли, ни глупых, заведомо безответных вопросов.
Глава X
Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...
- Я вам не верю. И никогда не поверю, не надейтесь. Зарубите себе на носу: произошли случайные совпадения! – Илья хотел было от души грохнуть калиткой, выходя от этой сумасшедшей бабы, но в последнюю минуту опомнился, сообразив, что она воспримет такую выходку как очередной приступ его неопасного подросткового бунтарства.
Он демонстративно аккуратно перегнулся через почерневшие от времени деревянные зубья и четким беззвучным движением задвинул за собой массивный железный засов; хотел уйти молча, но не удержался, презрительно бросил поверх забора:
- И укротите, пожалуйста, вашу буйную фантазию...
По земляной дороге он шагал широким гневным шагом, сжав зубы и кулаки, инстинктивно выдвинув напряженную нижнюю челюсть. На душе было мутно и мерзко, но при всем том некое внешнее зрение наблюдало за дерзким юношей с нескрываемым удовольствием: вот он идет – честный и смелый, молодой, но уже много перестрадавший и передумавший; весь – устремление и порыв; в меру подросший чуб небрежно падает на скорбной складкой пересеченный лоб...
Полчаса назад грузовое такси уже стояло в их сумрачном, холодным ветром заметаемом переулке, соседка споро помогала матери выносить из дома нехитрый дачный скарб, а Илье мимоходом велели разыскать и доставить в машину неожиданно улепетнувшую из сада сестренку. Он послушно отправился выполнять поручение, но поддался мгновенному искусу сбегать попрощаться с Настасьей Марковной – и припустил бегом, зорко оглядываясь на ходу, не удастся ли по дороге выхватить откуда-нибудь и Анжелу, чтоб потом не тратить время на ее поиски. Сестра все никак не попадала в поле зрения, и с легкой досадой (тоже удумала, егоза: исчезла прямо перед отъездом!) старший брат отбросил мысли о ней, тем более что дом попадьи был уже в двух шагах. Хозяйка как раз появилась из глубины своего сада с полным ведром крупных, белых с легкой зеленцой яблок.
- Уезжаете? – сразу догадалась она. – Возьми вот яблок с собой... Сейчас я тебе авоську...
Его вдруг поразило это слово – только сейчас додумался до его простого и веселого происхождения: оказалось детищем беспечного, но дальновидного русского «авося»; и правда – тонкая сеточка в сложенном виде почти не занимает места – нигде! – а человеку придает уверенности: авось, прибыток какой случится, будет, куда положить.
- Спасибо, не надо, – одними глазами улыбнувшись, ответил Илья, – у нас своих... – он неопределенно махнул рукой у горла.
На самом деле он именно эти яблоки не любил: знаменитый «белый налив» никуда нельзя с собой взять, потому что привезешь – в неаппетитных коричневых пятнах и глубоких вмятинах: слишком тонкая у этих яблок кожица, слишком рыхлая белесая мякоть, похожая на внутренность свежего снеговика... Их можно есть только сразу, с ветки, упиваясь прозрачным кисловатым соком, – одно за другим. Он протянул было руку к ведру, но отдернул – не маленький яблочками лакомиться! – и сдержанно сказал:
- Я проститься пришел, – хотел было добавить: «И спросить, про какие еще убийства вы тогда говорили», но слова, столпившиеся во рту, вытолкнуть наружу не удалось.
Настасья Марковна, вытирая о совершенно грязный передник натруженные руки, чем должна была их, как будто, не отчистить, а еще больше запачкать, сама приблизилась к юноше и встала, как давеча, прямо перед ним. Ростом они теперь были вровень, почти что бровью в бровь.
- Я все думала, говорить или нет, но пришла к выводу: надо. Потому что тебе самому теперь может грозить опасность, и, какой бы она ни казалась ужасной, лучше ее знать в лицо, – твердо и глухо произнесла она и предложила чуть мягче: – Ты сядь.
- Мне некогда, – малодушно буркнул он. – Там такси уже стоит, а мне еще Анжелку искать... Я на секундочку, только «до свиданья» сказать...
«До какого еще свиданья? – проплыла угрюмая мысль. – Не захочет больше мама приезжать сюда... после такого...».
- Сядь, – жестко велела попадья. – Не будь страусом. Ты обязан.
Вот и выслушал на свою голову.
...Сестры нигде не было, такси без дела стояло в переулке, да и на самой улице стыла подозрительная тишина: понятно, что почти все дачники уже разъехались, – но и местных, постоянно мелькавших на дороге детей, вечно чертивших «классики», гонявших латанный-перелатанный мяч, упруго стукавших воланами по легким бадминтонным ракеткам, – всех как слизало... Будто они, стеклянно глядя перед собой, дружно ушли куда-то, уведенные злокозненным Крысоловом, и даже смутная жуть поднималась по этому поводу из глубины души. Загорелый шофер с грубым лицом и в набекрень сдвинутой кепке равнодушно курил, облокотившись на груженый автомобиль и засунув руки в карманы, – курил некрасиво, не вынимая папиросы изо рта, а лишь слюняво гоняя ее от угла к углу своего широко прорезанного, беспрерывно дымящегося рта. Мать в голубом платье, со взбитыми в пену, как встарь, волосами, перехваченными широкой шелковой лентой, нервно бегала вокруг, все порываясь нагнуться, заглянуть в окно машины и разобрать цифры на неумолимо щелкавшем счетчике.
- Ты что, до сих пор не нашел ее?! – увидев свернувшего в переулок сына, визгливо крикнула она. – Ты о чем думаешь? – и понизила голос: – Тут столько натикает, что вовек не расплатимся...
Илья открыл было рот, но в этот момент издалека послышался трагический коровий стон.
- Телится, – сразу догадалась мать. – Теперь понятно. Все побежали смотреть, и Анжела тоже. Быстро веди ее сюда. Времени в обрез, да и вообще незачем ребенку такое видеть.
Юноша выскочил на дорогу и прислушался: мычание, больше похожее на надрывный вой, ясно доносилось издалека, со стороны железнодорожного вала, висело над поселком, как зычный бас паровозного гудка, тревожно созывающий разбредшихся по платформе пассажиров. Но паровоз кричит задорно и настойчиво, а все крепчавший коровий рев нес в себе раздирающую боль и трагедию, безнадежно звал давно опоздавшую помощь... Илья остановился в самом настоящем испуге, затмившем собой все его сегодняшние переживания: «Что это с ней? – недоумевал он. – Правда, что ли, роды какие-нибудь трудные? Куда ветеринар смотрит? Или, может, режут ее там, и все не дорежут никак, садисты?..». В любом случае, малолетнюю девочку следовало немедленно оттуда уводить. Он прибавил шагу, безошибочно определяя направление на слух, свернул в другой, столь же тенистый но не такой узкий переулок, прошел по нему до конца, уперся в негустую рощицу вдоль железной дороги, куда тоже смотрели чужие заборы, рысью побежал вдоль них, пытливо вглядываясь в пустые участки... Опять поворот – надсадное мычание уже оглушало – и парень уперся взглядом в небольшую, но плотную кучку детей и подростков, обнаруживших что-то занимательное прямо на улице, у невысокой редкозубой ограды чьего-то теплого зимнего дома. Над пестрым кольцом детей возвышалась огромная корявая рябина, размером почти со взрослую липу, такая же кряжистая и многорукая, будто индийское женское божество, – и вся усыпанная мощными коралловыми гроздьями горьких, ни на что путное не годных ягод. Илья еще не разобрался издалека, что там дети с таким упоением разглядывают, не мог взять толк, почему – и где – надрывается несчастная корова – зато увидел знакомое клетчатое платьице, уже городское, чтоб с новыми ботиночками носить, не с раздолбанными дачными сандалями...
- Анжела! – не приближаясь, сурово позвал он. – Домой! Уезжаем!
Но упрямая девочка не обернулась – и пришлось самому идти к ней, чтобы взять за непослушную руку...
Ствол древней рябины сросся со столь же старым, зеленоватым от ветхости забором, вобрал его в себя, и уже непонятно было, на какой стороне, внешней или внутренней, растет могучее дерево. На одной из его толстых, но гибких ветвей, свешивавшихся на улицу, – удобно, прямо над проточной канавой – подвешена была обезглавленная телячья туша. Два хмурых пьяных мужика – вероятно, хозяин мяса и его на подмогу вызванный сосед – как раз выворотили в канаву лишние внутренности и принялись крючьями кое-как обдирать черно-белую, пунцовыми пятнами уляпанную шкуру; во дворе, в нескольких мятых и битых эмалированных тазах алели не забракованные потроха, скорей всего, предназначавшиеся для пирога и супа: легкие, печень и почки. Голова с маленькими, такими умилительными у живых телят рожками, в отдельном тазу торжественно возвышалась на столе – Илье показалось, что вместо глаз у нее вставлены наизнанку вывернутые раковины балтийских устриц... Зрелище было явно не для слабонервных – но человек пятнадцать местных детей, сбежавшихся с близлежащих домов и переулков, с деловитым спокойствием наблюдали за разделкой туши, не усматривая в этом языческом действе ничего особенно страшного, испытывая лишь здоровое любопытство будущих таких же рачительных и ловких хозяев...
Но не это сразило застывшего на месте Илью.
Прямо напротив места кровавого жертвоприношения, чуть в глубине двора, стоял низкий бревенчатый хлев с прорубленным крошечным окошком без стекол – и в него, вопреки невозможности, втиснута была такая же черно-белая, как и в тазу, только большая, живая коровья морда с перекошенным серо-сиреневым ртом, исторгавшим дикий, страстный, полный запредельной муки уже не животный, а, наоборот, совершенно женский вопль. Налитые кровью выкатившиеся глаза матери походили на огромные, мягкие розовые яблоки, невидящие, готовые лопнуть – но не видеть, как терзают ее ребенка; не обращая внимания на то, что в квадрат окошка не пролезала целиком даже ее голова, корова силилась протолкнуться через него всем телом – и заколоть рогами, в землю втоптать проклятого душегуба – которому она так доверяла: ведь именно он каждый день провожал ее с пастухом на пастбище, приносил ведро со вкусной холодной водой, выносил навоз на большой лопате, ободряюще хлопал по теплому боку, и даже сынка ее целовал, наверно, в пахучий пушистый нос... Ровно никто – ни дети, ни взрослые – не обращал на корову внимания: все были поглощены внимательным созерцанием сложного процесса обдирки, обменивались короткими деловыми замечаниями – просто потому, что все было естественно, нормально, как всегда, – но все же не каждый день, поэтому интересно.
Никто? Нет. Один светлый взгляд был устремлен именно в ту сторону. Маленькая девочка с льняными волосами, в которые была туго вплетена ярко-синяя шелковая лента, в нарядном клетчатом платьице и хорошеньких коричневых ботинках совсем не интересовалась сырьем для отбивных, все еще сотрясавшимся в воздухе на фоне красивых оранжевых гроздьев. Она пристально, с пугающим вожделением смотрела туда, где в грубо прорубленном в неструганых бревнах отверстии корова уже не ревела и не выла, а хрипела, роняя на землю хлопья ржавой пены. Анжела туманно улыбалась, будто встречая рассвет, и, казалось, готова была вслух попросить страдалицу: «Ну, что же ты?! Ну, давай, давай еще немножко...». Безграничное, почти физическое наслаждение разливалось по лицу ребенка и стало бы очевидным для каждого, кто озаботился бы взглянуть на нее, оторвав взгляд от основного представления.
Растолкав не успевших еще поредеть зрителей, Илья продрался к сестре и грубо схватил ее за предплечье:
- Ты что тут делаешь?! – рявкнул он, ослепленный ужасом и гневом. – Ты на что тут буркалы выкатила?! Пошла отсюда! Быстро, я сказал!
Девочка спохватилась мгновенно – и юноша увидел обращенное к нему невинное ангельское личико с домиком русых бровок и обиженно припухшими губками:
- Ну, Илья-а... Ну, еще чуть-чу-уть... – заученно нудила она, когда, не слушая, – да и пути не видя! – брат рывками выдергивал ее из толпы и широким шагом волок прочь по дороге, не задумываясь над тем, что она не успевает перебирать ногами и то ли бежит вприпрыжку, то ли уж почти волочится по острым гравиевым осколкам.
- Ты... Ты... – повторял он изредка – и сразу замолкал, потому что иных слов для сестры, кроме самых черных, какие когда-либо слышал, у него теперь не было.
В их переулке мать метнулась навстречу:
- Ты что?!! Она ведь малышка!!! Ты с ума сошел – так ее тащить!!! У нее же все коленки!!! Чулочки!!! Туфельки!!!
- Мама-а, он мне ру... рук... ру-уку вы-ыверну-ул!!! – икая от рыданий, девочка бросилась к матери на живот.
Анна подняла на сына негодующий взгляд – но Илья встал перед ней, засунув руки в карманы и страшно играя желваками челюстей; взгляд был темен и тяжел, юноша едва переводил дыхание:
- Я на электричке, – наконец, выдавил он. – Там тебе соседи помогут. А у меня тут еще...
Не договорив, он неуклюже повернулся спиной и размашисто зашагал прочь.
- Какая муха тебя укусила?! – беспомощно крикнула ему вслед мать.
Илья шел, не разбирая дороги, наступая прямо в свежие круглые лужи, то и дело зажмуривая в мýке глаза, но не останавливаясь; по лицу иногда хлестали мокрые ледяные ветки – он не нагибал головы. И снова трухлявый серый забор, косая занозистая калиточка...
Настасья Марковна, устало всходившая на крыльцо с полным ведром все тех же тонкокожих белых яблок, без улыбки обернулась к нему.
- Вы были правы, – сухо сглотнув, произнес Илья. – Все так и есть. Я теперь точно знаю.
...Где-то в Ленинграде волновалась мама. Мама, приехавшая в пустые пыльные комнаты, где больше не было ни мужа, ни маленького сына. Мама, остро нуждавшаяся в поддержке старшего, – обиженная, недоумевающая. А он сидел, раздвинув локти и запустив пальцы в волосы, за покрытым штопаной скатертью столом в большом, унылом, разваливающемся доме с чужой женщиной, про которую знал, что видит ее последний раз в жизни. И что никогда не забудет.
Илья молчал, неотрывно уставившись в мятый бок старинного жестяного чайника. В те минуты юноша меньше всего думал о том, как выглядит со стороны, а если б задался этим вопросом или имел возможность увидеть свое отражение, то удивился бы: как раз теперь его давнишняя мечта воплотилась в жизнь: абсолютно взрослое, за какой-то час будто огрубевшее лицо, глубокий, умный и скорбный взгляд – даже волосы, разметенные острым ветром и холодной листовой, лежали подобающе героически, как у молодогвардейца на допросе. И именно сейчас ему было на все это наплевать.
- Все так сложно... – наконец, глухо произнес он. – Сколько ума... Сколько изобретательности надо иметь, чтобы задумать такое и – шаг за шагом – выполнить, не ошибиться... Не понимаю. Никогда не пойму.
Настасья Марковна покачала головой:
- Ничего подобного. Не было никаких казуистических планов – как раз наоборот: она делала только то, что требовалось в конкретный момент, ничего больше. А ее умозаключения не шли вперед дальше, чем на две ступени, – как и полагается у шестилетнего ребенка: появился маленький братик – и мама ее разлюбила, значит, нужно, чтобы братик исчез, вот и все. Ну, а насчет крысиного яда мать, наверное, не раз ее предостерегала раньше на даче, небось, сама же еще попросила присмотреть, чтоб, в случае чего, братец его в рот не сунул, – да мало ли... Ты при этом мог и не присутствовать – а малышка мотала себе на ус и мотала... А будет ли кому-то впоследствии больно – какая разница, главное, что мама теперь полюбит свою доченьку «обратно»...
«Как бы не так... – Илья вспомнил недавно пойманный алчный, как на мороженое в парке отдыха, сестренкин взгляд и содрогнулся. – Вот уж тут она точно ошибается...».
- Подождите! – ему вдруг захотелось поймать попадью на какой-нибудь несостыковке, чтобы, может быть, ухватиться, потянуть, размотать все назад, стряхнуть наваждение, вздохнуть легко. – Маленькие дети еще не понимают, что такое смерть! И как можно сделать так, чтобы кого-то «не стало» совсем! Для этого нужно было увидеть, как человек умер, хотя бы на похороны чьи-то сходить, а ее ведь никогда не брали с собой! И ничего не объясняли! Даже когда недавно наша бабушка умерла, сказали, что она уехала в деревню! И Ан... она, в общем... через неделю ее забыла и больше не вспоминала никогда!
Женщина села рядом, сделала смутное движение рукой, и молодой человек отчего-то сразу понял, что она дернулась погладить его по голове, по холке – но не решилась, испугавшись его всегдашней ершистости, заставляющей отвергать любую ласку... А Илье так вдруг этого захотелось! Простого домашнего жеста, и – маленьким побыть. Только сейчас, в последний раз – и повзрослеть навсегда. Но не скажешь же: «Погладьте меня, пожалуйста!». Или скажешь? А, какая разница! Илья взял ее большую жесткую руку и положил к себе на голову, подставляясь, как пес:
- Вот так хорошо.
Настасья Марковна с мягкой силой провела ему по волосам – раз, другой – и действительно стало легче, теплее.
- Они понимают, к сожалению... Или к счастью... Это заложено с рожденья... Никто никогда этому специально не учит детей, а они знают, – она чуть заметно улыбнулась. – Вот послушай. Когда моей дочке было два с половиной годика, она сильно заболела, жар появился, кашляла сильно... Ну, а лекарств особых не было тогда, конечно... Я ее напоила чаем с малиной, натерла грудку скипидаром – тогда все так детей лечили... И закутала, как могла: пусть, думаю, хорошенько прогреется... Но, сердце, видно, стало не выдерживать такого жара, и девочке моей стало плохо. И знаешь, что она мне сказала? Она рано начала говорить и сразу – целыми предложениями... Умненькая была... Так вот, она сказала: «Мамочка, я умираю...». Тогда я ее сразу развернула! А ты говоришь...
- И она не умерла? – глупо спросил пораженный Илья.
- Умерла. В другой раз. Я рассказывала.
Попадья помолчала не больше минуты, не дав разрастись неловкой тишине.
- Так вот, – заговорила снова, тихо и почти спокойно, как сказку рассказывала. – А потом взрослые сами подтолкнули твою сестру на дальнейшее – ведь никто же не принимает малолетних детей в расчет, да и не ждут от них ничего плохого... Наверняка же родители прямо при ней мечтали, как родят другого!
- Точно. Мечтали, – вынужден был признать Илья. – Верней, дядя Володя мечтал, а мама как бы нехотя соглашалась. Тогда сестра еще спросила – обязательно ли нужен муж, чтобы родился сынок... И мама, конечно, ответила, что обязательно... О, Господи, Господи! – он застонал, протяжно, беспомощно...
- «Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди...», – вдруг протянула нараспев Настасья Марковна и, увидев, что юноша вопросительно встрепенулся, тряхнула головой: – Да нет, ничего особенного. Стихи незаконно репрессированного. Да, так вот, дальше. Скажи: когда приключилось это первое, действительно случайное недоразумение с таблетками, еще «скорая» приезжала, – была там сестренка? – и, на его мрачный кивок: – Ну, и все. С этой минуты твой отчим был обречен: ведь девочка искренне считала, что не будет мужа у мамы – значит, не будет и нового братика, который опять отберет мамину любовь. А дождаться нужного момента и подменить таблетки, когда тебя никто ни в чем не подозревает... И потом, когда человек их принял, выбросить пузырек подальше... Скажем, в уборную, где тот сразу утонул… Это даже не дело техники... Что касается маминой подруги...
Илья поник еще больше:
- Да я и сам понимаю. Даже лучше вас. Потому что, когда еще дядя Володя жив был, мы с ним вместе видели, как Анж... она, в общем... чуть эту вазу на землю не столкнула. Нечаянно... Но при этом сама чуть с балкона не упала и запомнила, конечно, что та неустойчивая... А тетя Валя так «удачно» лежала... Как специально. И ведь не первый же раз! То есть, Ан... сестра… и раньше присмотреться могла, примериться... И тут подходящий момент – мама болтает с молочницей... Да. Да. Так и было.
- Помнишь, ты рассказывал, что подруга маму утешала, мужа какого-нибудь подыскать обещала? – Быстро спросила попадья. – И вполне в ее силах было свое обещание выполнить. Да? Вот то-то и оно. И выходило, что сестра твоя провернула все напрасно: скоро появится еще один муж, а потом и новый младенец-соперник... Так что ваза-то была, скорей всего, чем-то вроде акта отчаянья – но не таким уж трудным, потому что руку она себе уже, можно сказать, набила. Люди так легко «устранялись»... И вот что, Илья. Постарайся принять это спокой... Ну, просто принять... Если она поймет, что ты догадался, – и тебя устранит. Человек хрупок и уязвим. Мы даже не представляем, сколько смертей стоит вокруг наизготовку. И, чтобы нас убить, достаточно просто активировать одну из них... И притом, дитятко вошло во вкус.
Илья вздрогнул:
- А кот?! Кота-то моего она зачем отравила? Он-то ведь ей жить не мешал!
- На нем она потренировалась, – открыто усмехнулась попадья. – Она тоже умная девочка...
- Но... ведь вы же понимаете, что бесполезно говорить об этом матери?! – спохватился Илья. – Господи, что же делать?! Господи, Господи, Господи...
Настасья Марковна медленно наклонила голову и еще медленней сказала:
- Ну, вот ты сам и ответил. Оставь на... Его волю...
- Я больше дома жить не стану, – решил он. – Я... никогда не смогу ее видеть. Я уйду в ремесленное и добьюсь общежития. У меня есть цель в жизни... Может быть, даже и талант, да... Мое предназначение – стать художником, и я...
Она сдвинула брови:
- Да откуда ты знаешь, какое оно на самом деле!.. Ты просто хочешь, чтобы было таким. Но профессия – не предназначение... Это... Ну, надо же чем-то заниматься, что не противно... А назначением может оказаться всего лишь маленький на вид поступок. Один за всю жизнь. Выполнишь его – живи дальше, тебе и поблажки еще дадут. А не выполнишь – до свидания. То есть, прощай. Потому что другого смысла здесь околачиваться у тебя уже не появится... Впрочем, иногда дают и второй шанс. Редко. Хотя тебе, по-моему, беспокоиться незачем: ты-то свой экзамен сдал.
Даже сквозь всю грузно навалившуюся непреодолимую печаль, перед на глазах развертывавшейся перед ним неведомой бездной, Илья сумел напоследок удивиться:
- Я? Уже выполнил свое предназначение? Это вы хотите сказать?
Светлые глаза смотрели прямо и грустно, меж бровей словно застыла отвесная игла:
- Ты окрестил братика. Ты сделал саму смерть перед ним бессильной. Ты подарил ему бесконечность, хотя мог отнять, – краешки ее губ чуть приподнялись: – Теперь тебе, наверное, разрешат побыть и художником тоже...
Илья задержался на даче. Он забрал документы из новой школы прямо перед первым сентября и успел записаться в техническую, где готовили маляров-штукатуров; проучился там год, питаясь по бесплатным талонам, пристроившись в рабочее общежитие и получая маленькую стипендию. Изредка навещал маму, – но только на работе, родной дом стал для него навсегда запретным. На тревожные материнские вопросы отмалчивался, глядя в пол, сестру больше никогда видеть не пожелал. На следующий год он подготовился к поступлению в Ленинградское художественное училище.
Глава XI
Вот договор твой...
Он отчетливо видел обшарпанные казенные стулья в закутке у зала суда, безнадежный, как разбавленное до неприличия молоко, свет длинных гудящих ламп под испещренным трещинами и пятнами потолком, осунувшееся, словно после гриппа, лицо своей без пяти минут бывшей жены.
- Как ты думаешь, это нормально? – тусклым голосом спрашивала Оксана, глядя себе под ноги, на истертый и местами вздувшийся голубовато-гнусный линолеум.
Алексей отстраненно пожал плечами. Они ожидали вызова на последнее – и решающее – заседание своего бракоразводного процесса, и ему хотелось только одного: скорей бы их незадавшийся брак объявили расторгнутым, прекратили бы, наконец, это узаконенное издевательство над давно все решившими, окончательно чужими друг другу людьми. Их мурыжили уже больше полугода лишь потому, что они неосмотрительно обзавелись потомством, и теперь не могли развестись быстро и просто, в районном Загсе, избежав возмутительного топтания чиновников в своих и так заплеванных душах. Судья, как назло, попалась им из подлой породы чувствительных и неравнодушных, готовых костьми лечь за то, чтоб восстановить и взлелеять чужую разваливающуюся семью, не оставить без отца и кормильца несмышленого малого дитятю... Потому и одаривала она неблагодарных супругов, все никак не дававших ей возможности совершить очередное доброе дело, бесконечными сроками для грезившегося ей, вероятно, в стародевичьих мечтах «примирения». «Поймите, я все равно с ним жить не буду!» – трагически взывала к ней Оксана; «Послушайте, прекратите нас терзать, это бесполезно!» – вторил ей, едва ли не руки заламывая, Алексей. Но с праведным садизмом благородная женщина неумолимо выполняла свой гражданский долг: «Я хочу дать еще один шанс – не вам, так хотя бы вашей дочери!». Однако теперь настал тот железный срок, за которым кончалась ее власть измываться над теряющей терпение истицей и утратившим всякую виноватость ответчиком, и они с нетерпением ожидали окончания унизительных и зряшных мытарств, невольно слушая звонкий голос милосердной судьи из-за закрытой двери, за которой она уже третий час с самыми лучшими намерениями пытала очередную жаждущую вечной разлуки пару.
- Тебе вообще наплевать на ребенка? – с сухим звоном близкой истерики в голосе напирала Оксана.
Он взбесился:
- Что ты хочешь услышать?! «Наша двухлетняя дочь – ненормальная, пристает к трехлетним мальчикам с развратными целями, и ее нужно лечить в психушке»? Или просто бросаешь камень в мой огород, имея в виду мою дурную наследственность по этой части?
Только что его «все еще жена» рассказала странную и трогательную историю о том, как в промежутке между очередными заседаниями неуемного суда поехала с дочкой дней на десять погостить к институтской подруге на дачу – а едва научившаяся более или менее твердо стоять на ногах малявка взяла и влюбилась там с первого взгляда в соседского мальчишку лет около трех. «И, главное, представляешь – эдакий отвратительный немецкий колбасник... Светло-рыжий, ежиком стриженный, весь в веснушках, глаза навыкате... Не то Мюллер, не то Штольц какой-то... И ведь что удивительно – она откуда-то знает, что немец – это плохо, его нельзя любить. Генетическая память, что ли? Ведь оба же деда воевали! Так вот, она топчется в нашем переулочке под калиткой другого мальчишки, того же возраста, но русского... На ее месте я бы в него и влюбилась: он бойкий такой, плотненький, уже сам за девочками ухаживает, мышь пластмассовую ей сразу подарил, кота злющего отогнал... Но Лёська стоит у его дома, зовет: «Данька!» – а сама в другую сторону косит: видит ли ненаглядный? ревнует ли? И, если тот... фашист малолетний... показывается, – она краснеет, как вареная морковка! И жалко ее, и страшно – ведь не положено в таком возрасте...».
- Ваше женское коварство работает в любом возрасте, – грубо бросил он. – У нас, мужиков, по крайней мере, все ясно: куда захотел, туда и сунул. А вы... «Дам одному, чтоб тому, который мне нужен, тоже захотелось»... Бедный Борман.
- Мюллер.
- Один хрен! Да выпустят их когда-нибудь из этого зала или нет?! Нам что, до ночи тут торчать, чтоб я, наконец, мог от тебя избавиться?! – Алексей взвился с хромоногого стула и принялся мерить аршинными шагами – четыре туда и столько же обратно – совсем для того не предназначенный аппендикс судебного коридора...
Да, то заседание действительно оказалось последним. Искренне скорбевшая о порушенной ячейке советского общества судья и два пузатых, несколько одуревших от ее горячности заседателя в ярко-синих спортивных костюмах вымучили заветное: «Ваш брак расторгается» – и Алексей так и не узнал никогда, действительно ли такой же влюбчивой, как он сам, выросла его дочка Лёся...
Странно, что он вспомнил об этом сейчас, только что проснувшись, даже глаз еще не раскрыв, в этом проклятом, каком-то насильствующем доме... Но все! Больше его ничто здесь не удержит. Повесть закончена, и даже подписан договор с издательством – это Алечка провернула, спасибо ей... Вчера... или не вчера... Ну, ладно, не будем заострять – недавно... Вошла сияющая, неуловимо нарядная в своем мнимо скромном темно-сером, отделанным кипенно-белым кружевом платье, с таинственным видом, словно готовя праздничный сюрприз для мальчишки-шалуна:
- У меня для тебя кое-что есть... – и с легким торжеством плюхнула прямо на тумбочку несколько листков бумаги, предусмотрительно положенных на твердую папку.
Руки у него тряслись после очередного стрясшегося накануне загула, в голове не утихало далекое бренчание, нестерпимо хотелось пить – но Алексей пересилил себя, демонстрируя несуществующую заинтересованность. Он уже знал, что печатных строчек не разберет – все они слились для него в грязные серые пятна на гербовой, кажется, бумаге – но признаться в этом было равносильно какой-то самой последней трагедии, и потому он старательно изобразил углубленное чтение, даже головой кивал для убедительности. «Хорошо, что ей можно полностью доверять... – прошмыгнула слабая мысль. – Иначе так ведь что угодно можно подсунуть...».
- Ну? Прочел? – с радостным предвкушением похвалы и сопутствующей ласки Аля придвинулась к нему, обдав свежестью, – как окно в весенний сад открыла. – Ты не рад, что я это устроила? Почему не подписываешь?
- Конечно... Здорово... – забормотал он. – Спасибо тебе... огромное... Я просто не пойму, где тут...
Женщина коротко засмеялась:
- Да вот же! – вложив в его покорную руку «паркер», она бережно подвела ее к нужному месту: – Вот здесь пишешь полностью фамилию, имя и отчество, здесь расписываешься. А потом – на следующих листах – то же самое. И все.
Он слегка успокоился: собственноручно выведенные крупные буквы хотя и колебались перед ним в преувеличенно прозрачном, будто воздух над костром, мареве, но были почти различимы. Но должен же он был узнать, что подписывал, пусть и задним числом!
- Ты прочти мне сама... Вслух... Я хочу еще раз... Вникнуть в подробности... – вернув Але бумаги, обессиленно попросил Алексей.
- Конечно, – и ровным голосом она зачитала замечательный договор с известным издательством-гигантом о том, что оно обязуется выпустить его повесть отдельной книгой в твердом переплете, распространить немалый тираж, выплатить достойный гонорар и еще много чего хорошего ему в этой жизни сделать...
Художник откинулся на подушку. На глазах выступали сентиментальные слезы, сердце сладко стучало: главное он осилил, остальное не так уж важно...
А ночью Алексею стало плохо – так плохо, как никогда в жизни. Беспощадно поднималась изнутри и фонтаном выплескивалась густая рыжая рвота; словно черные шторки то и дело задергивались на глазах – и он летел в рыхлую враждебную пустоту, ударялся о невидимую упругость, протяжно стонал и хрипел, прозревая, – но тут все начиналось по-новой... И опять... «Нужно «скорую», – доносился, как из тоннеля, перепуганный Алин голос. – Мне одной не справиться!». Мелькали в полутьме незнакомые мужские лица, твердые руки бесцеремонно подхватывали его и тащили, гремело железо, он катился, давясь и сотрясаясь, ногами вперед к сверкающей красно-белой машине, стоявшей в их переулке, – как тогда... и тогда... и тогда... О, Господи! Да, да, как большая птица...
И в смертном ужасе больной открыл глаза.
Но окончательно испугался не сразу, потому что смутно ждал проплаченной больничной казенщины, стандартной отдельной палаты с нейтрально бежевыми стенами, на одной из которых, в качестве некой новомодной дани иллюзорной домашности, обязательно оскорбляет глаз художника непритязательный пейзажик в пастельных тонах. Его обступала мягкая коричневатая полутьма, потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы проморгаться, вглядеться... – и по сердцу прошла короткая мучительная судорога, словно оно имело мотыльковые крылья, вдруг беспорядочно затрепетавшие. Кровать стояла прямо у стены – но, Боже, что это была за стена! Выкрашенная до половины бурой, лохмотьями облезающей краской, а сверху как бы оштукатуренная, но покрытая сырыми желто-серыми разводами и глубокими трещинами, похожими на голые ветки в окне! Ища источник света, Алексей чуть повернул голову, смутно осознав мимоходом, что подушки под ней, кажется, и вовсе нет, и различил в полумраке узкий затемненный прямоугольник под осыпающимся потолком... Боковым зрением он заметил, что в комнате что-то есть, круче вывернул шею – и наткнулся взглядом еще на одну, почти вплотную стоявшую койку, на которой кто-то безмолвно и неподвижно лежал – без подушки и белья, на толстой рыжей клеенке, под тонким вытертым одеялом... Противоположная стена отстояла далеко, и сам собой напросился вывод, что комната очень большая, и таких жутких коек с больными в ней, наверное, очень много... В воздухе стоял отчетливый смрад городской помойки, или питерских бомжей, или парижских клошаров... Страшная, не больничная, а могильная тишина резала уши. Сердце превратилось в ледяной комок, и смертельный холод быстро разрастался внутри, словно Алексей хлебнул жидкого азота.
«Сейчас начнется паническая атака... Сейчас... Сейчас...» – подумал он и вдруг с легким изумлением ощутил, что ждет этой атаки почти с надеждой: ведь она все равно не так ужасна, как та неумолимая реальность, что предстала перед глазами… Помощи ждать было неоткуда, и не оставалось ничего иного, кроме как последним усилием взять себя в руки. Это удалось. Почти... «Спокойно, – плотно закрыв глаза, медленно уговаривал себя Алексей. – Здесь страшно, но все понятно... Абсолютно понятно... Просто, значит, это правда – все, что рассказывают про... про эту страну... там, в свободном мире... Что есть только Москва и Питер, и то для богатых, а простые люди – обычный мусор... И бесплатные больницы – вот такие... Да еще в провинции – ведь отвезли-то, наверное, в этот, как его... Ломоносов? А Аля... она просто растерялась, когда мне стало плохо, не сообразила, что нужно платных врачей вызывать... Она и сама не знала, что тут такое, – откуда! – она же из «чистой публики»... Этих несчастных жалко, конечно, но я-то не рядовой гражданин... Сейчас пойду и позову – должны же все-таки дежурить какие-нибудь медики, хоть санитарки... Объясню, кто я, потребую позвонить Але... Я же, можно сказать, «celebrity»! И уже через час... Ну, хорошо – через два, три... Буду в нормальной клинике... Или лучше – дома... В Петербурге... Сразу заказываю билет – и в Париж, Марсель... Мой родной, любимый, выстраданный дом, а в окне плещется зеленое Средиземное море... Надежный прохладный камень перил... А это все – к чертовой матери... Как страшный сон... И Алю-дуру, и книгу идиотскую, и местные проекты... На хер... Никогда сюда не вернусь... Никогда... Хватит... Поиграл в ностальгию... На фиг такая Родина, где элементарно опасно для жизни! Шаг вправо, шаг влево – расстрел... Да, да, расстрел... Интересно, цел ли тот полигон... Нет, не хочу ничего знать – ноги бы унести – и все»...
Алексей собрал достаточно сил, чтобы встать, сделал резкое движение – и... ничего не получилось. Что-то крепко держало его – ноги, кисти, пояс, плечи... Он недоуменно рванулся: ремни! Широкие ремни поперек всего туловища! Да что тут происходит-то, в конце концов?!! Они что, рехнулись все?!! В остервенении пленник принялся извиваться по ледяной оранжевой клеенке без простыни, остро напомнившей Боткинские бараки шестидесятых, куда парнишкой загремел с гепатитом, – но там было чисто, светло, персонал заботливый, в палатах травили анекдоты! Железная койка, как расстроенная скрипка, визжала и скрипела ржавой панцирной сеткой, но ослабить унизительные путы не удалось ни на миллиметр.
- Эй, кто-нибудь! – воззвал в пустоту побежденный Щеглов. – Какого дьявола! Вы не имеете права!!! Да отпустите же меня, наконец, я – гражданин Франции! Я буду жаловаться!!! Я требую консула, в конце концов!
В ответ откуда-то из центра зала донесся глухой голос кого-то из таких же обездвиженных узников:
- Хорош выступать, мужик. Бесполезняк полный. Карачун пришел. Уж лучше б сразу прикончили...
- Вы знаете, где мы? – быстро повернул голову Алексей.
- В жопе, – пришел лаконичный ответ из мрака.
Щеглов не успел отреагировать, когда полуоблупленная дверь беззвучно открылась, пропуская бесполую фигуру в зеленом медицинском – и до глаз натянутой одноразовой маске. Он решил не обострять отношений с самого начала, дабы не вызвать озлобленность в пусть временно – но власть имущем человеке, и обратился к нему с несколько преувеличенным – и весьма смешным в данной из ряда вон выходящей ситуации – дружелюбием:
- Извините, пожалуйста, похоже, произошло печальное недоразумение... Я французский подданный и лечиться дальше хотел бы дома. Спасибо, что оказали мне первую помощь в этой больнице, но...
Не удостоив пациента хотя бы минимальным вниманием, будто он все еще спал, существо меланхолично толкнуло дверь плечом, направляясь обратно в коридор, и равнодушно распорядилось на ходу голосом то ли мужика-евнуха, то ли бабы-пьяницы:
- Люсь, пометь там: семнадцатый права качает и... – оно мельком обернулось и остро глянуло в глубь палаты, – и двадцать четвертый.
- Ну, все... – раздался все тот же, но на этот раз исполненный горькой обреченности голос сотоварища. – Сейчас начнется...
Уточнить, что именно, Алексею не пришлось, потому что дверь распахнулась вновь, жестко ударившись о стену, и спорым уверенным шагом вошли два плечистых парня. Даже сквозь всю алогичность положения в нем мелькнуло несвоевременное возмущение художественной дисгармонией: на одном из медбратьев были темно-синие хирургические штаны и красивая бирюзовая рубаха, а у второго цвета располагались точно наоборот, словно ребята, переодеваясь вместе в начале смены, перепутали части форменных костюмов...
- Сначала двадцать четвертый, – деловито буркнул один, и они миновали застывшего Щеглова.
- Сволочи! Уроды! – тотчас раздался знакомый, но уже рыдающий голос. – Креста на вас нет! Сколько же вам платить должны... за такое... что вы образ человеческий утратили!!! Нате, нате, подавитесь!!! Я ведь знаю, что вам бесполезно сопротивля... вля... ля... – слова потонули в сиплом бульканье и отрывистых фразах четко делавших свое дело братьев милосердия: «Давай-ка повернем его, а то блевать будет – задохнется...»; «Руку ему согни, видишь – кровит...»; «Туже затягивай...»; «Ишь, обоссался...»; «Да ладно, высохнет...»; «Так, второй у нас – кто?».
Алексей зажмурился. Он понимал внутри себя, что бороться хоть и бессмысленно – а необходимо, чтоб не утратить последнего самоуважения, – но полная расслабленность воли и мускулов, как средь ночного кошмара, охватила его. Он мог только тупо, как овца на бойне, не мигая и не шевелясь, смотреть на быстрые, невозмутимые приготовления к казни: зеленоватый пластмассовый колпачок снимали с иглы большого и страшного, явно заранее наполненного шприца, затягивали выше локтя бледный, цвета вареной кости в супе, резиновый жгут...
- По-хорошему предупреждаю: не дергайся, – счел нужным предупредить тот, у которого над маской близко сидели два равнодушных свинцовых глаза. – Помочь – не поможет, а себе хуже сделаешь.
- Пожалуйста, не надо... – неожиданно прорезался у Алексея совершенно мальчишечий, будто и не ломавшийся еще голосок. – Не надо, пожалуйста...
- Ну-ну... – добродушно отозвался второй, с глазами, как олово. – Доктор плохого не пропишет... – и на всякий случай крепко придавил больного каменным предплечьем поперек напрягшейся груди.
Декорации снова сменились. Поток приглушенного солнечного света мирно лился в высокие окна их старой комнаты на Петроградке. По выцветшим, довоенным еще обоям, как живые, носились наперегонки светлые пятнышки. На столе в оконном простенке мама старательно наглаживала огромным черным утюгом ярко-синюю блузку сияющего на солнце атласа; иногда она набирала в рот сырой воды из поодаль стоявшего стакана и, надув щеки, громко фыркала водой на глаженье, и тогда из-под тупоносого рыльца старинного чугунного инструмента со всех сторон с шипением вырывались упрямые струйки седоватого пара. Чуть в стороне, за новым канцелярским столом, закатав рукава белоснежной рубашки и не выпуская изо рта хитроумно согнутой под углом чуть тлеющей беломорины, что-то вымерял логарифмической линейкой на расстеленной кальке живой и здоровый дядя Дима. У приподнятых задних ножек венского стула, на котором отчим слегка раскачивался, налегая на стол, как ни в чем не бывало, умывался сытый, гладкий, шерстинка к шерстинке, Барс – и каждое шоколадное пятнышко богатой плюшевой шкуры, сияло, намытое его усердным, колючим, загибавшимся у конца языком...
- Ты пойди, – не отрываясь от дела, мотнула мама прибранной головой на белую, с отливающими лунным камнем стеклянными квадратиками, двустворчатую дверь смежной комнаты, – там Виля пришел, поговорить с тобой о чем-то хочет...
Только что вернувшийся издалека и даже рук еще не помывший Лешка смутно удивился: о чем – и, главное, как – возмечтал побеседовать с ним двухлетний карапуз, но спохватился, что отсутствовал долго, и брат его, верно, успел научиться за это время человеческой речи. Он толкнул податливую дверь и вошел в свою комнату, сразу приветливо предоставившую ему возможность полюбоваться на полностью готовую, хотя и не очень умело написанную картину, сохнущую на мольберте: лежа в пасмурном свете на гнилой соломе, измученный старик в лохмотьях, под которыми угадывалась запекшаяся кровь, кормит сквозь щелястую дверь небольшую белую собаку, и оба они, человек и животное – слегка улыбаются своему мимолетному счастью. «Когда ж я написал-то ее? – изумился юноша, но спохватился: – Ах, да...». Навстречу ему вставал из-за письменного стола веселый молодой человек в чем-то неброско светлом и, улыбаясь, шел навстречу с раскрытыми объятьями. «Что это? Мой брат стал старше меня? Как такое может быть?.. Нет, все в порядке – мне ведь уже за семьдесят... Или... сколько мне?» – и немедленно Лешка увидел в стеклянной дверце книжного шкафа ясное и объемное отражение: высокий и широкоплечий, русоволосый и чернобровый мужчина лет тридцати стремительно шел к другому, очень похожему.
- Виля?.. Вилен?.. – смущенно наведался Алексей.
Гость махнул рукой:
- Какой еще Вилен? Не узнаешь ты меня, что ли, братишка? Я – Иван... Ну, Ваня, если хочешь! Вспомнил, наконец?
- Не забывал, – с облегчением выдохнул старший брат.
Глава XII
Поговори со мною, мама...
- Мы так не договаривались. Мне не хватало только пойти твоей соучастницей по сто второй!
- Что-то слишком бойкая ты за последнее время стала, доченька. Ишь, как на мать огрызаться начала... Но язык-то свой прикуси: так, на минуточку, – все дарственные на счета и недвижимость подписаны на меня, как и завещание на творческое наследие. Никто не удивится: родная кровь. А начнешь особенно возникать – останешься в наших двух комнатах с видом на Большую Пушкарскую...
- Совсем не то ты обещала, мама, когда уговаривала на эту авантюру!
- ...которая, как видишь, с блеском удалась.
- Да, но моими стараниями! Моими! Два года жизни, считай, псу под хвост – пока в доверие втиралась, горбатилась на него за копейки! А уж эти последние три месяца... В постели – так вообще чуть не вытошнило! Я, между прочим, могла его попросту на себе женить, все унаследовать по закону, и никаких тебе дарственных! Пил он всегда как лошадь, а уж галоперидол с аминазином, чтоб ему уж совсем крышу снесло, я бы и без тебя как-нибудь достала!
- Верно, Алечка, верно. Только ты не учла, что у него было завещание на бедную доченьку, которая после его смерти тебя бы пинком под зад на улицу выкинула... Надо же, кто бы мог подумать, что эта корова будет тут через заборы лазать! Видать, узнала как-то, что родитель облагодетельствовать ее задумал. Откуда, интересно...
- Если б я стала его женой, то он бы отменил завещание.
- Может да, а может, нет. Скорей всего, просто кинул бы тебе какую-нибудь кость – эту вот халупу с садом, например, и твой же портрет в обнаженном виде... С тремя головами, как у самки Змея-Горыныча. И, главное, ты никогда бы не нашла такой... м-м... клиники... в какую я его упаковала. Тут осведомленность нужна и связи. А они есть только в том мире, где работаю я: среди психиатров и наркологов. Сорок пять лет медсестрой в «дурке» – это тебе не по клаве маникюром стучать. Ничего бы ты без меня не сделала. Ничегошеньки.
- Допустим. Но и ты – без меня. Я ведь твоя дочь, в конце концов... И, если ты со мной честно не поделишься, как обещала...
- И что ты сделаешь? Напишешь чистосердечное признание, которое облегчает участь? Ну-ну. Скинут тебе за это годик-другой строгого режима. Из пятнадцати.
- Мама, давай не будем ссориться! Я не то сказала... С самого начала... Дело-то уже, в любом случае, сделано. Я только боюсь – вдруг кто-то запомнил номер твоей машины.
- Ну, вот и умничка. Куплю тебе за это платьице в бутике... Шучу... Два. Опять шучу. Чего ты боишься? Ты ведь сама, когда он разок у тебя из-под надзора сбежал, с фонариком туда носилась искать его! Место совершенно глухое – я специально не дала ей свернуть на трассу. Никого там не было, и быть не могло. А уехать я успела раньше, чем полицаи налетели. Да и налетели-то они нескоро. Но теперь нам с тобой, как будто, пора и поторопиться… Так что шевелись давай живее – еще принесет их сюда нелегкая: кто-то ведь мог знать, что убиенная к своему папаше отправилась…
- А представь, если выживет.
- Прекрасно представляю – и тихо радуюсь мораторию на смертную казнь. Но только в том пламени не могло остаться ничего живого. Машина лежала на водительской дверце и полыхала круче костра Жанны Д’Арк. Я тебе рассказывала… У нее, наверно, полный бак был.
- Слушай, мама, а тебе... Елену эту... не жалко? Положим, ты ее близко не видела...
- Да, только жирную задницу, и ту в темноте.
- Ну, зачем ты так? Я ведь с ней разговаривала. Она мне показалась даже милой и такой... несчастной, что ли... У нее ведь ни мужа, ни детей...
- Скажите, какая сентиментальность! У тебя, что ли, они есть? А мне вот, представь, чужую бабу не жалко. Я ее и пальцем, между прочим, не тронула, она сама перевернулась... А вот дочь родную – мне жалко. Мне шестьдесят четыре года стукнуло – рак вырезали, да кто его знает, где и когда метастазы выстрелят... И с чем ты тут без меня останешься? С двумя неоконченными образованиями? Забыла, как я тебе липовые дипломы у метро покупала, чтоб этому придурку предъявить? У настоящих работодателей такое, поди, не прокатит! А куда ты без подлинного документа, кроме как на «подай-убери-напечатай»? Доверчивая, все время ожигающаяся о каких-то сутенеров! Даже платье нормальное купить себе неспособная – вечно в каких-то колхозных шмотках... А чем я тебе могла помочь, на сестринские-то полторы ставки? Даже на квартиру отдельную не заработать, спасибо от бабки твоей площадь осталась! Машине пятнадцать лет, того и гляди, на ходу рассыплется – спасибо, хоть тебе почти новую купили на его подачки! Вот ты хочешь, чтоб я теперь с тобой «честно поделилась» и выпустила – дурищу сорокалетнюю! – в свободное плаванье. А ведь не отдаешь себе отчет, что первый же проходимец обдерет тебя, как липку, и просто выкинет на помойку – а ты и не поймешь ничего! Думаешь, хитрая: старого проститута ловко обработала – типа, Мата Хари? Но ведь каждый твой шаг именно я тебе подробно расписала, каждый жест в тебя вложила, каждое слово! Вот кого мне жалко, если вдруг, не ровен час, околею! И себя – немножко, представь себе! Потому как подыхать на бесплатной больничной койке в коридоре и врагу не пожелаю! И орать на весь дом неделями тоже не хочу, как – помнишь – соседка сверху, у которой рак матки был! Хоть помереть достойно, за собственные денежки... А ты говоришь – «жалко». У пчелки в жопке, у киськи – в письке, у собачки – в срачке!!! Вот где жалко, а у меня его, извини, нету!!! Давно уже…
- Мамочка, не плачь! Все ведь закончилось, теперь будет только хорошо... Мама, ну, что ты, Господи...
- Вот только Его не зови! Нечего: не для нас Он. А для таких, как этот наш... Им Он все дает – за просто так. А нам – дулю под нос. А потом еще не хочет, чтобы мы свое сами брали, без Его участия...
- Ну, не скажи... Если б твоя школьная подруга не была нотариусом – ничего бы у нас не получилось. Подпись человека в таком состоянии никто законно не заверил бы... Подумаешь – три миллиона всего за это взяла. По-божески, можно сказать... Это же для тебя теперь капля в море! Так, может, это Он нам одноклассницу твою и послал, а?
- Дай салфетку, тушь течет... Действительно, что это я сегодня рассопливилась... Это, наверно, следовая реакция... Ну да, конечно... Нет, дочка, – таких Он не посылает. Таких посылает... не Он... Ты чему смеешься?
- Я просто вспомнила, как этот урод первый раз увидел нашего Ромео на верхней площадке... «Милости просим, – говорит, – господин Мефистофель»... Слушай, он ведь, пожалуй, и правда в тот момент подумал, что к нему сам сатана явился!
- Не оставлять же собаку в городе... Но следить надо было лучше... Хотя плевать, ты же их, в конце концов, познакомила – и ничего...
- Ромео – что... По-настоящему страшно мне было три раза – аж ноги подкашивались...
- Дай угадаю... Два я точно знаю: первый – когда он удрал, накачанный нейролептиками и с флягой коньяка в кармане, – да и в той клофелин был; второй – это, конечно, когда ты первый раз сунулась к нему подписывать бумаги, а он отказался... Я бы, наверно, на месте обгадилась: мозги – дело темное; хоть по всем правилам он давно уже никаких букв различать не должен был – да кто ж с уверенностью скажет... Тем более что «Дарственная» и «Завещание» крупно так, черными буквами напечатано... Я за дверью стояла – и то тряслась, как перед наркозом... А третий... Когда он в постель тебя потащил? Да с чего бы – тебе-то! – пугаться? Когда он во двор нагишом среди ночи выскочил? Глупости: ты за конец его – и обратно... Нет, не знаю... Сдаюсь!
- Недавно он принялся своему приятелю названивать, а робот сказал, что номер не существует. Конечно, твоя идея стереть все номера из его телефона... Еще и вставить новую сим-карту с теми же именами, да неправильными цифрами... Это был гениальный ход – но вдруг он заметил бы? Хоть я и переадресовала всех, кто ему звонил, на себя, – а ну, как он сам все-таки до кого-нибудь по памяти дозвонился бы?! Стоит передо мной – лохматый, смердючий, борода желтая, глазами вращает... Телефоном трясет – «Испохабили!» – кричит... И требует немедленно собирать вещи... Уж и не помню, какие кнопки я там тыкала – сама себе позвонила, кажется, лишь бы он длинные гудки услышал: мой-то телефон внизу остался, в нашем с тобой домике... Думаю, сейчас возьмет, 112 наберет – и полиция приедет... Вообще от страха соображать перестала...
- То-то ты его чуть на месте не угробила – четверо суток под себя ходил, думала, не выкарабкается... От такой дозы аминазина и лошадь бы сдохла! Я как увидела – думала, все, придется его в саду закапывать, деньги по твоей доверенности снимать, сколько удастся, – и в Аргентину какую-нибудь, пока не хватились... Лично была готова тебя убить, дура безмозглая! Я тебе какую дозировку написала?!
- Да ладно, мам, теперь-то уж чего... Ты и сама-то, между прочим, по дому, как слониха по посудной лавке расхаживала, вообще не стеснялась... Свет везде включала, двери оставляла открытыми... Ему, честное слово, привидения мерещились! Как-то раз спрашивает: «Ты в призраков веришь?». Козел.
- Вот дочурку его эту... как ее... Ленку... ты жалеешь – а его – нет... Странно... Что, такой противный был?
- Жуть. Говорю же, меня в постели его зассанной чуть не рвало. Дерьмо он, конечно, а не мужик. Всегда таким был?
- Не сомневайся. При нашей последней встрече он протащил меня… вдоль той вот улицы… волоком по земле – все колени мне разодрал об острые камни и почти сломал мою руку.
- Сволочь какая... И что – вы так больше ни разу и не виделись?
- Нет. Меня не тянуло. Его, думаю, тоже... Счеты у нас, видишь ли, старые... Очень... А насчет привидений – ты что, не поняла? Я так и хотела. Пусть бы решил, что до него тут мертвецы добираются... Из прошлого, так сказать... А знаешь, однажды мне показалось, что он меня узнал. Да, представь себе. Я как-то склонилась над ним – там, внизу, на кухне, в самом начале, – ну, еще когда он сдуру вместо сердечных капель галоперидола хватил и на диване больше суток провалялся... Думаю, вдруг окочурился, больно тихий, а он вдруг глаза открывает – и... воздух нюхает. А взгляд вдруг такой стал, словно понял что-то, верней, вот-вот дотумкает... Ну, я на цыпочках – задом, задом...
- Слушай, мам, а в этом доме – что? Правда кого-то убили, или... несчастный случай произошел какой-нибудь? Да?
- Да. Произошел. Произошли... Не хочу вспоминать... Ты чего там разглядываешь? А-а, рукопúсь его, так сказать... Последнее творение великого человека...
- Зря ты. Судя по первым страницам, у него был определенный литературный талант. Это потом постепенно пошли какие-то каракули, только отдельные фразы можно разобрать, слова... «Аввакум»... Какое странное имя... «Солнышко, птичка»... «Специнтернат»... А вот еще: «за отсутствием события преступления»... Но после двадцатой примерно страницы понятных слов больше почти не попадается... Все петли, волны... А потом и вовсе просто кривые линии... Только иногда зигзаг... Еще один... Вот сразу четыре... И опять... Как кардиограмма умирающего...
- Ну, милая моя, а чего ты хотела – чтоб я тут ему позволила в здравом уме роман о жизни написать? Хотя... Дай-ка сюда... Интере-есненько... Ты не боялась, что он спохватится и велит принести перепечатанный «труд» для какой-нибудь правки? Или попросит, чтоб ты вслух читала? Да нет, не боялась, конечно... Это мы бы мгновенно купировали... Хм... Да... А знаешь, хотела б я это прочесть... Понять, что там действительно написано... Жаль, что этот шифр – неразгадываемый... Ладно, сколько можно копаться! Готова? Тогда поехали. Ты заводи машину, а я пойду выпущу Ромео пописать на дорожку... Что ты так смотришь?
- Мам... А не может он в этой... ну, в этой твоей клинике... прийти в себя и... Это точно невозможно?..
- В этой «клинике», милая Аля, никуда не приходят. Тем более, в себя. Там, так сказать, плавно переходят. В бесконечность.
Эпилог
Cherchez la femme
Настал изумительный, долгожданный день в печальной жизни страшненькой Лены: из двух неразлучных и не слишком удачливых «Helens» именно она сегодня была красивее. Понимала, что и ненадолго, и неподобающе, – а все равно на дне души тихо плескалась самая настоящая радость. Голова лучшей подруги, только что доставленной в притушенном сознании из реанимации, представляла собой одну сплошную иссиня-багровую опухоль, покрытую, вдобавок, жуткими коричневыми корками запекшейся крови и живописно подкрашенную зеленкой в местах, где в присохшие раны влипли клочья свалявшихся, пучками торчавших волос... Левая, загипсованная под прямым углом к туловищу рука торчала, как зачехленный ствол самоходного орудия. Абсолютно искренняя, счастливая, теперь на правах почти красавицы, Лена заботливо хлопала крыльями над Лёсиной койкой, придумывая способ обойти строгий запрет на любые разговоры с пострадавшей, наложенный лечащим врачом. Долго напрягаться не пришлось: память услужливо выложила перед ней ясный кадр вполне забытого детектива, где неотложное общение с обездвиженным потерпевшим, замотанным бинтами до глаз, велось посредством осмысленного моргания. Десятки вопросов, ответы на которые таились в Лёсиной изрядно сотрясенной, но не треснувшей голове, роились и жужжали, чуть ли не соты строили у Лены на языке.
- Лёська... – еле дождавшись отбытия врача из палаты, приступила она к болящей. – Это я, Лена... Ты как? Слышишь меня?
На опухшем до неузнаваемости лице подруги прорезались две узкие светлые щелочки, дрогнули кончики струпьями покрытых губ.
- Лежи-лежи! Молчи! Тебе вредно! – запоздало засуетилась Лена, бестолково подтыкая тонкое холодное одеяло. – Я сама тебе все скажу! Все, что ты хочешь сейчас спросить... В общем, так. Ты мне сказала, что собираешься к своему отцу в его загородный дом – помнишь, я тебе сведенья о его недвижимости доставала? Ну, вот ты и поехала. И по дороге туда или обратно попала в аварию. Машина твоя сгорела – и черт с ней, новую тебе купим, как очухаешься. Тебя, наверно, от удара выкинуло на землю – это и спасло. Правда, сверху свалился пласт земли, присыпал хорошенько, поэтому нашли тебя, только когда светало уже... Нет-нет, не дергайся, ничего непоправимого! Сотрясение мозга, переломы нескольких ребер, руки и ключицы. Остальное – ушибы, ссадины... Пару швов наложили где-то в районе бедра... Короче, хоть и больно, но фигня... Легко отделалась, до свадьбы заживет... Ну, в смысле скоро... Съездила я туда, где это произошло, там машина обугленная – или то, что от нее осталось – до сих пор в канаве валяется, а место лентой ограждения обтянуто... Какого хрена тебя туда понесло среди ночи, скажи на милость?! Там же тупик дальше, вернее, кусты и залив! Свернула, что ли, не в ту сторону? Да нет, это фигура речи, не надо ничего объяснять... Я ж понимаю, что раз поехала – значит, была причина... Просто полиция тоже не понимает... Дача отца твоего пустая стоит... Но это неважно... Лёся, тебе нельзя говорить! И вообще волноваться нельзя! Ты лучше моргай! Лёся!!
Больная неуклюже пыталась подняться, силясь шире открыть глаза, разлепить спекшиеся губы:
- Меня... столкнула... – разобрала Лена, заметавшаяся над подругой в страхе прикоснуться к ране и неумелостью причинить боль. – Она.
- Кто – она? – спросил вдруг сзади нетерпеливый мужской голос и, обернувшись, Лена увидела знакомого, уже раз наведывавшегося, вечно раздраженного опера в условно накинутом поверх свитера халате. – Вас столкнули с дороги, и вы знаете – кто? Я правильно понял?
- Врач запретил ее беспокоить! Он не разрешает разговаривать... – опомнившись, кинулась на помощь верная подруга, но от нее, как и всегда в жизни, отмахнулись:
- Она уже разговаривает безо всякого разрешения, – огрызнулся опер. – А мне что, прикажете еще раз сюда тащиться за ее показаниями?.. Кто вас столкнул, гражданка?
- Она сказала... Сказала... «Ну, что... получила... получила моего... моего брата?»... – внятно прошептала Лёся, но это было все, на что у нее достало сил – две светлые щелки исчезли.
- Чьего брата? – насторожился полицейский, ни на что интересное до того момента не рассчитывавший.
Обреченный похоронить свою живую и деятельную натуру под горой макулатурных отчетов, он все-таки за молодостью лет не успел еще покрыться непроницаемым слоем полуды и не вполне оставил давнюю юношескую мечту, продолжая смутно верить в грядущее, какое-нибудь особенное, необычное, предназначенное к раскрытию только им преступление. Парень неосознанно подался вперед, почти хищно нависнув над койкой пострадавшей. Но рука отчетливо безобразной женщины, в первую же секунду мысленно списанной им в отвал, как и всеми другими мужчинами на свете, мягко отстранила его:
- Даже мне это уже ясно... – проворчала Лена и с твердым сознанием своего права сварливо добавила: – Уйдите, дайте поспать человеку! А сами делом займитесь – извечным, мужским: cherchez la femme. Что-что, а уж это вы умеете…
.






 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что