Читать онлайн "История одного философа"
Глава: "История одного философа"
Сквозь густой мрак бесконечной ночи, вдали пробивался тусклый огонёк одиноко светящей перед собой фары. Опытные странники шли вперёд, шаркая подошвами по мелким камешкам с двух сторон от дороги, не оглядываясь, выжидая когда свет пробежит по гладкой поверхности рельс, освещая спины впереди идущих, и оборачивались, лишь тогда, когда ровным стуком колёс, отсчитывая такты гремящего соло двигателя — звук, догоняя лучи света, достигал их слуха и резонировал где-то глубоко в грудной клетке, раздаваясь по всему телу. Они внимательно всматривались в проезжавшую мимо мотодрезину, и если попадалось свободное место, то первый заметивший тут же бросал на него свой багаж и ловко, вмиг, запрыгивал на медленно двигавшийся механизм. Если же все места на дрезине были заняты, то странники, как прежде, продолжали идти вперёд в ожидании другой возможности; и так как дрезины часто следовали на определённом, всегда одинаковом по времени, расстоянии друг за другом, каждый из них так или иначе находил себе место.
Точно так же и я оказался на одной из таких дрезин. Прямо передо мной спрыгнула тень, освободив место, и я немедля бросил вперёд всех на него свой небольшой рюкзак, а сам, поскользнувшись в рывке, едва не полетел лицом в гравий. Сверху кто-то подхватил меня за руку — можно сказать, что таким образом, пожав друг другу руки, произошло наше неформальное знакомство, при этом мы не обронили ни единого слова. Тогда я ещё не знал, что разговоры здесь не приветствовались. Я поудобнее устроился, облокотившись на поручень, подпихнул под бок рюкзак и укутался в пальто, спрятав голову за поднятым воротником, как черепаха в панцирь. Прислушиваясь к рокоту двигателя, стуку колёс, я смотрел на освещённые спины идущих странников и медленно засыпал под ровное укачивание дрезины.
Во сне начали проявляться несвязанные образы, а дальше мысль покатилась, как ком с горы в бездну, в поисках неведомо чего, впадая в пространные рассуждения. Меня пробудил легкий толчок в локоть — то был мой сосед, который помог мне забраться на дрезину.
— Куришь? — тихо спросил он.
— Бросил, — так же тихо ответил я, спросонья сиплым голосом.
— Теперь-то… — удивлённо подытожил он и вложил мне в руку пачку папирос. У него не оказалось зажигалки, и я, порывшись на дне рюкзака, достал свою. Когда он хотел возвратить её мне, я, махнув рукой в темноте, добавил: «Забирай», — то был подарок, необычная и, наверное, дорогая вещица, одной давней зазнобы, теперь уже из другой, совершенно далёкой жизни, как будто и совсем не моей. Мы курили, и в разгорающемся огоньке можно было разглядеть его лицо, неподвижно уставившееся куда-то в глубину мрака.
С виду ему было лет пятьдесят, когда он прикуривал, то в свете зажигалки я увидел суровое, в глубоких морщинах лицо, он метнул в меня грозный взгляд и смотрел, не моргая мне в глаза, как показалось, вечность.
Я снова откинулся на поручень и глядел в темноту, переодически затягиваясь, разве что звездочки в глазах не появлялись. И ведь кто-то же додумался и реализовал весь этот механизм. И все пытаются запрыгнуть на дрезину, не понимая даже, куда ведёт дорога. Наверное, это какая-то неотъемлемая часть нашего существования, как желание есть или пить — неувядающая надежда, без неё, наверное, и жить невозможно станет, как без еды или воды. И хоть сотни раз проверяй всё логикой, всё равно на краю бездны единственной поддержкой будет надежда: алогичная, фантастическая, но именно она, в казалось бы безвыходных ситуациях, подталкивает двигаться дальше — шаг за шагом.
Хорошо ехать на дрезине — можно дать отдохнуть сбитым и уставшим ногам, в то же время становится страшно оставаться наедине со своими мыслями: я начал понимать тех, кто, не выдержав, спрыгивает и некоторое время продолжает путь пешком — это отвлекает, в отличие от практически неподвижного сидения. К тому же я совершенно не помнил, как попал сюда, и, возможно, не я один, что так же давит грузом неизвестности, и вместе с тем гнетущая, постоянная тяжесть на душе, как будто в ожидании не объявленного приговора — только кто бы озвучил.
Впереди показался яркий свет, склонившегося сверху над дорогой в поклоне, фонаря. Рядом с ним, стоял, как на посту, одинокий силуэт. Мой сосед сказал мне, что мы приближаемся к заставе.
— Ещё одна, восьмая на моём счету, — грустно подытожил он.
— Что там? — растерянно спросил я.
— Ссаживать будет, а то и проедем, — он злобно сплюнул.
— А кого ссаживает? — спросил я в нетерпении, выпрямившись и машинально подтягивая рюкзак. А сосед как сидел сгорбившись, так и оставался в прежнем положении, и казалось, что событие это вовсе и не событие для него, а так, едва заметная мелочь, как пролетевшая муха.
— Если остановит, то точно знает, ради кого. Он даже не посмотрит на тебя, а только на багаж: сумки там всякие, мешки, всё, что есть, в общем. Оформит быстро и ссаживает.
— И что потом?
— Чёрт его знает, что потом, — он едва не выругался. — Этого никому не ведомо. Но видно только, что сам багаж он не трогает и даже указывает на него какому-нибудь растерявшемуся от такой неожиданности, чтобы не забыл ничего. А дальше всё как обычно. Только на заставе этот — один и тот же, как-будто. И думается мне, — продолжал он, потирая нос, — но доказательств никаких не имею, только личные догадки, что дорога-то совсем не прямая, а замкнутый круг. Понимаешь? И если бы не эта застава, то катались бы мы без остановки, как на детской карусели, только длиною в вечность. Хотя этот круг, если таковым является, от и до заставы — вечностью и ощущается. Он едва слышно пробубнил себе злобно под нос:
— Проклятый стук колёс…
Снова сплюнул, а потом продолжил громче, уже повернувшись ко мне:
— Это сначала он убаюкивает, а затем начинает сводить с ума, уже со второго круга — не хуже любой другой дьявольской машины для пыток. Однажды за мной подсела девушка, кажется, то было на седьмом круге. Сначала всхлипывала себе тихо, а позже разразилась, часто произнося имя — не знаю сына ли, мужа. Вскоре спрыгнула, конечно, не выдержала. Но для меня то было как снизошедшая свыше благодать, как будто кто-то сжалился надо мной и наградил, неведомо за что, возможностью ненадолго отдохнуть от этого жуткого, проникающего в самое нутро, и тлеющего, как ноющее сердце в момент наивысшего отчаяния, — безнадёжного механического стука.
На первых порах спасала одна встреча, ещё на первом круге. Тогда после неё я даже держался какое-то время, надеялся и не понимал до конца, в какое пекло меня занесло.
Мы подъехали к заставе, и он замолчал. Постовой внимательно посмотрел на дрезину, затем показал жестом, чтобы мы проезжали без остановки. Мы все ещё находились в свете фонаря, мой сосед снова уставился в пустоту, а я пристально смотрел на него.
— Расскажи! — неожиданно громко сказал я.
В этот момент машинист обернулся в нашу сторону. Сосед, очнувшись, показал рукой, чтобы я замолчал, и, когда машинист отвернулся, подсел ко мне ближе.
— Видишь как насторожился? — говорил он, поглядывая из-за плеча на машиниста. — Здесь не принято разговаривать, тем более о таких вещах.
Он достал папиросы, и мы закурив, молча ехали до тех пор, пока снова не погрузились во мрак, тогда он тихо продолжил:
— Как я уже сказал, то был первый круг, и начался он для меня сразу после заставы. За ней освободилось два места. И я запрыгнул на тоже место, как и сейчас, а на то, где сидишь ты, запрыгнул другой, я прозвал его Философ. Кстати, на идею о кругах навёл меня тоже он, сказав, что думается ему, что нельзя сойти там, где не уготовано, и проехать туда, куда не предназначено, каждому, говорит, по багажу его. Вот и едем мы все — каждый со своим, и томимся, кому сколько назначено.
Тогда, незадолго до второго круга, разговорились мы с ним.
Он снова оглянулся на машиниста. В этом, конечно, не было смысла, ведь мы уже снова находились в глубоком мраке.
— Ну, если хочешь, тогда слушай. Не перебивай.
— Продолжай, не перебью, — едва не шёпотом произнёс я, чтобы снова не навлечь на себя подозрений.
— Тот Философ, как я его прозвал, был немногословен, впрочем, не более других, но, в отличие от всех нас, не чувствовалось в нём никакого беспокойства. Обладал он такой особой аурой, понимаешь, есть такие люди: вроде молчат, а всё пространство вокруг наполняется заразительным спокойствием и уверенностью. Долго мы ехали, вечность целую кажется, и однажды не выдержал я — тут уж либо с дрезины прыгать, либо говорить, иначе сам понимаешь. А он, как будто услышав мои мысли, произнёс: «Говори, не держи». И я рассказал, рассказал всё, что душу тяготило, здесь ведь только начать, понимаешь же… А он долго, внимательно слушал и не перебивал, и не просто так, как одолжение делал, — а я чувствовал, что слушал с участием, словно сам переживал всё в себе. Когда я закончил, вроде легче стало ненадолго, в тоже время совестно за то, здесь ведь так не принято, понимаешь…
Он стал чаще произносить «понимаешь», словно вбивая это слово, как гвоздь, наверное из-за того, что не видел моих глаз, а может, просто таким образом невольно искал поддержки.
Он продолжал:
— После моего рассказа мы некоторое время молчали, видно ждал он, когда во мне всё уляжется. Потом закурили, и он говорит мне, что явилось ему видение, и не скажешь, сон то был или явь. Увидел он в нём, что где-то там, выше, есть ещё одна дорога, похожая на нашу, но мы просто не способны увидеть её и, более того, что таких дорог может быть бесчисленное множество, но все — как часть единого океана, что если где-то волна поднялась, то значит где-то опустилась, и что если в каком-то месте прибыло, то, следовательно, в каком-то другом убыло. И значит, видел он такую же, вот как наша, дорогу, но никого на самой дороге: лежала она разрушенная, местами заросшая травой так, что и не поймёшь никогда, что и была там. Стояли на ней ржавые дрезины — некоторые покосились набок, а какие-то и вовсе валялись сгнившие внизу, под холмом. А за дорогой где-то желтели, а где-то зеленели поля, и по ним смеясь, во весь голос, шли люди. И шли не неведомо куда в поисках лучшей жизни, а просто так гуляли и наслаждались самим существованием. Немного дальше виднелись, так же как и поля, освещённые солнцем уютные домишки, и небо разлилось над ними синее и бескрайнее. А дальше, говорит, увидел среди этих радостных людей себя и свою семью. И не поверил сразу увиденному, испугался, шарахнулся в сторону за соседний куст, и смотрел на них до тех пор, пока точно не убедился, что он это, что семья его: жена и дети, и мать с отцом. Опустил он тогда взор на свои дрожащие руки с натянутой на них серой и прозрачной как у старика кожей, зажал глаза так сильно как только мог — до боли; сжал кулаки так сильно, что впился ногтями в ладони, а затем упал на спину и залился громким смехом — таким, каким не смеялся никогда, а после очнулся. Опомнился, сидя на земле, в стороне от дороги, по которой, стуча колёсами, проезжали дрезины одна за одной, и шли странники с погасшими глазами. А он пытался смотреть сквозь чёрную пелену, но уже не видел ни тех красочных полей в лучах солнца, ни людей, ни уютных домишек.
— Так, что же это было, сон?
— Не скажу. А ему более верится, и склонен он к тому, что явью то было, понимаешь, всё, что было — явь. И он, и его семья, и не было больше страдания на душе у него, потому что принял всё как есть. И повторял, что множество таких дорог и, что если здесь кажется плохо, то значит где-то там — хорошо, и с тех пор смиренно принял на себя уготованную ношу, ради того, кто там, по ту сторону дороги, ради того смеха заполнившего собой, как воздух, всё пространство. А когда ссадили его — Философа, перед вторым кругом, то до того как я отправился дальше, он, накинув свою единственную тощую, поношенную сумку на плечо, оглянулся в последний раз и повторил мне, чтобы я смиренно принял на себя уготованную ношу, — лишь тогда найду покой.
Когда он закончил рассказ, я не мог сразу продолжить разговор, мне представился тот самый философ, люди и поля, их смех, и самое главное — его последние слова.
— И ты принял?
— Что?
— Уготованную ношу, ради того другого себя.
— Я то? Да пожалуй, что и нет. Поначалу думал об этом, даже утешал себя мыслью о смирении. Но не могу, не способен. Плевал я на того друго себя. Я тут, вот, здесь, рядом с тобой, и что мне до того другого? Он, что же лучше, ему всё, а мне-то что с того? — чувствовалось, что он горячится, что выплёвывает в бессильной злобе вопросы, как в представшего перед ним невидимого судью. — А если бы ему выпала такая ноша, справился бы, смирился? И ради чего ты мне скажи? Нет, нет мне пользы никакой от смирения, страдаю и не вижу спасения в смирении. Тогда я верил, решил: смирюсь — и настанет покой, может, услышит меня кто-то, поймёт, да ссадит с этой проклятой машины, — он сильно выругался. — Но нет, смиряйся, не смиряйся, то-то одно верно, что нельзя сойти там, где не уготовано, и проехать туда, куда не предназначено, каждому по багажу его. Так что оставь надежду всякий входящий сюда — вот девиз наш. Рассказанная Философом история больше подошла бы поэту, — он чиркнул зажигалкой и, внезапно замерев, дрожа в голосе, произнёс: — Бесценный подарок в этой страшной мгле, — затем, горько усмехнувшись, вложил её мне в руку и твердым голосом поставил точку: — Забери!
Больше мы с ним не разговаривали. Я не видел его во мраке, но точно знаю, что он сидел сгорбившись и смотрел в черноту своим страшным взглядом, и сердце его окутывала точно такая же безысходная, беспросветная чернота. Потом я почувствовал, как он рванул с места, врезаясь и шурша подошвами по мелкой гальке, а его место, вмиг, заняла новая тень. Я снова остался один на один с собой. Не смотря на то, что с новым соседом мы едва не касались плечами, мы сидели так близко к друг другу и в тоже время были так далеки. Я посмотрел в его сторону, и по едва различимому всхлипыванию понял, что рядом со мной сидела девушка. Интересно, слышала ли она когда-нибудь историю одного философа?..
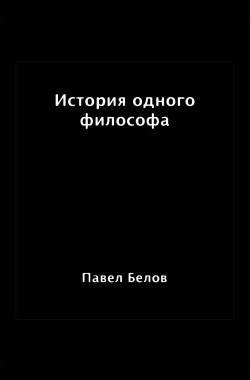





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

