Читать онлайн "Казанова в Петербурге"
Глава: "Глава 1"
,
Осенью 1764 года по дорогам Курляндии бойко катила удобная четырехместная карета, запряженная шестеркой лошадей, с важным кучером и лакеями на запятках. В карете сидел смуглый, широкоплечий господин высокого роста и могучего сложения; утопив подбородок в кружевное жабо, он читал трактат Гельвеция «Об уме». Стояла золотая пора «бабьего лета», однако путешественник кутался в шубу. Южный человек, порождение волшебной Венеции, он ехал в заледенелую пустыню, на край света, в Московию, откуда рукой подать до Северного полюса. Его звали Джакомо Казанова, а с недавнего времени — кавалер де Сенгальт.
При выезде из Берлина в кошельке у него лежало 200 дукатов, сумма приличная, но не для столь блестящего господина. Желая ее увеличить, он проиграл все в Кенигсберге офицерам местного гарнизона, и к тому же имел неприятное объяснение из-за попытки передернуть карты.
Год для него, баловня судьбы и любимца женщин, выдался неудачным. Непоправимой бедой стала кончина герцогини д’Юрфэ: старая дура в течение многих лет щедро снабжала его деньгами, и не напейся она своего эликсира, все ее миллионное состояние перешло бы в его руки. Иссяк щедрый источник, многотрудные хлопоты пошли прахом. Большой бедой стало все, пережитое в Лондоне, где его измучила, унизила и надула девка Шарпиньон. Спасаясь от долгов и неминуемой тюрьмы, он впопыхах бежал оттуда и был счастлив, что унес ноги. Невезением была и вывезенная из Англии скверная болезнь, от которой пришлось полтора месяца избавляться у везельского лекаря. В те дни он окончательно понял, что вечная юность кончилась; близился сорокалетний рубеж. Напрасно утешал он себя мыслью, что вступает в цветущую пору жизни, обладая отменным здоровьем, сладким сном и волчьим аппетитом. К несчастью, деньги больше не лились в карман золотой струей; приходилось искать какие-то средства к существованию. Бесплодные попытки раздобыть денег, за что-то уцепиться закончились в Берлине унизительным предложением прусского короля Фридриха стать воспитателем кадетов, выносить за мальчишками ночные горшки.
Тогда было много разговоров про Ангальт-Цербтскую принцессу Софию, нежданно сделавшуюся российской императрицей Екатериной. Передавали, что гвардейцы убили ее супруга императора Петра Третьего, отстранили законного наследника цесаревича Павла и возвели ее на престол. Екатерина, загадочная женщина, осиянная царским венцом. Ненасытное любопытство вспыхнуло в душе кавалера. Он знавал в Париже матушку Софии Ангальт-Цербтской, вертлявую, молодящуюся старушонку, и даже игрывал у нее в бириби. Почему бы не поглядеть на дочь? С монархами-мужчинами ему не везло; а тут молодая, прекрасная женщина. Для видного собой мужчины захватывающие перспективы. Чем Россия отличается от других стран? Для гражданина мира все они равны, тем более что лучшие уже ему недоступны. Милая Франция была закрыта для него; к тому же из-за герцогини д’Юрфэ и ее завещания нынче над ним потешался весь Париж. Впрочем, теперь, когда на свете уже нет прелестной маркизы Помпадур, умершей в прошлом году, во Франции все неуловимо меняется в худшую сторону, и его не тянет туда. Италия запретна, равно как и Англия; во всей Германии не нашлось ничего подходящего. Итак, Россия.
Внезапно карета остановилась; размышления об императрицах и принцессах прервались. Путешественник раздраженно высунулся из окошечка. Некто в войлочном колпаке и с дубиною, удерживая лошадей, настойчиво требовал чего-то от возницы.
— Никак местный таможенник? — предположил тот. Глянув в другую сторону, кавалер увидел, что от леска к карете приближались еще двое с дубинами.
— Это грабители! Гони, дурень! — заорал он.
Но возница не понимал по-французски и не пошевелился.
Смуглая рука, унизанная сверкающими перстнями, выронив книгу, ловко выхватила пистолет. Огромный иностранец выскочил из кареты.
— Ганс, на помощь! — заревел он.
Но тот, стремительно спрыгнув с запяток, скрылся в кустах.
— Риго, сюда! — воззвал господин к другому лакею.
Тот, побледнев, очень естественно упал в обморок. Поняв, что помощи ждать неоткуда, кавалер прицелился в грудь разбойнику, который попятился, решив не искушать судьбу, и, устрашенный грозным видом противника, со всех ног бросился прочь. Погнавшись за ним и колотя его увесистой тростью по спине, кавалер дважды выстрелил в воздух, чем обратил в бегство и двух других.
— Сейчас я приведу тебя в чувство, мерзавец! — воротившись к карете, набросился он на лакея, пребывавшего без чувств. Риго предпочел открыть глаза, лепеча, что действительно очень испугался. Это был жалкий французик, нанявшийся услужать бесплатно, лишь за право ехать в Петербург на запятках. Но ему не миновать бы хозяйской трости, не помешай появление Ганса. Покинув спасительные кусты, второй лакей приблизился как ни в чем не бывало и с достоинством встал на запятки.
— Негодяй! — загремел господин.— Жалкий трус.— Он плохо говорил по-немецки, и выбор ругательств был небогат.
Ганс, упитанный лотарингец самого цветущего возраста, задумчиво возразил:
— Я был уверен в храбрости своего господина и хотел оставить для него всю честь победы.
Его наглость развеселила кавалера; влезая в карету, он проворчал:
— Не получишь жалованья за этот месяц.
— Я и за тот ничего не получал,— напомнил Ганс. Пройдоха говорил правду: в кошельке у хозяина было пусто. Только бы никто из них не догадался, иначе льстивые лакеи вмиг превратятся в нахальных и грубых вымогателей. Придется в Митаве продать кое-какие драгоценности, чтобы и дальше оплачивать дорожные расходы. Главное — добраться до Петербурга, обиталища императрицы Екатерины, а там он получит по векселю у банкира Труделя, и на первое время хватит.
— Омниа меа мекум порте (Все мое ношу с собой),— пробормотал он на языке древних римлян — латынь он знал в совершенстве,— снисходительно посмеиваясь над своим безденежьем, и, уютно закутавшись в шубу, поднял с пола кареты Гельвеция.
МИТАВА
В Митаве напуганный возница объявил, что дальше не повезет, и потребовал расчета. Они только что эффектно подкатили к лучшей в городе гостинице, вызвав переполох на всей улице. Появился хозяин, кланяясь знатному путешественнику чуть ли не в пояс. Потребовав самый дорогой номер и обильный обед, иностранец небрежно распростился с возницей и, мельком глянув в кошелек, убедился, что у него осталось всего три дуката.
После сытного обеда, развалившись на перинах перед погружением в сон, он, брезгливо морщась, прикинул, что самое разумное сейчас — немедленно повернуть назад, наняв какую-нибудь повозку и расставшись с лакеями. Продать свои перстни, часы и табакерки он не может, они — продолжение его благородного облика, а за всякую мелочь не выручить и того, что стоит проезд до Риги. Итак, прощай, Екатерина. Процветайте, братья Орловы. На другом краю Европы есть страна Испания, где кавалер де Сенгальт еще не бывал; туда он и направит свой путь. И, вытянувшись во весь свой рост, путешественник сладко заснул на курляндской перине, под сенью замка герцога Бирона.
Наутро он велел Гансу отнести скупщику шкатулку с несколькими золотыми вещицами, а сам, облачившись при помощи Риго в костюм из шелковой тафты, взбив пышное жабо, повесив на грудь бриллиантовый крест и желая развлечься, отправился делать визиты. Карманы у него были полны рекомендательных писем к знатным курляндцам: итальянские актрисы писали бывшим своим богатым содержателям, музыканты — нанимателям, картежники — облапошенным офицерам, и все в один голос хвалили и горячо рекомендовали знакомым благородного кавалера де Сенгальта, прося оказать ему гостеприимство. Среди писем одно было адресовано г-ну канцлеру Кайзерлингу, и путешественник направился к нему.
Г-жа Кайзерлинг, польщенная визитом знатного иностранца, о пышном въезде которого в Митаву судачили в городе, оставила его обедать. Общество за столом собралось немногочисленное, все дамы как на подбор старые и отталкивающие, однако прислуживала им красивая девушка-полячка. Кавалер де Сенгальт заволновался. Он давно изнывал по женской любви. Непривычное воздержание вконец истомило его тело, но лондонский подарок, от которого пришлось избавляться при помощи ртутной мази, сделал его на некоторое время не в меру осторожным. Полячка была на редкость хороша и сама скромность, настоящая Ботичеллиева мадонна. Он решил, что ничем не рискует, и, отдавая красотке чашку, со значением пожал ей локоток и незаметно положил на поднос свои три дуката, твердо рассчитывая, что сегодня же ночью она явится к нему, жаждая получить еще хорошеньких золотых монеток.
Довольный собой и митавским гостеприимством, он вернулся в гостиницу, любопытствуя узнать, сколько выручил Ганс за безделушки. Лакея нигде не было. Его французский слуга сказал, что Ганс только что распрощался насовсем, посоветовав как можно скорее оставить нищего хозяина, но Риго молит не бросать его на полпути и доставить в Петербург.
Чертыхнувшись про себя, величаво улыбнувшись лакею, кавалер прикинул, что, видно, придется расстаться с золотыми часами: их у него трое, как-нибудь обойдется. Из Митавы он отправится в Вену. Там безбедно живут мать-певица и брат-художник, есть кое-какие нужные знакомства; у венских масонов он на хорошем счету, и давно стоит поставить на эту карту.
— Я смогу дать тебе рекомендацию как надежному слуге,—милостиво сообщил лакею кавалер,— но должен убедиться в этом и поэтому поручаю тебе продать ценную вещь.
Риго обрадовался: он был доверчив и простодушен, этот французик, в отличие от канальи Ганса, по шее которого скучала веревка.
Вручив лакею золотые часы луковкой с изящной цепочкой и несколькими брелоками, кавалер развалился на постели, решив вздремнуть до его возвращения: если пожалует полячка, ночью не придется спать. Его отдых прервал неожиданный приход камергера герцогини Курляндской: в замке давался костюмированный бал; наслышавшись от г-на Кайзерлинга о прибытии знатного иностранца, Ее Высочество звала его к себе. Польщенный кавалер безупречно вежливо отклонил приглашение герцогини: он только что прибыл; его багаж с придворной одеждой пока не получен. Посланец возразил, что все необходимое он найдет у городского торговца; он удалился, рассыпаясь в комплиментах и оставив кавалера в большом затруднении. Что было делать? Скрыться из Митавы немедленно? А как же полячка?
— Сколько? — нетерпеливо крикнул он, услыхав шаги лакея: простофиля и не подумал сбежать с часами по примеру Ганса.
«Этому ничего не добиться в жизни»,— пренебрежительно подумал кавалер.
— Итак, сколько?
Но это был не Риго. В комнату с поклонами вошел некий туземец.
— Назовите сумму сами,— сладко улыбнулся незваный гость.— Я готов обменять на дукаты все ваши золотые фредерики.
Опытный в таких делах кавалер догадался, что перед ним меняла. Предложение показалось ему забавным.
— У меня нет ни одного фредерика, любезный.
— Но, по крайней мере, у вас найдется несколько флоринов? — еще слаще улыбнулся посетитель.
— Ровно столько же! — кавалер не счел нужным пускать пыль в глаза.
Гость вкрадчиво наклонил голову:
— Как мне сказали, вы едете из Англии. Может быть, у вас есть гинеи?
Вспомнив свое поспешное бегство от английских кредиторов, кавалер расхохотался:
— Нет, только дукаты.
— А уж их-то, конечно, у вас кругленькая сумма? — угодливо захихикал гость.— Вы так сорите ими, даете горничным по три дуката на чай, что об этом говорит весь город. Так надолго не хватит никаких денег.
Кавалер ухмыльнулся в ответ, молниеносно соображая: вот что значит быть иногда щедрым с женщинами! Фортуна сама шла ему в руки, следовало ее не спугнуть.
— Вы угадали, любезный, наличных у меня уже нет. Мне немедленно нужны двести рублей. В обмен я подпишу любой вексель.
Наивный меняла выразил восторг. Тут же был составлен вексель на петербургского банкира Попандопуло; меняла отсчитал кавалеру двести рублей, а тот подписался, что должен четыреста. Таких векселей у кавалера было рассеяно по Европе несметное количество, и он подписывал новые с величайшей невозмутимостью.
Риго застал господина в веселом настроении.
— Местное население очень доверчиво,— сказал он лакею.— Страна непуганых птиц. Даже менялы тут потеряли бдительность.
— Я не продал часы... Мало дают...— залепетал Риго.
— Давай их назад,— ничуть не рассердившись, протянул руку господин и хладнокровно сунул золотую луковицу в карман.
Вечером в герцогском замке состоялся бал, на котором блистал заезжий иностранец. Пребывая в лучезарном настроении, кавалер сыпал остротами, отпускал митавским дамам изысканные комплименты, без устали танцевал и вконец очаровал общество. Во время ужина герцогиня усадила его возле себя, в окружении престарелых матрон,— досадная честь, так как он уже отметил несколько красавиц, которым намеревался выразить свое восхищение.
Бал настолько понравился кавалеру, что он позабыл о прекрасной полячке. Всеобщий интерес живил его, как дождь — полевые травы, как солнце — гадов, как свежий воздух — удавленника. Он обожал с головой погружаться в теплые волны любви и восхищения. Конечно, Митава не Версаль, общество состояло из неотесанных курляндцев, но искреннее преклонение неискушенных дикарей все же приятнее неискренней любезности лощеных маркизов.
Особое внимание кавалера привлек высокий, сутулый, плешивый старик, старомодно одетый и без парика. Когда-то, должно быть, он обладал заметной внешностью и до сих пор держался с величавой надменностью. Это был герцог Бирон, фаворит императрицы Анны, много лет правивший Россией, а нынче, недавно вернувшись из сибирской ссылки, доживавший свой век в безвестности. Окружающие обращались с ним как с тяжелобольным. Герцогиня не обращала на мужа внимания. Кавалер тут же решил к нему приблизиться. Владея искусством общения с сильными мира сего, он сразу преуспел и был удостоен несвязных старческих воспоминаний об императрице Анне и жизни в Петербурге. Речь зашла о рудниках Бирона. Кавалер, ничего не понимая в горном деле, но уверенный, что герцог понимает и того меньше, пустился в многословные рассуждения об этом предмете. Неожиданно старик попросил его съездить на рудники и проверить, как там идут работы. Во время недавней аудиенции у короля Фридриха кавалер пытался прикинуться знатоком фонтанного дела, но грубый пруссак резко осадил его. Ничуть не колеблясь, он дал согласие Бирону.
Путешествие в Петербург было отложено на две недели. Захватив с собой польскую красавицу, кавалер отправился в инспекционную поездку на рудники, где очень приятно провел время, отнюдь не утруждая себя делом, в котором ничего не смыслил. По возвращении он представил герцогу свои экономические соображения, предложил прорыть канал и осушить долины; высоко оценив проделанную работу, Бирон пожаловал ему четыреста талеров, карету и рекомендательное письмо в Ригу к молодому герцогу Карлу Курляндскому.
Эта удача ничуть не удивила кавалера. Он привык к бесчисленным взлетам и падениям и относился к ним с философским спокойствием, предпочитая вкушать от всех удовольствий при удачах и не слишком огорчаться, лицезрея зад Фортуны. Удобно разместившись в карете Бирона, по дороге в Ригу он дочитал трактат Гельвеция.
РИГА
У Карла Курляндского кавалер де Сенгальт замешкался. Весь в долгах и отчаянный картежник, принц пришелся ему по душе. Тут шла настоящая игра; к тому же кавалер встретил давних знакомцев — итальянских актеров, и юная падчерица одного танцовщика доставила ему несколько незабываемо приятных мгновений. Поездку в Петербург, где его никто не ждал, он решил отложить до весны, но получилось так, что всем его новым знакомцам пришлось срочно покинуть Ригу из-за настойчивости заимодавцев, и он остался в одиночестве, к тому же без талеров, которые успел спустить. Осталась карета, и при ней Риго. Он решил продолжить путешествие.
Его француз как-то раз докладывал, что встретил на улице иуду Ганса, долго совестил его, но раскаяния не дождался. Сбежавший лакей служил подавальщиком в таверне. Перед Рождеством Риго сказал, что Ганса прогнали, он впал в нищету, просит милостыню на рижском рынке, говорит, что шкатулку хозяина у него украли, потому-де он сбежал и хочет вернуться. Ганс Ламберт был представительный малый, в отличие от щуплого француза, и кавалер снисходительно кивнул: украденное могло быть зачтено в счет невыплаченного жалования.
— Мерзавец! — с чувством обратился он к вернувшемуся лакею.— Не стыдно тебе воровать?
— Каков хозяин, таков и слуга,— хмуро буркнул наглец и, взвалив на плечи сундук, понес его к карете.
Кавалер схватил трость, чтобы проучить негодяя, но задумался.
— А ведь наглец прав,— наконец заметил он, вспомнив кое-какие свои грешки и посмеиваясь.
Кавалер де Сенгальт покидал Ригу в хорошем настроении. Утонув в мехах, прикрыв ноги периной — рождественские морозы стояли нешуточные,— он бросил прощальный взгляд на рижские колокольни, вздохнул: «Ванитас ванитатис! (Суета сует!)» — и потянулся за томиком с золотым обрезом, на этот раз не за Гельвецием и даже не за Вольтером, возлюбленным врагом своим, но за божественным Горацием.
ПЕТЕРБУРГ
Окрестности Петербурга представляли собой унылые белые равнины.
— Однако! — удивился кавалер, высовывая из кареты на крепкий морозец свой большой римский нос.— Ни одного пригорка. Плоско, как блюдо.
Болото,— подал голос с запяток Ганс.— Ихний царь Петр построился на болоте. Верно, лягушек тьма. Слышишь, Риго? — ухмыльнулся он.
Они подъезжали к новопостроенной столице России в сочельник. Давно стемнело, если, впрочем, можно было назвать днем краткие сумерки, мглистый воздух, дрожавший ледяными искрами. Они ехали то вдоль каких-то хибарок, заваленных снегом, то снова по чистому полю. Тьма становилась все гуще, мороз крепче, а города было не видать. Начав беспокоиться, возница хлестнул притомленных лошадей. Откуда-то издалека донесся вой — собака, волк? Лошади рванули, понеслись. На всякий случай кавалер приготовил пистолеты. Завидев одинокую фигуру, бредущую по обочине, возница придержал лошадей и отчаянно замахал рукой:
— В какую сторону Петербург?
— Эва! — откликнулся сиплый голос.— Ты по Невской першпективе едешь. Вон мост через Фонтанку.
Прохожий не солгал: сразу за мостом начался город. Они пронеслись мимо темной громады какого-то особняка и по накатанной колее помчались вдоль выстроившихся в линию небольших одноэтажных домиков, в окнах которых кое-где мерцал слабый свет.
«Гм! — подумал кавалер.— Ничего похожего на Европу».
— Пусть везет в лучшую гостиницу,— распорядился он. Ганс передал приказ вознице, действуя с помощью гримас и маловразумительных слов «отель карашо».
— Сейчас на Луговую свернем и к Неве, а там есть и постоялые дворы,— пообещал возница, обрадованный окончанием дороги не меньше путешественников.
«ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ»
Кавалер полагал, что в Петербурге все давно спали, однако было не более восьми вечера. Ярко освещенная гостиница «Золотой якорь» была изрядно натоплена, а воздух ее напоен ароматом тушеной капусты и свежей хвои: тут готовились к Рождеству. Сбрасывая заиндевевшую одежду, путешественник воспрянул духом. Хозяин приятно удивил их, поприветствовав гостей по-немецки. Это был толстый, круглолицый человечек с лукавым взглядом, вмиг оценивший достоинство новоприбывшего постояльца.
— Анхен,— велел он толстухе-жене,— лучший номер для его светлости с окнами на Неву.
Пока готовили номер, а голодные лакеи перетаскивали наверх чемоданы, кавалер присел к общему столу и, не особенно разбирая, проглотил гору еды, кажется, и подгоревшую капусту, чего никогда бы не стал делать в нормальной обстановке: он был привередлив и знал толк в хорошей кухне. Впрочем, одно блюдо вызвало его недоумение: нечто жидкое, жирное, горячее, с плавающими вареными овощами.
— Это шти, национальное русское кушанье,— пояснили ему.— Первое и второе вместе.
— Унести,— распорядился гость.— Я не эскимос. В дальнейшем, любезный, прошу кормить меня по-европейски.
Осведомившись, который час, и услыхав, что до ночи еще далеко, он недоуменно уставился на мрак за окнами.
— Позвольте, а сейчас что?
— День,— скромно пояснили ему.— Если вы изволите думать, что ночь, это заблуждение. У нас зимой не всегда рассветает.
— Однако! — хмыкнул гость.
Поднявшись в свой номер, он придирчиво огляделся. Это были две большие комнаты, обитые пыльной тканью мутно-зеленого цвета, обставленные тяжеловесной мебелью. На окнах не было штор; из них сильно дуло. Кавалеру хотелось спать; он не стал придираться, тем более что широкая кровать под зеленым пологом показалась ему весьма заманчивой. Пока толстая служанка взбивала перины и совала под одеяло бутылки с горячей водой, он подошел к окну. Сладко улыбавшийся хозяин, герр Бауэр, следовал за ним по пятам.
— Где Нева? Я заказал номер с окнами на Неву,— сурово осведомился постоялец.
Встревоженно глянув в окно и тут же успокоившись, герр Бауэр заверил, что Нева перед ними.
Кавалер недоуменно вгляделся: за окном простиралась обширная белая равнина, над нею клубилась ночь. Наверно, у Невы очень широкая пойма; летом, когда снег растает, можно будет прогуляться до воды, если, конечно, берега не слишком вязки. Придется сидеть здесь до лета, ибо в мороз он больше не ездок. Вот где доводится ему встречать Рождество. Философ, он не верит ни в Бога, ни в черта, но завтра, пожалуй, надо сходить к воскресной мессе. Кавалер без церемоний зевнул. Огромная пещера его рта с устрашающе острыми клыками поразила хозяина; лукавая улыбка сошла с толстого лица, уступив место явному подобострастию.
— Ты видела, Анхен, как он уписывал ужин? — шепнул добрый немец ночью жене.— И ведь не поставишь в счет тройную порцию.
— Зато я сэкономила на лакеях...— утешила его Анхен. Вдруг со второго этажа гостиницы понеслись громкие вопли.
— Сюда, на помощь! — призывал голос, мощный, как орган.— Скорее, помогите! Все сюда!
Хозяйка от испуга уронила фаянсовое блюдо с синей голландской мельницей. Хозяин, побледнев, схватил от плиты ухват и, кликнув работников, бросился наверх. Вооруженные кто ломом, кто топором, они взбежали по скрипучей лестнице на второй этаж. Толстая служанка, выскочив из чулана и велев Гансу, который случайно там оказался, затаиться, прихватила скалку. Ворвавшись в номер, откуда неслись вопли, они увидели иностранца в одной рубахе, метавшегося по комнате. Испуганно оглядев помещение и не увидев ничего тревожного, хозяин осведомился у постояльца, в чем дело.
— И ты еще спрашиваешь, в чем дело, немецкая колбаса? — загремел гость.— Разве можно спать на муравейнике? Гляди! — И он потащил хозяина к постели.
По кровати бегали клопы. Хозяин перевел дух.
— Ой, клопики,— весьма натурально удивился он, склонившись над подушкой.
Кто-то из слуг хихикнул.
— Клопики? — возмущенно загремел гость.— Здесь сотни клопиков! И это лучшая в Петербурге гостиница?
Герр Бауэр проявил завидную рассудительность:
— Так ведь клопы не разбирают, где лучшая, а где похуже.
Слуги откровенно веселились.
— Палач! — шумел гость.— Я положу тебя в эту постель, и ты промучаешься в ней до утра. А сам лягу в твою.
— Ваша светлость,— пряча смешок, возразил хозяин,— моя постель не так удобна, в ней тоже покусывают, и там моя жена.
Грохнул смех. Хохоча, челядь повалила вон.
— Ложитесь и отдыхайте, ваша светлость,— льстиво уговаривал разбушевавшегося постояльца хозяин.— Вы скоро к этому привыкнете. У нас останавливается всякий люд, даже азиаты, вот и наползло.
— Черт побери! — закричал кавалер.— Завтра же съеду. Где мои слуги?
Услыхав о его намерении, хозяин засуетился: Ганс был разыскан, однако Риго как в воду канул. В помощь были даны трое молодцов. Веселая челядь принялась перетряхивать кровать; зеленый полог был снят, лишняя мебель из спальни вынесена. Суматоха заняла немало времени. Кавалер не лег, пока на его глазах кровать тщательно не ошпарили; ее вытащили на середину комнаты, а ножки поставили в тазики с водой.
Он спал как убитый и во сне ехал в кибитке по печальной ледяной равнине, называвшейся Россией. Проснувшись на рассвете, он повернулся на другой бок и снова заснул.
Когда он пробудился окончательно, было светло, и заснеженная пустыня за окном, называемая Невой, искрилась на солнце. Зычно крикнув лакея, кавалер сладко потянулся: впервые со дня въезда в Россию он видел солнечный свет, и это случилось на Рождество.
— Пойдешь со мной к мессе,— велел он Гансу, который собирался его побрить.
— Сегодня нет мессы,— буркнул тот.
— Нет мессы в воскресенье? Ганс насмешливо фыркнул:
— Сегодня понедельник. Вы проспали двое суток.
— Как так, бездельник? Позвать Риго.
— Французишка был таков,— презрительно отмахнулся Ганс.— Он и не скрывал, что в Петербурге сразу уйдет.
Выйдя из номера, кавалер обратился по-французски к приличного вида старичку-постояльцу с вопросом, какое сегодня число.
— Пятнадцатое декабря,— ответили ему.
— Что такое? — изумился он.— Ведь сегодня Рождество.
— До Рождества еще далеко. Пока идет Пост.
Кавалер растерялся. На его возбужденный голос показался хозяин и, затаив усмешку, невольно появившуюся на его упитанном лице при воспоминании о ночном шуме, объяснил кавалеру, что в России другой счет дней, русское Рождество наступит почти через две недели, а европейское Рождество действительно наступило, но это было вчера.
Пораженный, кавалер вернулся к себе. Ну и страна! Весь мир отмечает Рождество, а у них 15 декабря. И он-то хорош: проспать самый замечательный праздник в году. Впервые в жизни он потерял день — и какой! Первый день в этой варварской, льдистой стране, где все не как у людей и даже календарь перепутан!
ПРОГУЛКА
Неистребимая любознательность — одна из главных страстей кавалера — погнала его на улицу, несмотря на сильный мороз. Натянув охотничьи сапоги герцога Карла, доходившие ему до колен, накинув на плечи герцогскую шубу, он вышел на набережную с целью осмотреть город и поглядеть на проживавших в нем женщин.
Он увидел город, выстроенный в подражание европейскому, но весь засыпанный снегом и заполненный дикарями. Улицы удивляли шириной, площади — громадностью. Дома терялись в окружавших их заснеженных пустырях; — возведенные из непрочного материала, они были грязны, обшарпаны и неухожены. Вывески лавок, большей частью немецкие и французские, свидетельствовали, что в России население, за исключением простонародья, говорило на этих языках.
Через Неву было протоптано множество тропинок, по которым сновал народ, бегали собаки, ехали экипажи и груженые возы. Решив перебраться на другую сторону, кавалер спустился на лед. На Петербургском острове он побывал в деревянном домике немногим больше собачьей конуры, где якобы жил император Петр; рядом, в городской крепости, служившей тюрьмой, он был погребен благодарными потомками. Странный повелитель странного народа, невольно подумал кавалер. Что за мысль строить флот в сухопутной стране! Много лет народ напрягал все силы, чтобы его властелин мог ввозить из Европы в обмен на лес, хлеб и пушнину — единственное достояние отсталой страны — шелка и бархат, зеркала и картины, духи и бриллианты для своих приближенных. Московиты называют это прогрессом. Вместо того чтобы навести порядок в своей несуразно громадной державе, сей монарх приказывает с такого-то года сделаться ей Европой, а не то голову с плеч. Как надо ненавидеть все российское, отечественное, чтобы даже столицу назвать на чужом языке!
Но более всего заморского гостя поразили туземцы. Они имели совершенно азиатский вид. Мужчины, за исключением проезжавших в каретах, были сплошь косматы и бородаты, в нагольных шубах из бараньих шкур либо в грязных ватных кафтанах и в нелепых головных уборах самых разных фасонов. Что касается прекрасного пола, тут кавалера постигло жестокое разочарование: изредка встречавшиеся на улицах женщины оказывались на редкость безобразными, с сердитыми красными лицами и сиплыми голосами, причем сплошь старухи. Одежда их не поддавалась описанию: какие-то салопы, тулупы, замотанные грязными платками головы, неряшливые подолы, метущие снег. Каждая из горожанок что-то несла: то корзину с провизией, то узел непонятно с чем, а то и коромысло с бидонами. Кавалер приуныл. Вряд ли в этом обледенелом городе судьба расщедрится на приятные знакомства.
Вернувшись в гостиницу и предвидя унылый вечер, он решил разобрать рекомендательные письма и срочно начать делать визиты. В конце концов он приехал в Петербург по делу, и нечего разглядывать невзрачную раковину, когда важна жемчужина. Однако его ждал приятный сюрприз. Герр Бауэр предложил ему билет на костюмированный бал, назначенный для всех желающих в новом зимнем дворце императрицы. Обрадованный кавалер тут же заплатил немалые деньги и за билет, и за домино, любезно предоставленное ему предусмотрительным немцем, и, плотно перекусив, в сопровождении лакея направился на бал.
БАЛ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
Добрались они быстро: «Золотой якорь» от дворца был не очень далеко. Уже стемнело, и кавалер, полный нетерпения, не очень-то разглядывал дворцовый фасад, отметив невольно его большую длину. Перед подъездом сгрудилось множество саней и карет. Тут же на снегу горели костры, возле которых грелись возницы. Окна дворца были ярко освещены, а некоторые даже распахнуты несмотря на мороз. Легко выпрыгнув из шубы и наказав Гансу стеречь ее, кавалер взбежал по ступенькам, в нетерпении перепрыгивая их длинными, сильными ногами, и вошел в огромный, полный гостей вестибюль.
Дворец был роскошен; пожалуй, даже слишком, по-азиатски чрезмерно роскошен; везде танцевали пышно разодетые гости. Он шел и шел по залам, от пола до потолка покрытым золотыми узорами. Зеркала еще увеличивали блеск золота и свечей. Казалось, золото просачивалось сквозь стены и струилось по ним, свиваясь в прихотливые завитки. «Эта страна очень богата,— думал кавалер.— Почему я не приехал сюда раньше? Молодая страна, сколько возможностей для острого ума и смелого духа...» Толпы в масках: тафта, атлас, парча, сверкающие бриллианты. Запах — по-лошадиному потом и несвежим дыханием. Впрочем, так пахло от толпы во всем мире. «Но где же хозяйка всех этих богатств, где Екатерина? Такая же самозванка, как и я. У нее на имя Екатерины не больше прав, чем у меня, Казановы, на имя кавалера де Сенгальта. Присвоившая чужое имя, она должна быть снисходительна и ко мне. Где же она?»
Те, кто не танцевал, толпились возле буфетов. Они красовались всюду, ломясь от такого количества снеди, которое можно увидеть разве что на полотнах голландцев. Каждый гость брал сам что хотел и тут же поглощал с завидным аппетитом, ничуть не заботясь о манерах. Кавалеру оставалось только пожалеть о своей недавней трапезе. Впрочем, внимание его было направлено на другое. Тут было множество женщин, иные в масках, иные с открытыми лицами, молодых и привлекательных, так что у него разбегались глаза. Откуда они взялись и где прятались днем? Он ходил по раззолоченным залам, любуясь все новыми и новыми красотками: каждая была достойна любви. К сожалению, все они уже располагали ухажерами и веселились от души, не замечая в толчее великолепного иностранца; впрочем, он был в маске. Охотничий инстинкт вел его из зала в зал; нынче вечером он был намерен обязательно завладеть женщиной, и он неторопливо выбирал цепким, опытным глазом, подстерегая добычу, как отощавший за зиму волк беспечную овечку. Ему хотелось подстеречь овечку пожирнее: среди всяческой мелкоты, наполнявшей в этот вечер дворец, скрывались, наверно, и знатные дамы, бывшие в состоянии ввести любовника в высшее общество и щедро снабдить его деньгами, как всегда поступали парижанки.
В одной из зал он приметил очаровательную юную особу, нарядно одетую и окруженную поклонниками; лицо ее скрывала маска. Поскольку разговор шел по-французски, кавалер прислушался. Мужчины сыпали комплименты, дама изящно отшучивалась. Без сомнения, это была какая-нибудь русская княгиня. Обрадовавшись, кавалер постарался не упустить ее из вида и целый час следовал за прелестной незнакомкой по пятам. Счастливый случай представился, когда, послав спутника за лимонадом, дама удалилась к оконной нише и, желая отдохнуть, сняла маску. Кавалер остолбенел: перед ним была крошка Барэ, чулочница с парижской улицы св. Гонория. Семь лет назад он свел с нею короткое знакомство: помнится, сначала она примеряла ему в лавке чулки, потом они перешли в заднюю комнату и предались любви, потом он гулял на ее свадьбе, счастливо с нею развязавшись. Каким образом она в Петербурге? Все та же ослепительная кожа, прелестные зубки, томные глаза. Кавалер стремительно приблизился, но плутовка тотчас надела маску
— Слишком поздно, прелестная мадам Барэ, я узнал вас. Она хотела уйти, однако он схватил ее за руку:
— Почему вы убегаете? Неужели вы забыли своего давнего обожателя? А как поживает господин Барэ? Довольны ли вы своим муженьком?
Поняв, что не отделаться, она приложила пальчик к губам и, взяв кавалера под локоть, повлекла его в другую комнату.
— Я вижу, сударь, вы знавали меня в Париже. Не выдавайте меня. Я представилась московитам знатной особой.
— Значит, вы бросили мужа и умчались в Россию?
— С директором Комической оперы.
— Который оказался лучше господина Барэ?
— Он оказался мерзавцем, заставлявшим меня голодать, чтобы я торговала собой. Меня спас граф Пржобовский, польский посланник. Теперь вы знаете мою историю и должны назвать себя.— Как? Я до сих пор не узнан? Вспомните гостя на вашей свадьбе, с которым вы уединились на чердаке.
— Ах, Леон! Как я сразу не узнала вас по росту... «Черт возьми!» — подумал кавалер.
— Не совсем,— поморщился он.— Уж того, с кем вы обедали однажды в «Пти-Полонь» наедине, надеюсь, вы не забыли?
Она смутилась:
— Как? Господин Анатас?
«Черт возьми!» — снова подумал кавалер.
— Нет, сударыня, я не Леон и не Анатас и не желаю ими быть ни минуты. Я тот, кому вы примеряли чулки в лавочке на улице св. Гонория и кого одарили наслаждением в комнате за лавочкой.
— Так это вы, дорогой Роже! — кинулась она ему на шею. Он снял маску.
— Казанова! — опешила красавица.
— Кавалер де Сенгальт,— с улыбкой поправил он.
— Маркиза д’Англанд,— расхохотавшись, присела она. Прильнув к нему, цепко ухватившись за локоть, она повела его по дворцу, щебеча:
— Вас привел сюда мой добрый ангел...
Кавалер не сопротивлялся: Барэ так Барэ. Он уже пылал и был не прочь уединиться с красавицей. Хотя вовсе не стоило ехать за тысячи миль от Парижа, чтобы встретить тут парижскую чулочницу.
— А что скажет граф с непроизносимой фамилией? — томно осведомился он.
Чулочница беспечно рассмеялась:
— Графа уже нет. Граф уехал в Варшаву и не захотел взять меня с собой.
Кавалеру все стало ясно: красотка рассчитывала на его кошелек, который, к сожалению, был пуст.
— На графе свет клином не сошелся,— напомнил он.— Неужели вы не сыскали другого поклонника?
— Здесь у всех знатных московитов уже есть французские содержанки,— вздохнула она.— Большая конкуренция. Я могла бы вернуться в Париж, но кто оплатит дорогу?
Стоя в толпе, они смотрели на танцующих, ожидая своей очереди. Среди гостей возникло легкое замешательство, по залу зашелестело: «Императрица...» Мигом забыв о Барэ, кавалер встрепенулся. Он выпрямился во весь свой немалый рост, высматривая поверх голов венценосную самодержицу.
Вот она,— сказал кто-то сзади.— Думает, будто в маске ее никто не узнает. Но Орлов без маски и следует за нею, как тень.
Действительно, по залу прогуливалась Екатерина. Нет, не ради Барэ он проделал тысячи миль и мчал в Петербург по трескучему русскому морозу. Желанный миг наступил скорее, чем он ожидал, внезапно, но врасплох не застал. Сердце кавалера радостно затрепетало. К нему приближалась императрица. Гости делали вид, будто не узнают ее, однако почтительно расступались и провожали глазами. Екатерина была невысока и довольно полна; на узких губах ее — единственная часть лица, не закрытая маской — играла улыбка. Ее движения были плавны, походка медлительна; широкая одежда не позволяла видеть ничего. Сзади шествовал великан-гвардеец с красивым, нахальным лицом, победно оглядывая окружающих.
Кавалер приосанился и выпятил грудь, страстно желая, чтобы императрица заметила его. Екатерина походила по залу среди огромной толпы, изображая гостью и с интересом наблюдая за происходившим. Направляясь к выходу, она прошествовала невдалеке от кавалера, и сквозь прорези маски в него вперились цепкие глаза. Их взоры скрестились. Неуловимый миг они были одни в зале. У кавалера захватило дух: сомнений не могло возникнуть, им любовалась женщина; безошибочным чутьем он угадал любопытство и удовольствие, мелькнувшее во взгляде императрицы. Громадный Орлов тут же заслонил бесценную спутницу, весьма хмуро глянув на дерзкого незнакомца, и увел ее прочь.
Не слушая щебет Барэ, кавалер еще долго наблюдал за Екатериной, следя, как в соседнем зале она подсела сзади к группе гостей, незаметно прислушиваясь к их беседе.
— Царица рискует услыхать слишком откровенные высказывания о себе,— заметила чулочница.
— Государям это иногда небесполезно,— тонко улыбнулся кавалер.
Барэ звала кататься по городу, как это здесь принято. Он был так полон Екатериной, что не вслушивался. Императрица занимала все его помыслы. Как горделиво выступал следом за нею Орлов! А ведь это место не дается навечно, рано или поздно его может занять кто-нибудь другой. Следовательно, не теряя времени, добиваться представления ко двору. Завтра же он отправится с визитами к людям, в силах коих помочь ему.
Ночь он провел у своей чулочницы.
ГЕНЕРАЛ МЕЛИССИМО
Среди других у него было рекомендательное письмо к княгине Дашковой, молодой даме высшего круга, близкой к императрице и, по словам певицы Лолио, большой любительнице итальянской музыки. Разодевшись в бархат и кружева, унизав пальцы сверкающими кольцами, накинув на могучие плечи шубу Карла Бирона, кавалер уселся в сани и не без опаски доверил себя искусству возницы. Никаких происшествий за время пути не случилось за исключением того, что лошадь уронила на снег несколько ржавых шаров.
По дороге кавалер вспоминал оперы, какие доводилось ему слушать, чтобы пленить знатную меломанку. Однако его ждало разочарование: княгиня оказалась в отъезде. Та же Лолио дала ему письмо к артиллерийскому генералу Мелиссимо — бывшему ее покровителю, и кавалер велел отвезти себя в Литейную часть, где стояли артиллеристы.
Суровое лицо генерала мечтательно затуманилось при имени г-жи Лолио. Прием кавалеру был оказан любезный; его оставили обедать. Жилище генерала приятно удивило гостя: в центре Петербурга он нашел дом совершенно во французском вкусе. Хозяйка, одетая по моде не столь давних лет, прилично изъяснялась по-французски и имела манеры если и не совсем светские, то вполне достойные. Гостя представили собравшемуся к столу обществу как парижанина, путешествующего ради своего удовольствия. Решив всех очаровать, кавалер быстро завладел разговором и поведал московитам о своих недавних встречах с королем Фридрихом, о беседах с Вольтером и Руссо, о придворных забавах в Фонтенбло. Гости примолкли, внимая. Особенное впечатление рассказы кавалера произвели на брата хозяина, директора Московского университета, и его жену, урожденную княжну Долгорукую,— возможно, потому, что они лучше остальных понимали французскую речь-скороговорку. Уже выйдя из-за стола, они продолжали расспрашивать его о французской литературе, главным образом о Вольтере, но кавалер краем глаза заприметил, что в соседней комнате готовятся приступить к «фараону», и весь интерес к литературной беседе у него пропал.
Один из офицеров, присутствовавших среди гостей, развязный малый, весело предложил кавалеру войти в банк. Тот сгорал от желания, однако, не желая сразу показать себя завзятым картежником, стал отнекиваться; уступил он с видимой неохотой. Банкометом был Лефорт, внучатый племянник знаменитого фаворита императора Петра, приохотившего к европейской культуре владыку московитов. Устремив на кавалера насмешливые глаза и отметив, как любовно и умело обращается тот с картами, он усмехнулся, угадав заядлого игрока. Он и сам был не промах; однако генерал Мелиссимо был его другом, и он решил быть начеку. Однако кавалер вел себя осторожно, наблюдая за другими. Сосед его, офицер Зиновьев, горячился, делал ошибки, и он покровительственно несколько раз удержал молодого человека от оплошностей. Остальные игроки хранили невозмутимое молчание. Персоны высшего света, они проигрывали спокойно, выигрывали равнодушно. На глазах изумленного кавалера некий князь разом проиграл десять тысяч и глазом не моргнул. «Эге,— подумал кавалер,— здесь можно будет поживиться, даже не прибегая к шулерским приемам». Для первого раза он играл с большой умеренностью, так что выигрыш его в итоге составил лишь несколько рублей. К тому же его беспокоили испытующие глаза Лефорта: кавалер терпеть не мог, когда его слишком пристально рассматривали.
Игра в тот вечер не слишком затянулась; из-за стола встали рано. Встретив в очередной раз взгляд Лефорта, кавалер любезно улыбнулся:
— Как спокойно, с какой выдержкой проиграл князь целое состояние. Подобное хладнокровие редкость среди игроков.
— Велика заслуга! — усмехнулся Лефорт.— С таким же хладнокровием он мог бы проиграть и сто тысяч. Ведь он не заплатит.
— Как так? — опешил кавалер.— А честь?
— В доме генерала играют ради самой игры, не ради денег,— насмешливо улыбнулся его собеседник.— У нас такое правило: когда играют на слово, можно не платить. Вот и Зиновьев проигрался в пух и прах, а не заплатит. А, Зиновьев? — обратился он к развязному офицеру.
— С какой стати я стану платить? Что я здесь, богаче всех? — невозмутимо отозвался тот.
Кавалер был поражен: зачем тогда браться за карты, если играют не на деньги! Вряд ли стоит часто бывать в доме, где придерживаются столь странных правил. К тому же генерал Мелиссимо вовсе не придворный, а артиллерист, и большую часть времени проводит не во дворце, а в военных казармах: помочь гостю добиться аудиенции у императрицы не в его силах.
Выйдя в сопровождении Зиновьева на улицу, кавалер выразил свое недоумение по поводу странного правила не платить карточные долги.
— Едем в Красный Кабак,— отозвался беспечно тот.— Вот где настоящая игра!
— Вы и там собираетесь играть на слово? — не без иронии осведомился кавалер.
— А что? Мне верят,— не смутился тот.— Всем известно, что мой кузен — Григорий Орлов.
— Вы в родстве с Орловым! — даже приостановился кавалер; нагловатый этот гвардеец сразу сделался ему интересен.
— И даже в очень близком: все пятеро Орловых мои двоюродные. А с Григорием мы в Кенигсберге служили, графа Шверина караулили,— Зиновьев был доволен произведенным впечатлением.
— До чего же мал мир! — ахнул кавалер.— Я отлично знаю графа Шверина, и он рассказывал мне о русском плене, о своих друзьях-стражах... Красавец, умница!
— А танцор не хуже меня.
Сразу почувствовав взаимное расположение, они сели в сани.
— Я бы хотел быть представленным ко двору,— как бы между прочим обронил кавалер.— Я ехал в Россию с мыслью увидеть императрицу...
— И не мечтайте! — перебил гвардеец.— Гришка не позволит: вы мужчина видный, а он до императрицы допускает только старцев не моложе шестидесяти лет.— И захохотал, довольный остротой.— Другое дело, если я похлопочу...
— Сделайте милость.
Зиновьев принялся рассказывать об Орлове и своей дружбе с ним.
— Не одна бабенка вздыхала о нас,— хвастал он. Кавалер молча усмехнулся щенячьему бахвальству: хвастать победами над женщинами перед несравненным Казановой, возлюбленных которого было не счесть, а юные отпрыски рассеяны по всей Европе! Этот Зиновьев хвастунишка и пустозвон, однако человек нужный.
Гвардеец продолжал болтать. Фаворит младше Екатерины на пять лет. Ей уже под сорок. Его предшественник — приторно сладкий коротышка Понятовский; нынче он король Польши. Орлов — Геркулес с лицом славянина. Екатерина собиралась выйти за него замуж, что и сделала бы, если бы не интриги злопыхателей.
Если бы не Гришка, у нас не было бы Екатерины, а изгилялся бы на троне голштинский ублюдок Петрушка,— откровенничал Зиновьев.
А в сердце кавалера больно вонзалась игла. Почему он не приехал сюда раньше? Чем он был занят три года назад, когда здесь совершались великие события? Перерождал старуху д’Юрфэ? Воевал с чертовкой Кортичелли, убил на дуэли д’Ашэ? Он мог бы перерождать великую княгиню в императрицу. Вот где кипела жизнь, вот где шла настоящая игра! Не все еще потеряно. Если бы только добраться до Екатерины! Ему не страшен никакой Орлов, ибо не родился еще на свет мужчина, равный в амурных делах Казанове.
— Осматривал ли господин де Сенгальт город? — осведомился Зиновьев; он явно старался подружиться с иностранцем.
— Да,— рассеянно кивнул кавалер.— Я еще не побывал на Васильевском острове. Говорят, там недавно производилась публичная казнь важного государственного преступника.
Зиновьев вмиг отрезвел:
— А вот про это молчок. Я про это знать не знаю. Кавалера удивил такой отпор — впрочем, не надолго. Вскоре ему стало известно о заговоре Мировича и гибели несчастного Иоанна: еще один законный император был умерщвлен ради того, чтобы в России царствовала захудалая Ангальт-Цербтская принцесса.
В тот раз они доехали до Красного Кабака, ограничившись городскими заведениями. Впрочем, кавалер соблюдал везде умеренность, заботясь о сохранении своей репутации, которая могла ему еще пригодиться. Он предпочел стать постоянным посетителем дома генерала Мелиссимо, предпочитая блистать не за игорным, а за обеденным столом респектабельного семейства. Желание понравиться завело его так далеко, что он даже рассказал обществу о своем побеге из-под «Пломб» — однако не произведя ожидаемого впечатления. Слушателей шокировало то, что он сидел в тюрьме и считался государственным преступником. Быстро усвоив урок, он решил помалкивать о кое-каких подробностях из своего прошлого.
ГОСПОЖИ РОКОЛИНИ И ПРОТ
«Смотри: глубоким снегом засыпанный,
Соракт белеет, и отягченные
Леса с трудом стоят, а реки
Скованы прочно морозом лютым...» —меланхолично повторял кавалер строки Горация, созерцая каждое утро заснеженную пустыню Невы. Настало и прошло с запозданием почти в две недели русское Рождество, вызвав его недоуменные вопросы о календаре московитов. Священник в костеле св. Петра и Павла объяснил ему разницу летоисчисления по юлианскому и григорианскому календарям, что вызвало новый взрыв его негодования.
«Что за страна! — размышлял он.— У них все не как у людей. Столицу они строят на самом краю огромного государства, на обледенелом восемь месяцев в году болоте. Своих императоров погребают в тюрьме. При письме используют какой-то непонятный алфавит. В то время как весь мир, весело встретив Новый год, живет в январе, московиты продолжают существовать в декабре. Закоснелые, невежественные, вечно отстающие от Европы, они изо всех сил стараются казаться такими же, как мы, хотя римско-католическая культура этим порождениям азиатских степей совершенно чужда!»
После Рождества у московитов кончился пост, и столичная жизнь заметно оживилась. Зиновьев обещал большую игру. Разжившись деньгами у банкира по векселю, данному ему бароном Труделем, кавалер с нетерпением стал ждать, когда Зиновьев введет его в избранный круг высокопоставленных картежников. Тот рассказывал что-то про английского посланника, про дом графа Чернышева, но в конце концов объявил, что самая крупная игра идет в пресловутом Красном Кабаке, где собираются все гвардейские офицеры. О намерении представить иностранца родственнику своему Орлову он упорно помалкивал.
Чтобы укрепить дружбу, кавалер свозил Зиновьева и его приятеля Брауна к своей чулочнице Барэ, но оказалось, что Зиновьев давно и коротко ее знал. Впрочем, второй офицер был сразу же пленен парижанкой, тем более что она просила недорого. Оставив его у дамы, кавалер повез Зиновьева к некоей венецианке Роколини, к которой имел рекомендательное письмо.
Едва узрев землячку, он признал в ней давнюю свою знакомую, миловидную брюнетку, с которой имел в юности связь. Быстро вычислив ее возраст, он потерял к ней интерес: хорошо сохранившись, она могла еще вызвать мимолетное желание, но и только. Роколини предпочла его не узнавать; он не настаивал, несколько обескураженный обилием в Петербурге своих давних подружек. Догадавшись, что не заинтересовала гостей своими сорокалетними прелестями, Роколини пообещала познакомить их с красавицей-подругой, что и сделала во время ужина. К ней пожаловала истинная красотка. Кавалер был ослеплен; ему даже показалось, что никогда в жизни он не встречал женщины, подобной г-же Прот, француженке, содержанке некоего сановника. Его любвеобильное, легко воспламенявшееся сердце было свободно, ибо не чулочница могла его надолго удержать. Но обладание Прот должно было стоить немалых денег, а он ими не располагал, и эта мысль отрезвила его.
КРАСНЫЙ КАБАК
Наконец Зиновьев повез иностранца в Красный Кабак. Причиной его промедления был неоплаченный карточный должок и то, что некий невежа пообещал непозволительным образом коснуться ладонью его щеки. Впрочем, кавалеру знать все это было необязательно.
— Васька, ты? — удивился первый же встреченный офицер.
— Я с иностранцем,— осадил его Зиновьев,— по поручению самого Григория Григорьевича.
Кавалер не владел местным наречием, иначе слова веселого спутника заставили бы его, возможно, задуматься.
Имя Орлова произвело немедленное действие: их тотчас оставили в покое. В одной комнате шла довольно крупная игра, но ставки были сделаны, и со стороны никого больше не принимали. Понаблюдав досадливо за игрой, да к тому же потеряв Зиновьева, который, позабыв Орлова, юркнул куда-то, избегая своего неприятеля, кавалер прошел в другую комнату и присел невдалеке от группы офицеров, оживленно беседовавших между собой, сгрудившись у стола и перемежая болтовню громким смехом. Карт тут не было. Они курили глиняные голландские трубки с кнастером и прихлебывали пиво, из чего кавалер заключил, что это не московиты: он уже знал, что любое сборище московитов не обходится без обильного потребления продуктов Бахусовых.
Разговор шел по-немецки; как понял кавалер, гусары отмечали встречу с сослуживцем, вернувшимся после нескольких лет отсутствия снова наниматься на русскую службу. Тема заинтересовала кавалера. Он проделал сотни миль по трескучему морозу не только из-за мечтаний о Екатерине; на первых порах не худо было бы получить какое-нибудь место, приносящее твердый доход,— например, стать офицером. Однажды он уже побывал военным; двадцать лет назад служил Венецианской республике в чине прапорщика. Как шел ему мундир! А какая игра шла на Корфу, где стоял его полк! Не продай он тогда патент, нынче дослужился бы до генерала. Что ж, время не упущено: он сейчас как раз в генеральской поре. И кавалер вежливо обратился к поблизости сидевшему гусару с вопросом, как нанимаются в офицеры. Тот несколько удивился, но, оглядев могучего, красивого мужчину, дал нужные разъяснения. Его пригласили к общему столу. Назвавшись, он счел долгом рассказать о себе. Бойкий говорун, привыкший блистать в обществе, он несколько злоупотребил вниманием гусар, однако слушали его достаточно внимательно. Ганноверец, разливавшийся до того соловьем, тоже притих, поглядывая на кавалера маленькими сонными глазками.
— Я выехал в самую глухую пору, в трескучий мороз,— рассказывал кавалер,— и путь от Риги до Петербурга проделал за 60 часов. Борода моего возницы замерзла сосульками, лошади покрылись инеем; дыхание, и то застывало в воздухе...
— Это что! — подал голос ганноверец.— А вот когда я ехал в Петербург, мороз был такой, что замерзли звуки.
Слушатели с веселым оживлением повернулись к нему.
— Как так? — изумился кавалер.— Неужели в России и такое возможно?
— Представьте, колокольчики звенели, возница всю дорогу дудел в рожок, и ничего не было слышно. А ночью на постоялом дворе внезапно рожок начал издавать громкую музыку. Мы вскочили, ничего не понимая. И лишь когда услышали ругань нашего кучера, догадались, что замерзшие звуки оттаяли.
Кавалер молчал, не в силах понять, шутит ли рассказчик или говорит правду. Ганноверец хлопал сонными глазками, лицо его дышало правдивостью. Желая снова привлечь к себе внимание, кавалер продолжал рассказ о собственных приключениях.
— Всю дорогу вокруг нас завывали волки, так что я не выпускал из рук пистолета. Иногда вдалеке мелькали их оскаленные морды...
Тут кавалер немного приукрасил пережитое и с неприязнью покосился на ганноверца. Тот, мужчина средних лет, холеный и упитанный, с младенчески простодушным лицом, невинно моргал глазками.
— Со мною было не такое,— изрек он, едва кавалер замолчал.— Однажды я ехал в одноконных санях из Гатчины в Петербург. Вдруг вижу, что меня настигает чудовищной величины волк...
И болтун поведал восхищенным слушателям, будто волк перепрыгнул через его голову, набросился на лошадь, вгрызся в нее и сам оказался в упряжке.
— Так я и въехал в город на волке,— невозмутимо заключил враль.
Гусары восторженно гоготали.
— Правильно ли я вас понял, сударь? — попросил уточнить кавалер, не совсем свободно владевший немецким.— Вы утверждаете, будто въехали в Петербург на волке, который съел вашу лошадь?
— Совершенно верно.
— Но, позвольте, как же это возможно?
— Сам удивляюсь. Вся Литейная часть видела это. Перед ним был лжец, и кавалер решил его изобличить:
— Тогда где же волчья шкура? Ганноверец ничуть не смутился:
— Ужасное чудовище вывалило меня в сугроб и умчалось по льду на правый берег Невы.
Над ним смеялись. Кавалер уже подумывал, не схватиться ли за шпагу и не продемонстрировать ли господам гусарам свой неотразимый удар справа, но, вспомнив о намерении сохранять в Петербурге доброе имя, отвернулся, полный негодования, бормоча строки Горация:
Дерзко рвется изведать все род людской
И грешит, став на запретный путь...
У гусар в ход пошли охотничьи истории, одна невероятнее другой. Кавалер молчал, насупившись. Зачем он в этом Кабаке? Играть офицеры не собирались, предпочитая развлекаться чудовищными небылицами вроде истории о том, как, попав где-то под Петербургом в болото, враль вытащил себя за волосы. Противный, пухлый ганноверец с пальцами-колбасками, которые, наверно, и шпагу-то держать не умели, торжествовал победу, а на пренебрежительное замечание кавалера об охотничьих побасенках дерзко ответил:
— Охота, как и воинские подвиги, более к лицу дворянину, чем затхлая латынь или кружевные манжеты.
Тут уж кавалер не выдержал и встал:
— Перед вами кавалер де Сенгальт. С кем имею честь?
— Барон фон Мюнхгаузен-ауф-Боденведдер,— вежливо привстав, поклонился тот.
Это была знатная фамилия, и не безродному венецианцу, найденному однажды в капусте веселой Коломбиной, тягаться бы с ее носителем, однако, давно считая себя дворянином, кавалер пошел напролом:
— Господин барон, ваши истории неправдоподобны.
Все молчали в ожидании. Барон сострадательно разглядывал кавалера.
— Как, сударь? Неужели вам никогда не приходилось вытаскивать себя из болота за волосы?
Кавалер задумался. Пожалуй, он делал это довольно часто. Наглец был прав! Хитрые маленькие глазки добродушно ждали ответа.
— Иногда приходилось,— серьезно кивнул венецианец.
— Стало быть, вы более не сомневаетесь в моей правдивости?
Крыть было нечем. Любезно раскланявшись, они отвернулись друг от друга.
КРЕЩЕНЬЕ
Помимо генерала Мелиссимо и княгини Дашковой у кавалера де Сенгальта не было рекомендательных писем ни в один богатый петербургский дом, где можно было обрести нужные знакомства. К сожалению, волнующая воображение княгиня была в отъезде, а генерал Мелиссимо к сановному кругу не принадлежал и к тому же был невыносимо добропорядочен. Кавалер испытывал нужду в больших деньгах: он мечтал о дорогостоящей красавице Прот и вообще привык жить на широкую ногу. Деньги могла дать только игра. Зиновьев ввел его в несколько домов, где играли, из коих лучшим был дом некоего Баумбаха, гамбуржца на русской службе, где собирались в основном офицеры. Ставки были невелики, к тому же Баумбах плутовал, и кавалер несколько раз готов был схватить его за руку, но удержался, надеясь на крупную рыбу. Игроки считали его человеком со средствами, и он, разумеется, никого не разуверял. Несколько отличных перстней, табакерок, париков и кафтанов в любой стране, а особенно в России, где с таким почтением относятся к одежде, позволяли казаться состоятельным дворянином, даже если в кошельке пусто, а происхождение сомнительно. Одним словом, кавалер не был доволен тем, как шли его петербургские дела. Одеваясь на прогулку и размышляя, навестить ли вечером чулочницу, либо дом Баумбаха, либо г-жу Роколини, дабы полюбоваться г-жой Прот, в которую он мнил себя влюбленным, кавалер был приведен в гнев одним пустяковым обстоятельством, однако имевшим следствием приятное знакомство. Сев на диван, дабы лакей мог натянуть на его ноги сапоги, он почувствовал сквозь тонкие чулки жгучие укусы каких-то тварей. Преисполненный нешуточного негодования, он велел Гансу позвать хозяина.
Любезный, меня кусают,— без обиняков объявил он. Не может быть,— оскорбился тот.— Обработка сделана по науке, любая живность не выдержала бы.
— Сядьте на этот диван,— потребовал кавалер.
Герр Бауэр повиновался. Некоторое время он сидел неподвижно, однако, не выдержав, начал почесываться.
— Это кавалерия,— определил он.
— Какая еще кавалерия?
— Блохи. Против них средств нет.
— Черт побери! — заорал кавалер.— За что я плачу?
— По дому бегают кошки и собаки, слуги валяются на диванах,— развел руками хозяин.— Зато у нас нет тараканов,— гордо напомнил он.
— Приготовьте счет, я съезжаю,— холодно перебил кавалер.
— Уж не в «Золотого льва» ли? — встревожился герр Бауэр.— Так знайте: они своих тараканов нынче не вымораживали, там их полно.
— Что за страна! — в бессильном отчаянии воздел руки кверху кавалер.
— Будто в Италии нет насекомых,— ободрившись, заворчал хозяин.— У нас еще один итальянский сеньор проживает, и ничего, не жалуется.
Они стояли в дверях, а итальянский сеньор как раз спускался по лестнице. Это был небольшой старичок, одетый с артистической вольностью, но, впрочем, вполне приличный на вид.
— Как, сударь, вы не жалуетесь на укусы ужасных насекомых, коими кишит этот отель? — обратился к соотечественнику на родном языке кавалер. Старичок, приостановившись, задумался:
— Так это насекомые? Иногда я замечаю, будто что-то покалывает.
Он куда-то спешил и не стал вдаваться в дальнейшее обсуждение.
— Это придворный архитектор. Он строит для самой императрицы,— хвастливо сообщил герр Бауэр.— Страшный богач. Имеет собственный выезд и личных слуг. Вполне мог бы купить себе дом, но живет у меня, ибо считает «Золотой якорь» лучшей гостиницей в Петербурге.
Кавалер навострил уши. Архитектор императрицы... Это знакомство могло пригодиться. Шагая по скрипучему снегу, коим были щедро усыпаны невские берега, он размышлял, что не худо бы поближе сойтись с соседом по гостинице. Он уже понял, что от Зиновьева ждать ничего не приходилось, кроме вечного попрошайничества; сам любитель пускать пыль в глаза, он быстро угадал собрата. По слухам, Орлов и на порог не пускал своего родственника. Все приятели Зиновьева оказывались вроде Баумбаха либо Брауна. Впрочем, и они были небесполезны: у Баумбаха кавалер чуть не каждый день играл, а Брауну сплавил надоедливую чулочницу-попрошайку.
Он шел смотреть на странный местный обычай. Ему рассказали, что в русское Крещенье принято освящать воды; нынче на Неве, после богослужения, священники проделают это и, к тому же, станут крестить младенцев. Полный любопытства, он стремил шаги туда, где возле проруби на Неве уже толпился народ. Морозило крепко: изо ртов валил пар; везде торчали синие и красные носы.
Церемония водосвятия показалась иностранному наблюдателю весьма экзотичной; ежегодное обручение венецианского дожа с морем он воспринимал как нечто обычное. Блистающие золотыми ризами, бородатые священники райскими птицами красовались на фоне белого снега и темной толпы. Кавалер держался поодаль: даже здесь, на морозе, его нежный нос чувствовал простонародное благоуханье.
Особенно удивило его крещение новорожденных, их жалкие, обнаженные тельца, безжалостно раскутываемые из пеленок. Вместо того чтобы кропить младенцам головки, священник, держа за ножку, окунал их в прорубь и мокрых, посиневших, захлебнувшихся, отдавал восприемникам. Случилось так, что одного он не удержал, и младенец ушел под лед. Потрясенный народ счел утопление дитяти знамением. Священник что-то объяснял толпе. Как перевел кавалеру стоявший рядом господин в мундире: «Свыше указание: несите следующего».
После утопления крещение в проруби продолжалось как ни в чем не бывало. К изумлению кавалера, родители (или восприемники?) злосчастного ребенка стояли с глупо сияющими лицами.
— Они радуются, что их дитя будет в раю,— объяснил по-французски любезный господин,— ибо верят: кто покидает жизнь, принимая святое крещение, идет прямо в рай. Нравы нашего простонародья еще очень грубы, а верования примитивны.
Подавленный увиденным, кавалер поспешил домой. Мороз все усиливался, в воздухе висел белесый туман, солнца нигде не было видно.
Что за страна, что за народ! — ахал он.
Какой-то встречный московит внезапно бросился к нему и схватив с перил горсть снега, залепил в ухо кавалеру. Толкнув нахала, венецианец схватил его за грудки и принялся с яростью трясти. Он был мощен и силен, так что у московита голова моталась, зубы лязгали и слетела шапка.
Замерзший и злой, он ворвался в спасительное тепло «Золотого якоря». В гостинице ему объяснили непонятную выходку прохожего: ухо у него совсем побелело, и сердобольный встречный, вовсе не намереваясь оскорбить иностранца, хотел помочь беде, ибо кто не знает, что отмороженное ухо надо тереть снегом.
— Ну и нравы! — возмущался кавалер.— Тереть снегом вместо того, чтобы согреть замерзшее место! Что в головах у этого народа?
АРХИТЕКТОР ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА
К соседу-архитектору кавалер не замедлил явиться с визитом и застал врасплох, по-домашнему одетым, без парика, что давало возможность любоваться его обширной лысиной.
— Антонио Ринальди, неаполитанец,— назвался тот в ответ на вежливое представление гостя.
Соотечественник кавалера, он не имел в лице ничего южного, экзотического; приклей ему бороду, надень парик со стрижкой под горшок, облачи в тулуп, он сошел бы за московита. Не совсем старик, лет под шестьдесят, он выглядел гораздо старше: щеки были изрезаны глубокими складками, курчавые волосы сползли с темени далеко за уши, отчего его невысокий лоб казался больше. Выражение невзрачного лица было усталое, но глаза быстрые и живые.
— В Италии, помнится, я встречал графа Ринальди,— вежливо сказал кавалер.— Не ваш ли это родственник?
Знакомство было с дочерью самозваного графа, которую он любезно лишил невинности, но это к делу не относилось.
— В России имя архитектора Ринальди звучит громче, чем имя графа Ринальди в Италии,— по-петушиному вскинулся сосед. Кавалер любил Неаполь, в котором пережил столько приятных неожиданностей, однако неаполитанский говор никогда не ласкал его слуха. Впрочем, сам он изъяснялся только на венецианском диалекте. Архитектор ждал, когда незваный гость удалится, чтобы снова взяться за циркуль. Однако кавалер намерен был подружиться с ним и для начала любезно осведомился, над чем тот работает. Ход был верен. Глаза Ринальди блеснули:
— Работы у меня выше головы. Заканчиваю чертежи собора во имя святого Исаакия Далматского. Размышляю над проектом дворца в Гатчине. Осенью начну строить большой особняк на набережной Невы.
«Должно быть, и вправду императрица очень ценит этого Ринальди, раз поручает ему столь важные новостройки»,— подумал кавалер и еще более укрепился в намерении очаровать старого архитектора. Выросши среди красот Венеции, тем не менее он был равнодушен как к древней, так и к новой архитектуре,— однако тут решил прикинуться знатоком. Великолепная память выручила его. Вспоминая, что говорили про архитектуру выдающиеся люди, с которыми его сталкивала судьба, он принялся разглагольствовать. Мадам Помпадур умерла; стиль рококо уже не в моде. Идет новое время: воскрешение античности.
— Мой друг Винкельман говорил мне...— начал он.
— Как? Вы знаете Винкельмана? — подскочил архитектор: слушавший до того рассеянно, он весь преобразился.
— Весьма хорошо,— кивнул кавалер, поняв, что заинтересовал старика.
На этот раз он не приукрасил истину. Четыре года назад, гостя в Риме у брата-художника, он познакомился и близко сошелся с аббатом Винкельманом. Они вместе осматривали строившуюся виллу Альбани, где брат под руководством учителя своего — Менгса расписывал плафоны. Кавалер не преминул рассказать Ринальди про это чудо архитектуры.
— Кардинал Александр построил сей дворец из античных камней, наполнил его античными вазами и статуями, среди которых есть изумительные произведения искусства...
Ринальди с увлечением слушал, кивая:
— Мне писали... Мой учитель, преславный мастер Луиджи Ванвителли.
Старик говорил увлеченно, сыпал архитектурными терминами, которых кавалер не понимал, называл имена архитектурных светил, о которых кавалер не слыхивал,— однако это не мешало ему понимающе кивать.
— Открою вам первому,— между прочим сказал Ринальди, полагая, что гостю это весьма интересно.— Новое свое сооружение, дворец Орлова, я буду решать совсем в ином ключе. Я против механического перенесения античных мотивов...— И Ринальди опять утонул в терминах.
Для Григория Орлова строится дворец за дворцом! Недавно императрица подарила своему фавориту огромное поместье под Петербургом и тридцать деревень придачу. Вот что значит быть в нужном месте и в нужное время! Выскочка, гвардейский офицер, неродовитый, необразованный, грубый, с самыми низменными вкусами: псовая охота и выпивка его развлечения, о Горации он не слыхивал. И этому чванливому тупице сыплется с неба все — только за то, что он посадил немецкую принцессу на русский трон. Почему кавалер де Сенгальт не приехал в Россию три года назад! Сейчас бы ему строили дворцы! Он больше не слушал архитектора.
Обменявшись любезностями, заверив друг друга в удовольствии от знакомства, они расстались, выразив надежду, что еще не раз встретятся, чтобы досыта наговориться на родном языке.
КНЯГИНЯ ДАШКОВА
В «Золотой якорь» прибежал парнишка из челяди княгини Дашковой, нанятый кавалером дать знать о возвращении хозяйки. Он сообщил, что хотя княгиня и вернулась, но никого не принимает, так как недавно овдовела и сама больна. Такие пустяки не могли служить препятствием для кавалера. Нарядившись тщательнее обычного, рассовав по карманам часы и табакерки, сильно надушившись, он отправился с визитом в аристократический дом, причем слегка волнуясь, так как от этого визита многого ждал: двадцатилетняя вдова, урожденная графиня Воронцова, по мужу княгиня, подруга императрицы, помогавшая ей взойти на престол,— но, главное, женщина, молодая, одинокая, лишенная любви, не могла не волновать воображение кавалера де Сенгальта.
Привратник замахал руками, объясняя гостю жестами, что боярыня в трауре и никого не принимает. Позвали дворецкого, знавшего по-французски. Кавалер любезно попросил его передать княгине, что просвещенный иностранец приехал из Европы в Россию с единственной целью увидеть Двух великих женщин современности — императрицу и княгиню Дашкову, присовокупив к просьбе небольшую мзду, что произвело самое благоприятное впечатление: местные слуги в этом отношении ничуть не отличались от парижских.
Его приняли: как видно, тщеславие не было чуждо азиатским княгиням. Увы, заочная влюбленность кавалера испарилась, как только он увидел Дашкову: она оказалась отталкивающе некрасивой и неряшливо одетой, будто судомойка. Конечно, это не остановило бы его; герцогиня д’Юрфэ, его добрая покровительница, была еще дурнее и к тому же безнадежная старуха, а тут все-таки двадцать лет. Но траур, который носила княгиня, впитался ей в кожу, сделал серым лицо, погасил глаза, и они не зажглись при виде мужественного красавца, облаченного в роскошный камзол голубого бархата, отороченный горностаем.
Рассыпаясь в изысканных любезностях, достойных дворца французского короля, кавалер досадливо отмечал, что княгиня остается безучастной. Передавали, будто она очень образованна и умна. Что может быть противнее умной дурнушки?
— Из-за нездоровья я не могу уделить вам много времени,— перебила она его речь сиплым голосом.
— Благодарю вашу светлость за то, что вы снизошли к моей просьбе... Счастлив видеть особу, вписавшую свое имя в историю...
Лицо Дашковой посерело еще больше и перекосилось. Своим скрежещущим голосом она раздраженно заявила:
— Я слишком многое сделала для императрицы, но у нас не умеют ценить заслуги.
Кавалер прикусил язык: так дерзко отзываться о монархине! Уж не попал ли он впросак, явившись сюда?
Не обращая внимание на выражение его лица, Дашкова продолжала:
— Нынче я не в фаворе. Более того, меня обвиняют чуть ли не в измене. Орлов мой враг. Если вы ищете покровительства, я ничем не смогу вам помочь. Вы человек благородный, это сразу видать, а первое впечатление меня никогда не обманывает. Я отрекомендую вас графу Панину, воспитателю наследника и главе Иностранной коллегии. Вы можете смело идти к сему вельможе. Достаточно лишь сослаться на мое имя.
«И на том спасибо,— подумал он.— Однако, как самовластно она распоряжается милостями своего любовника...»
На обратном пути раздосадованный кавалер упрекал себя. Кажется, он совершил большую оплошность, явившись к Дашковой. Уж не опальная ли она? И какие отношения тогда может поддерживать с нею выдающийся сановник, воспитывающий цесаревича Павла — единственного сына императрицы?
Дорога не обошлась без неприятного приключения. На крутом повороте сани опрокинулись, и кавалер с лакеем оказались в сугробе вверх тормашками. Поскольку возница, занятый лошадью, не спешил прийти к ним на помощь, а проходившие по улице московиты лишь скалили зубы, кавалер принял более пристойную позу и подумал, что сей сугроб есть символ и достойное завершение его поездки к Дашковой и связанных с нею надежд. Он вспомнил завет Горация:
Хранить старайся духа спокойствие
Во дни напасти; в дни счастливые
Не опьяняйся ликованием...
Лежать в снегу было приятно, и если бы не веселье прохожих, он еще бы полежал. Кряхтя, кавалер самостоятельно поднялся, отряхнул с помощью Ганса снег и погладил тростью спину возницы.
— Черт побери! — набросился он при встрече на Зиновьева.— Кто такая княгиня Дашкова — наперсница императрицы или персона нон грата?
— Вы побывали у Дашковой? — вытаращил глаза Зиновьев.— Все пропало. Теперь уж я никак не смогу добиться для вас аудиенции у Григория Григорьевича.
Оказывается, Дашкова была давно в немилости у императрицы. Дерзкая и невоздержанная на язык, считая себя обиженной, она грозила свергнуть Екатерину с престола и была замешана в дело заговорщика Мировича. Кавалер растерялся.
— Теперь Орлов вас на выстрел ко дворцу не подпустит,— весьма обрадованный, говорил Зиновьев.— Разве вы не знаете, что Дашкова расстроила его свадьбу с царицей?
Пораженный, кавалер не находил слов. Значит, дело уже шло к свадьбе?
— Ну да,— подтвердил Зиновьев.— Уже все было готово, а эта стерва подняла шум, бегала по своим дядьям-князьям, угрожала. Все и расстроилось. А у Катеньки дите от Гришки.
— Только у вас в России,— обрел наконец дар речи возмущенный кавалер,— гвардейский офицер может мечтать о браке с императрицей.
К счастью, забывшись, он выпалил это на родном венецианском просторечии,— и Зиновьев не уразумел смысла сказанного.
Все было кончено, раз дорога ко дворцу оказалась закрытой. Ему оставалось только уложить чемоданы. Но не пускаться же в путь в разгар яростной русской зимы! Значит, ждать, пока не повеет теплом. Выиграть побольше денег и купить, наконец, красавицу Прот. Ведь любовь — наслаждение, притягательней всех соблазнов мира. Кроме того, в запасе у него еще оставались архитектор Ринальди и граф Панин. Если Ринальди строит для Екатерины, стало быть, она осматривает его постройки; можно упросить архитектора взять соотечественника с собой. Что до Панина, к сему вельможе следовало поспешить с визитом. Если уж императрица вознесла его так высоко, значит, ему доверяет. Совсем успокоившись, он продекламировал звучные латинские стихи:
О том, что ждет нас, брось размышление.
Прими, как прибыль, день, нам дарованный
Судьбой, и не чуждайся, друг мой,
Ни хороводов, ни ласк любовных...
ЕКАТЕРИНГОФ
Кавалер де Сенгальт и Василий Зиновьев уговорились с дамами ехать в Екатерингоф. Разумеется, в глухую зимнюю пору парк никого не интересовал, зато ресторация знаменитого болонца Локателли была привлекательна в любую пору года. Дамы — неудавшаяся певица Роколини и содержанка Прот — выразили согласие, однако прихватили с собой провожатых; точнее, г-жа Роколини привезла своего музыканта с его приятелем-итальянцем. Обед удался на славу, прошел весело, кавалер по привычке сорил деньгами,— однако красавица держалась чопорно и не допускала никаких вольностей.
Раздосадованный после нескольких неудачных попыток сокрушить эту крепость, мысленно обозвав г-жу Прот «ледяной бабой», кавалер, прихватив Зиновьева, вышел поостыть на улицу. День сиял, мороз был сносен, и они решили немного пройтись. Кавалер по обычаю рассказывал одну из своих бесчисленных любовных историй, а именно ту, как его соблазнила венецианская монахиня, а гвардеец внимал, раскрыв рот. Нахальства у Зиновьева значительно поубавилось с тех пор, как он стал понимать, с кем имеет дело. Теперь он ощущал себя лопоухим щенком рядом с умудренным жизнью псом и больше ничем не хвастал, а даже наоборот, начал поругивать отечество, превознося Европу.
— Сегодня же ночью я буду спать с этой Прот,— небрежно заверил кавалер.— Правда, ее холодность расхолаживает и меня. Женщина должна быть полна страсти, млеть в экстазе. Высшее наслаждение в любви может быть лишь взаимным.
Возможно, он еще долго распространялся бы на свою излюбленную тему перед почтительно внимавшим молодым повесой, если бы не заметил молоденькую девушку, черпавшую воду из проруби деревянным ведром. Одета она была в рваный ватник, голова ее была замотана грязным платком, однако стоило ей повернуть личико, и кавалер осекся, застыв на месте: он увидел прелестную девочку. Зиновьев с недоумением проследил за его взглядом.
— Видели? — схватил его за плечо спутник.— Спросите скорее, как ее зовут.
— Кого? Эту оборванку? — не понял Зиновьев.
— Она чудо как хороша. Я влюблен.
Это была сущая правда: один взгляд, и он запылал, будто соломенный.
— А как же Протиха? — опешил Зиновьев.
— Оставляю ее вам. У меня нет желания обнимать статую. Поторопитесь, друг мой!
Заметив приближавшихся к ней незнакомцев, девушка испугалась и бросилась прочь, расплескивая воду из ведра. Опередив Зиновьева, кавалер помчался вдогонку. Приап так не гонялся за нимфами по пестревшим нарциссами берегам Кефиса, как гнался за юной простолюдинкой кавалер де Сенгальт по сугробам вдоль реки Катерингофки.
Девушка скрылась в жалкой лачуге, хлопнув промерзшей дверью. Преследователя это не остановило: без колебаний он вошел следом, причем стукнулся лбом о низкий косяк; Зиновьев ему сопутствовал.
Внутри лачуга поражала убожеством еще более, чем снаружи: грязный пол, закоптелые стены; довольно сильно пахло русским духом. Полдома занимала ободранная печь. Никакой мебели, кроме лавок и стола, не было и в помине, так что можно было только гадать, где спали все эти дети, изможденная женщина — их мать, драная кошка, тощий поросенок, куры и сам хозяин — нечесаный, мрачный мужик с бородой лопатой. Красавица-девочка забилась в угол и со страхом глядела на непрошеных гостей. «Словно белая горлинка на волков»,— нежно подумал кавалер, потирая ушибленный лоб.
Зиновьев широко перекрестился на икону, с которой на него печально и строго глядел худой, маленький старичок, Николай Мирликийский, должно быть, самый популярный святой у московитов. Трудно понять, почему они так любили его, однако кавалеру не встречалось дома, где бы не было изображения этого святого.
— Эй, борода,— строго обратился Зиновьев к селянину,— кто твой барин?
Всклокоченный, неряшливый глава семьи встал с поклоном:
— Казенные мы, батюшка, не барские.
— Впрочем, неважно,— сел на лавку Зиновьев и кивнул сесть кавалеру, что тот и сделал, улыбнувшись красавице, от чего та задрожала и съежилась в своем уголке еще сильнее. Зиновьев уперся руками в широко расставленные колени:
— Повезло тебе, рыло, пляши: знатный иностранец хочет взять в услужение твою девчонку.
«Рыло» приосанилось и даже пригладило бороду. Оглядев богатую шубу кавалера, мужик изрек:
— Что ж, мы не против. Вон их сколько баба мне наплодила. Только меньше, чем за три рубля, я никак не согласен.
Зиновьев хихикнул и покосился на кавалера; тот продолжал строить глазки девочке.
— Дурень, проси сто,— подсказал бородачу Зиновьев.
— Бог с тобой, барин! — попятился испуганно тот.
— Проси, коли велю. Запомни: деньги разделим пополам. Старшей девке сколько лет?
Все еще не веря счастью, мужик суетливо поклонился:
— На Масленой пятнадцать сравняется. Она еще нетронутая, и вшей нет. Матка за этим строго следит. Фекла, поди сюды!
Девочка покорно подошла к отцу и, потупив взор, остановилась перед гостями. Она была прехорошенькой. Кавалер из разговора Зиновьева с мужиком не понял ни слова и в умилении уставился на пленившую его красотку.
— Глянь, только глянь, барин,— суетился хозяин, распахивая ватник девочки; под ним оказалась ветхая, серая рубаха.— Не паршива, не костлява.
Рванув ткань, он спустил лохмотья с понурившейся девочки, и перед гостями предстало ее юное тело. Кавалер издал восхищенный стон.
— Гляньте на косу,— суетился отец.— Ни одной гниды. Она всегда в бане первая моется, а потом другие, потому как после нее вода совсем чистая.
Достав из кошелька несколько монет и протягивая их хозяйке, кавалер показал знаками, что хочет забрать девочку.
— Ишь, разохотился,— хихикнул Зиновьев, кивнув на кавалера хозяину.— Значит, требуешь сотню и ни копейки меньше?
— Мне бы в купцы выйти аль в подрядчики...— дрожа от волнения, сипло выговорил тот.
Девушка, натянув рвань на голые плечи, торопливо кинулась к матери.
— Помни: деньги пополам.— Почувствовавший свою выгоду, Зиновьев горел желанием уладить дело.— Пойду теперь иностранца уговаривать.
Взяв кавалера под локоть и услужливо напомнив ему, что следует нагнуться, проходя сквозь низкую дверь, Зиновьев вывел его на улицу.
— Ничего не выходит,— объявил он.— Хитрый мужик заломил непомерную цену. Она, видите ли, девственница и вшей нет.
Кавалер удивленно приостановился:
— Сударь, меня ничуть не интересует, девственна красавица или нет. Такие вещи для меня несущественны. Какова цена его сокровища?
— Сто рублей,— вытаращил Зиновьев наглые глаза.
— Я заплачу эту сумму,— ничуть не поколебавшись, кивнул кавалер.
— Вы согласны отдать сто рублей за мужичку?
— Несомненно. Это весьма дешево за такую прелесть. Меня тревожит лишь одно: согласится ли сама девица?
— Кто же станет ее спрашивать? — опешил Зиновьев.— Заартачится, возьмите палку. Баб надо лупить.
Это замечание заставило кавалера пренебрежительно поморщиться: он никогда не добивался женщин битьем.
— Сколько я буду должен ей платить? — не желая вдаваться с грубым московитом в обсуждение нежных путей любви, перевел он разговор.
— Платить? Нисколько! — и Зиновьев принялся терпеливо объяснять иностранцу русские порядки.— Раз вы заплатите ее отцу, она станет вашей собственностью. Можете делать с ней все что угодно, только жизни нельзя лишать. Если же девка сбежит от вас, вы имеете право заявить в полицию, и ее приведут назад.
— Стало быть, она станет моей рабыней? — попросил уточнить кавалер.
— А что тут плохого? — пожал Зиновьев плечами.
Кавалер и сам не знал, что его смущало. Московитский обычай был всем хорош. Приказал — сделала; в сорок лет не приходится рассчитывать на юную любовь. И все-таки его что-то коробило. Должно быть, неумеренное чтение авторов вроде Руссо и Вольтера не прошло для него бесследно.
— Это и есть ваше крепостное право? — задумчиво осведомился он.— Действительно, очень удобно. Чем не житье вашим боярам! — Подумав, он добавил: — Однако какой терпеливый русский народ.
— Это наша национальная черта,— с гордостью согласился Зиновьев.
Не желая, чтобы о покупке девушки узнали спутники, кавалер попросил Зиновьева приехать сюда с ним завтра и помочь договориться с мужиком. Тот охотно согласился, присовокупив:
— Будет ваше желание, я помогу вам составить целый гарем.
— Когда я влюблен, мне хватает одной,— осадил его кавалер.
Это было не совсем правдой, однако развязность этого родственника Орлова трудно было терпеть.
ЗАИРА
На следующий день они снова явились в Екатерингоф. Перед жилищем селянина кавалер вручил Зиновьеву сто рублей.
Появление гостей привело обитателей лачуги в большое волнение. Зиновьев стал говорить с главой семейства. Тот, услышав, что иностранец готов заплатить сто рублей за девчонку, онемел. Упав перед иконой на колени, он принялся горячо благодарить святого Николая, показывая гостям при поклонах заплаты на седалище. Недоумевая, при чем тут святой Николай, кавалер воспользовался паузой, чтобы мигнуть девушке. Та, робко потупившись, спряталась за мать.
Отмолившись, глава семьи подозвал дочь и, показав на иностранного барина, спросил, хочет ли она служить ему. Длинные ресницы поднялись, и кавалера осияли влажным блеском глаза малютки.
— Да,— улыбнулась она.
Он затрепетал, готовый схватить в объятия крошку и тут же ее расцеловать. Тем временем родитель важно благословил дочь.
Для подписания договора в качестве свидетелей были призваны лакей Ганс и кучер, поставившие на бумаге кресты. Зиновьев положил на стол сто рублей. Мужик жадно схватил деньги и, нежно подержав их в руках, торжественно вручил дочери. Та сейчас же передала деньги матери, во все время церемонии стоявшей неподвижно у печи. Покончив с формальностями, селянин взволнованно обратился к кавалеру на своем непонятном языке, и Зиновьев перевел:
— Он спрашивает, не надо ли барину Палашку и Фроську, других его дочерей?
Кавалер пожал плечами: с какой стати? Палашке и Фроське еще расти не один год. Однако какой бесчувственный народ, и насколько они лишены всяких представлений о нравственности! Вот к чему приводит проповедь христианской морали только на древнегреческом языке.
При расставании не было пролито ни слезинки. Продав дочь, глава семейства чуть не танцевал от радости. Кавалер усадил девушку подле себя в экипаж. Она была облачена в какую-то неряшливую хламиду из грубого сукна, под которой, как он тотчас убедился, ничего не было; голые ноги были обуты в рваные опорки.
Итак, подобно вольтеровскому султану Оросману, он стал обладателем рабыни, в которую безоглядно влюбился. На память ему пришли строки из знаменитой трагедии, и он продекламировал:
О, я люблю и жду, что вы, Заира, сами
Любовь мне дарите в ответ на страсть и пламя.
Сознаюсь, от любви мне надобно огня,
Бесчувственность лишь оскорбит меня.
— Как тебя зовут, прелесть моя? — обняв девочку за плечи, нежно осведомился он.
— Имя, имя! — прокричал по-русски Зиновьев.
— Фекла,— прошептала малютка.
— Отныне ты будешь зваться Заирой,— торжественно возгласил кавалер и поцеловал ее.
За время пути от Екатерингофа до «Золотого якоря» чувства кавалера, не устававшего любоваться девушкой, возросли настолько, что, едва приехав, он схватил за руку свою покупку и, не попрощавшись с Зиновьевым, ринулся к себе в номер; встретившемуся на лестнице Ринальди он еле кивнул.
Он провел, запершись со своей Заирой, четыре дня, не в силах насытиться девичьим телом. Наконец немота возлюбленной, не изъяснявшейся ни по-французски, ни по-немецки, ему прискучила. К тому же на пятый день подломилась ножка у кровати. Завернувшись в халат, кавалер выскочил за дверь и громогласно призвал слуг. На шум из своего номера выглянул архитектор.
— Господин Ринальди, сюда! — обрадовался кавалер. Втолкнув его к себе, он гордо указал на закутанную в одеяло девушку, пристроившуюся на диване:
— Взгляните на мою покупку. Художник, вы оцените ее. И он отнял от Заиры одеяло. Та не сопротивлялась. Кроткая и покорная, она не сопротивлялась ничему. В молчании оба итальянца уставились на нее.
— Кожа белая, как северный снег. А поглядите на косу... Встречали вы у себя в Неаполе такую? В навозной куче я отыскал жемчужину,— ликовал кавалер.
— Она божественна,— подтвердил Ринальди.
— На вилле Боргезе я видел античную Психею. Заира — ее подобие.
Ринальди согласился:
— Ей не хватает крылышек.
Архитектор явно завидовал. Он сидел в Петербурге уже пятнадцать лет, работал как вол и ничего, кроме денег, не имел, никаких радостей. А этот венецианский пройдоха, едва приехав, отхватил такой кусочек!
Пока чинили кровать, кавалер привел себя в порядок и, пожелав спуститься с Заирой вниз, обнаружил, что той нечего надеть. Быстро составив список необходимых предметов, он отправил Ганса в ближайшую лавочку с требованием привести купца с товаром. Покупки были совершены прямо в номере. Заира обзавелась недорогим, но приличным европейским платьем. Правда, кошелек кавалера несколько пострадал, но в ближайшее время он надеялся пополнить его у Баумбаха. Он собственноручно одел Заиру: она понятия не имела, что такое корсет и зачем панталоны: попыталась накинуть их на плечи вместо косынки. Увидев Заиру, одетой по моде, он пришел в восхищение. Это порождение северных болот, азиатка, татарка была в кринолине ничуть не хуже французской маркизы. Неуверенно покачиваясь на каблучках, уцепившись одной рукой за его локоть, а другою прикрывая обнаженную грудь, она спустилась вниз, вызвав всеобщее любопытство обитателей «Золотого якоря». Кавалер ликовал.
— Взгляните только, как она преобразилась! — поделился он своим удивлением с Ринальди.
— Современная мода милостива к мужчинам: она позволяет видеть почти всю грудь дамы,— пошутил тот.
— Я бы не отказался видеть и дамские ножки,— развеселился кавалер.
Архитектор отмахнулся:
— До такого бесстыдства, надеюсь, дело не дойдет. Женщины не позволят.
Пока кавалер разговаривал с архитектором, Заиру окружили любопытствующие служанки.
— Откуда ты взялась?
— Звать-то тебя как?
— Счастливица!
— Богатого иностранца отхватила.
— Вся в заграничном!
Щупая бантики и оборочки на ее платье, они исходили завистью.
Ты бы шепнула своему барину, что он у нас в людской всем девкам по душе.
Дожидайся! — разозлилась Заира.— С какой стати? Да и как я шепну? Он по-нашему ни в зуб ногой.
— Значит, молча любитесь?
Подумав, Заира не стала кривить душой:
— Нет, он все время что-то лопочет и каркает. Кара, кара...
— Каркает? И не дерется?
— Пока нет.
— Ох, повезло тебе, девонька! Счастливая ты... Возможно, Заира подумала, что если это счастье, то дома ей было привольней и лучше; правда, носить приходилось всякую рвань. А нынче на ней платье, как на барыне. Что ж, ради этого можно и счастье перетерпеть. И она спросила, ееть ли тут зеркало.
Увидев свое отражение, девушка пришла в восторг и от радости закружилась по комнате, раздувая юбку. Собственная красота удивила ее. Она даже не сразу заметила вошедших кавалера и Ринальди.
— Какова моя Заира? — гордо осведомился кавалер, любуясь девушкой.— Ей пока не хватает манер, но я не пожалею усилий, чтобы превратить в бриллиант сей неотшлифованный алмаз.
По выражению лица своего владыки Заира поняла, что он ее хвалит, и, засмеявшись, в порыве благодарности бросилась ему на шею.
— Поздравляю вас,— развел руками архитектор.
ГРАФ ПАНИН
Не менее сильно, чем женщин, кавалер любил азартные игры, в которые и погрузился, едва любовный угар прошел. У московитов настали какие-то праздники, они принялись кататься на тройках, распевать песни, спускаться на санках с гор, много есть, еще больше пить и драться на кулачках, окрашивая снег кровью из разбитых носов. Давно было пора нанести визит графу Панину, Заира просилась в баню,— но кавалер не в силах был оторваться от игорного стола у Баумбаха, то сильно проигрывая, то вдруг возвращая свое назад с лихвой. Если бы не мысль об Орлове, он, возможно, не скоро бы нашел силы оторваться от погони за карточной Фортуной. «Опять я медлю, размениваясь на мелочь,— подосадовал он.— Императрица, дивная женщина! Одному любовнику — польскую корону, другому — надежду на российскую. Под ее властью остается еще много царств, герцогств и княжеств. Пусть сделает меня королем эскимосов, я согласен. Разве голова Джакомо Казановы в меньшей степени заслуживает короны, чем безмозглые головы Орлова и Понятовского?»
Заире он сказал, что сведет ее в баню, как только освободится — через толмача, пригожего малого, немного говорившего по-французски, которого он нанял в услужение по рекомендации герра Бауэра; звали парня Акиндином, однако кавалер использовал обращение «казак». Успокоив возлюбленную, он отправился к Панину.
Никита Иванович Панин был очень важным вельможей, и, чтобы его очаровать, кавалер блеснул самой утонченной обходительностью. Воспитатель наследника и глава Коллегии иностранных дел был не очень молод, невзрачен, невелик ростом, немодно одет, однако что-то в его взгляде — быстром, внимательном, насмешливом — насторожило и даже сковало кавалера.
— Княгиня Дашкова говорила мне о вас,— сказал вельможа по-французски.— Как я понял, вы ищете место в России.
Кавалер поморщился: уж слишком прямолинейно,— но ответил мягко и с поклоном:
— Ваша светлость, я был бы счастлив поступить на русскую службу, чтобы преданно служить великой государыне, желание увидеть которую и привело меня в Россию.
— Но в качестве кого? — перебил вельможа. Кавалер снова поморщился: весьма бесцеремонно.
— Я слышал, что Россия собирается воевать с Турцией и нуждается в опытных военных...
— В каком вы чине и где служили? — снова перебил Панин. Увы, кавалер не поднялся выше прапорщика, да и служил-то всего несколько месяцев, совершенствуясь главным образом в карточной игре. Он не счел нужным сообщить эти подробности.
— Я скорее финансист, литератор, немного инженер...
— Гм! — сказал вельможа.— Как известно, у нас действует Табель о рангах. Вряд ли, будучи в возрасте, вы захотите начать с нижних чинов.
Поняв, что с Паниным надо говорить напрямик, кавалер так и поступил:
— Главная цель моего приезда в Петербург не столько место, сколько лицезрение императрицы, слава о которой дошла до самых удаленных уголков Европы. Не могли бы вы, ваша светлость, оказать покровительство чужестранцу и помочь ему быть представленным ко двору?
Панин мерил его насмешливым взглядом, однако не перебивал.
Государыня не успевает принимать иностранных послов — наконец сказал он.— Где уж ей найти время для любопытствующих путешественников? Рад знакомству с вами. Если у вас появится желание предложить свои услуги в чем-то определенном, милости прошу.
Аудиенция была окончена. Мысленно чертыхаясь, но любезно кланяясь, кавалер попятился, но был остановлен у двери словами вельможи:
— Я слышал, будто король Пруссии предлагал вам стать педагогом у кадетов. Есть ли у вас опыт в этой области?
Маленькие глазки московита сверлили раззолоченного гостя. Гордо выпятив грудь, украшенную папским орденом, кавалер обидчиво сказал:
— Король Пруссии не произвел на меня впечатление просвещенного государя. Именно поэтому я в России, где правит сама Минерва.
Выйдя за дверь, он чертыхнулся вслух: дипломатическая почта между Петербургом и Берлином работала четко. Садясь в сани, он досадливо стукнул тростью по спине возницы. Неужели мысль увидеть Екатерину приходилось оставить навсегда?
РИНАЛЬДИ
Оставалась последняя надежда — архитектор Ринальди. Старик вполне мог бы при случае представить его. Оказывается, он строил для Екатерины еще в то время, когда она называлась великой княгиней, был ценим ею и осыпаем подарками. В тот же вечер кавалер заявился к нему по-соседски, без церемоний.
Архитектор с сосредоточенным лицом что-то вычерчивал на большом листе бумаги. Обиталище его походило больше на мастерскую, чем на жилое помещение: стол занимал макет какой-то церкви, по стенам были развешаны планы зданий, всюду валялись инструменты непонятного назначения. Заметив, что помешал, но ничуть не смутившись, кавалер тут же завел разговор об архитектуре.
— Прекрасное здание,— указал он на изображение какого-то дворца.— Но ведь это как раз тот стиль, который уже устарел, все эти завитушки и волнистые линии вместе с маркизой Помпадур отжили свое.
Ринальди дернулся, как рыба, проглотившая наживу с крючком:
— Императрица Елизавета, особа пожилая, не признавала ничего нового...
— Винкельман однажды сказал мне по этому поводу... Крючок накрепко впился, Ринальди развесил уши: рыбке было не уйти. Кавалер начал импровизировать. Он говорил о красоте античной архитектуры, об удивительных произведениях искусства, все в большем количестве извлекаемых из земли Италии, о новых веяниях в искусстве и о своих многочасовых беседах с Винкельманом. Будучи в ударе, он обладал способностью вспоминать даже то, чего с ним никогда не случалось. Положив циркуль, старый архитектор жадно внимал речам гостя. Впрочем, кавалер вскоре перешел к интересовавшему его предмету и заговорил об императрице.
— Как повезло вам в жизни, сударь! Вы присутствовали в России при возведении на престол Екатерины. Получили ли вы после этого великого события какие-нибудь награды?
Ринальди засмеялся, показав отсутствие нескольких зубов:
Ведь я не Орлов. Императрица сразу же завалила меня работой, и в этом, пожалуй, моя лучшая награда. Я строю, сударь. Льщу себя сладкой надеждой, что в Петербурге не забудут имени Антонио Ринальди. Верьте мне, лучший путь к наградам — труд. Поработайте для России, и вас оценят.
Кавалер пылко заверил архитектора, что это-то как раз он и намеревался сделать. Вот только бы добиться представления императрице, ибо лишь она может пожаловать достойное место.
По тому, как архитектор жал ему руку, кавалер догадался, что пленил старого крота. Совет трудиться вызвал насмешливую улыбку на его красиво очерченных губах. Слава Всевышнему, он прожил припеваючи сорок лет, не трудясь. Трудиться! Но на каком поприще, если человеку дано столько разных талантов? Его истинное призвание — литература. Он уже сочинил множество сонетов, пьесы, трактаты, критические статьи, и не его вина, что все это не напечатано. Если бы сейчас нашлось время, он отдался бы переводу «Илиады». Ему необходима должность, но такая, где не станут спрашивать работу; пользуясь твердым доходом, он наконец сможет посвятить себя литературе.
Вернувшись к себе, он увидел, что Заира, сидя на диване, играет в подкидного дурака с гайдуком Акиндином. При виде кавалера девушка надулась, всем своим видом показывая недовольство.
— Хочет в баню, а то и в церковь не сходить,— доложил Акиндин.
Заботы малых сих давали отдохновение его беспокойному уму. Улыбнувшись, кавалер велел собираться в баню.
БАНЯ
Расположенная невдалеке от «Золотого якоря» баня ничуть не походила на древнеримские термы. Неказистое деревянное строение стояло на берегу реки, заледенелой и занесенной снегом. Возле бани чернела большая прорубь, и кавалер с ужасом заметил в ней купальщиков. Трое голых, распаренных мужчин, выскочив из дверей бани, трусцой побежали к реке. Не добежав до проруби, они стали валяться в снегу, будто обезумевшие от восторга псы.— Однако! — только и нашелся кавалер.
Заира хихикнула.
Оставив лакея стеречь верхнюю одежду, увлекаемый Заирой кавалер вошел в большое, низкое помещение, сырое и холодное; на лавках, расставленных в беспорядке, валялась одежда; кое-где сидели люди и пили квас. Важный, бородатый банщик, босой, в холстинной рубахе и портах, следил за порядком. Новоприбывших посетителей приняли в свои руки две дюжие банщицы в легких туниках и с крестиками на груди. Кавалеру предложили раздеться; он несколько смешался, так как невдалеке сидела толстая женщина, с головой укутанная в простыню. Заира без стеснения сбросила одежду и, распустив косу, совсем скрылась в потоках темных, волнистых волос. Кавалеру ничего не оставалось, как последовать ее примеру. Банщица сунула ему пару сухих березовых веников; должно быть, у московитов они заменяли фиговые листки. Кавалер так и сделал, досадуя на безалаберность владельца бани, не удосужившегося поделить раздевалку на мужское и женское отделения.
Ведомые банщицами, они вошли в мыльню, полную горячего тумана. Когда глаза венецианца стали что-то различать, он увидел, что попал в обширное помещение, где все было деревянным: стены, потолок, осклизлый пол. Ему показалось, что он внутри огромного ящика, сколоченного из мокрых досок. Полсотни голых людей, мужчин и женщин, безмятежно плескались в своих ушатах, не обращая друг на друга никакого внимания. Не в силах объясниться с Заирой, он тем не менее произнес взволнованную речь на родном языке о грубости нравов, российской отсталости и о том, что путешествие из Европы в Россию измеряется не только милями, но и веками.
Их повели дальше. Прикрываясь веником, он поглядывал по сторонам, ожидая увидеть восхищение мывшихся как Заирой, так и собой — ибо пара была заметная: безупречная в Юном совершенстве Геба и старый, косматый сатир в окружении двух толстых баб. Однако никто не обратил на них внимания.
В соседнем помещении, так называемой парной, вместо воздуха был кипяток, обжигавший легкие, так что кавалер закашлялся. Тут вдоль стены была сделана широкая полка, на которую вели деревянные ступени. Затолкав его на эту полку, банщицы принялись изо всех сил хлестать кавалера вениками по бокам. Задыхаясь, издавая вопли, он вырвался из могучих рук и выбежал вон. Теперь ему стало ясно, почему распаренные мужики бежали окунуться в прорубь. «Воистину русскую баню надо перенять испанской инквизиции как самую страшную пытку»,— с досадой заключил он.
— Похоже, малютка совсем поработила вас,— заметил с усмешкой Ринальди при виде кавалера, заботливо ведущего распаренную, укутанную Заиру вверх по лестнице.
— Что за жизнь без любви! — отозвался тот.— Но русские бани ужасны. Господин Ринальди, как могли вы пятнадцать лет прожить в этой стране, где нет ни литературы, ни искусства, ни философии, вообще никакой культуры, кроме привозной? Как жить под этим северным небом, где даже солнце не светит!
— Вы заблуждаетесь, милый Казанова,— возразил Ринальди,— здесь очень своеобразная культура, и мне жаль, что император Петр завещал своим преемникам экспорт чужой культуры в ущерб собственной.
— Где, скажите на милость, вы обнаружили культуру? — приостановился кавалер, выпустив из объятий Заиру.— Мужчины и женщины моются вместе! Что это, первобытная невинность или бесстыдство? А взгляните хотя бы на их одежду: дубленки, кожаные сапоги; женское тело наглухо закрыто, ни намека на талию, будто за образец они взяли мозаики Равенны...
— Наверно, я слишком долго прожил в России, и перетянутые талии, грудь навыкат, необъятные юбки больше не кажутся мне красивыми,— покачал головой Ринальди.— Вспомните античность...
Из-за двери выглянула Заира с замотанной полотенцем головой, похожая сейчас на турчанку.
— Джакомо! — нетерпеливо позвала она.
— Взгляните, как хороша! — встрепенулся кавалер.
— Закажите ее портрет: пусть ее изобразят в турецком гареме и вас у ее ног в виде султана Оросмана.
Кавалер больше не слушал. Раскрыв объятия, он устремился к своей возлюбленной.
МАСЛЕНИЦА
По случаю праздника на Неве устроили ледяные горы — огромные деревянные вышки, куда карабкаться надо было по шаткой лестнице, съезжать на санках, причем смельчаков уносило чуть не за версту. Поскольку катание с гор было бесплатным, целый день там суетился народ.
Сначала Заира довольствовалась тем, что, сидя возле кавалера, закутанная в шубу, каталась на тройке вдоль Невы. На морозе нежное лицо ее цвело, как южная роза, и кавалер то и дело от полноты чувств целовал ее в губы. Вскоре ей приспичило самой съехать с горы. Вообразив себя, нарядного сорокалетнего господина, летящим с санок вниз головой, кавалер наотрез отказался сопровождать ее, но отпустил с Акиндином. Ему было видно, как они карабкались вверх по лестнице, как устраивались на санках, как покатили вниз, стремительно набирая скорость. Кавалер велел кучеру ехать вперед, чтобы догнать их, однако застал уже валявшимися в сугробе и хохотавшими во все горло. Такая веселость не понравилась ему: гайдук был молодым, видным парнем. Снова усадив возле себя Заиру, он прикинул, как бы спросить у нее, не целовались ли они, однако без толмача сделать это было невозможно. Следовало выучить местное наречие, тем более что он собирался поступать на русскую службу. Дома он все-таки попытался жестами выведать у Заиры подробности катания с горы, однако она не поняла или сделала вид и принялась хохотать как безумная, отчего стала еще краше, и взволнованный кавалер, позабыв подозрения, поскорее увлек ее в спальню.
Несмотря на все усилия, русский язык так и не дался ему, и он негодующе жаловался на это Ринальди:
— Что за варварский язык! С раскатистым «р» и жестким «л», с многочисленными шипящими — хуже немецкого и польского, вместе взятых! Бычий какой-то.
— Хороший язык,— в недоумении пожимал плечами архитектор, объяснявшийся по-русски без затруднений.
— Ужасная страна! — настаивал кавалер.
— Своеобразная,— поправил архитектор.
— А посты? — ликующе напомнил большой любитель поесть. Действительно, только что начался предпасхальный пост, который московиты называли Великим и, вступая в него, целый день с плачем просили друг у друга прощения. Целую неделю затем они ничего не ели, кроме хлеба с луком, запивая его квасом.
— Русские добрые христиане, и очень богомольны,— заметил по этому поводу архитектор.
— Добрые христиане? — рассмеялся кавалер.— А крепостное право? Ведь местные рабы — вовсе не негры; они такие же христиане, как и рабовладельцы.
— Да вы, оказывается, вольнодумец,— перебил шуткой разговор архитектор.— Что, впрочем, не помешало вам купить рабыню.
Кавалер ответил серьезно:
— Господин Ринальди, мне сорок лет. Я больше не могу рассчитывать на девичью любовь, коей был щедро одарен смолоду. Нынче я вынужден ее покупать. Зато, в отличие от вас, слуг я нанимаю и плачу им.
Это не было полной правдой: ни Ганс, ни Акиндин не получили пока ни гроша. Разумеется, собеседнику эти скучные подробности было необязательно знать.
— Вы правы, у меня есть купленные слуги,— кивнул архитектор.— Когда я уеду в Италию, я дам им вольную.
— То же самое я сделаю с Заирой. Ах, Италия... Оба вздохнули.
— Неблагодарная родина отвергла меня, однако надо быть очень жалким существом, чтобы не любить землю, на которой родился. Я не видел Венеции уже много лет. Когда вы собираетесь домой, синьор Антонио?
Ринальди задумался:
— Иногда мне кажется: все напрасно. Переворота в своем искусстве я не совершу. А деньги — на что они?
— Не скажите. Деньги и любовь — основа счастья.
— Ни-ни, я рабочий муравей.
— Как, женщины вас не интересуют?
— Ничуть.
— Но у каждого мужчины есть потребности тела.
— У меня нет тела. Это телом не назовешь. К тому же мне 56 лет.
— Старое дитя! Последуйте моему примеру и купите любовницу.
Совет был дан от всей души.
РИГО
Заводить Великим Постом знакомства в высшем свете Петербурга оказалось делом непростым. Приемов и балов никто не давал; карточная игра была под запретом. Генерал Мелиссимо уехал на юг готовиться к войне с турками, как подсказал кавалеру шпионский нюх, а его глупые бабы, европейки только по внешности, заперлись и никого к себе не пускали. Графа Панина застать дома было почти невозможно: большую часть времени он проводил во дворце. Зиновьев куда-то пропал, должно быть, не в силах выполнить требование кавалера представить его Орлову, да к тому же порядочно задолжав. Правда, он успел познакомить кавалера с лордом Маккартнеем, английским дипломатом, однако тот был в опале у императрицы и высылался на родину, потому что обрюхатил фрейлину, так что это полезное знакомство обрывалось, едва начавшись. В доме Баумбаха, где чаще всего бывал кавалер, игра шла беспрерывно, но общество собиралось далеко не первосортное. Правда, однажды там появился граф Чернышев, и кавалер приложил все силы, чтобы понравиться ему. Граф навострил уши, лишь услыхав слово «масон». Кавалер и сам не знал, как ему пришло на ум заговорить о масонах, в голландскую ложу которых он однажды вступил; с тем же успехом он мог заговорить о розенкрейцерах, в которых тоже состоял, но впечатления не произвести: граф о тех не слыхивал. Объявившись масоном, кавалер тут же получил приглашение в дом Чернышева.
Считая новое знакомство очень полезным, он тщательно готовился к посещению графского особняка и даже извлек из чемодана сочинение Ботарелли «Разоблаченная тайна франкмасонов», подаренное ему в Лондоне автором, когда кавалер намеревался избить его за лжесвидетельство, благодаря которому блистательного кавалера на некоторое время упрятали в Ньюгет. Но с Чернышевым вышел конфуз. Все шло честь честью; понимая, что попал к настоящим аристократам, кавалер блистал утонченной обходительностью. Но когда садились обедать, он вдруг увидел за тем же столом Риго, своего лакея, с которым ехал в Петербург. Вытаращив глаза, оба некоторое время созерцали друг друга; затем Риго скромно потупился. Рядом с Французом сидели мальчики — сыновья графа; должно быть, Риго выступал в роли их наставника. Покусывая губы, кавалер наблюдал за своим бывшим слугой. Он мог бы разоблачить самозванца, однако ему вовсе не хотелось, чтобы в чинном графском доме стало известно о его веселой жизни в Риге и проказах в компании герцога Карла, а Риго не преминул бы отомстить. Они так и не сказали друг другу ни слова; сразу по окончании обеда Риго увел мальчиков из столовой. Кавалер решил из осторожности больше не ездить в этот дом.
РЕСТОРАЦИЯ ЛОКАТЕЛЛИ
Не в силах обходиться без общества, он несколько раз заезжал поболтать к г-же Роколини; там вечно торчал ее музыкантик. Красавица Прот больше у нее не появлялась: Роколини сказала, что они поссорились. Думал кавалер и о Красном Кабаке, но без Зиновьева ехать туда, где собирались гвардейские офицеры, не решался. Заира давно хотела навестить родителей. Вспомнив о прекрасном трактире Локателли, кавалер дал милостивое согласие на поездку, получив взамен несколько горячих поцелуев.
Семейство екатерингофского мужика сидело за столом, хлебая деревянными ложками постные шти из чугунка; отец отсутствовал. При виде входивших в избу кавалера в богатой шубе и Заиры в немецком платье все вскочили,— кроме малышки, обрадованно застучавшей ложкой в чугунке. Мать, оглядев иноземный наряд дочери, всплеснула руками и возрыдала, а потом рухнула перед гостями на колени, увлекая детей. Всполошились куры, за печкой хрюкнул поросенок. Пока Заира крестилась на икону святого Николая, кавалер с отвращением вдыхал тяжелый дух лачуги. Приподнимая полы шубы, дабы не запрыгнула какая-нибудь мерзкая живность, он прикидывал, как бы поскорее уйти вон. Едва семейство принялось разглядывать гостинцы — баранки и орехи, он покинул лачугу, велев вознице доставить себя к Локателли.
Дорогой он размышлял, из какого ничтожества поднял до себя Заиру, и она казалась ему еще милее: Руссо одобрил бы его связь с невинной поселянкой.
У Локателли он отлично поел в случайном, но вполне приемлемом обществе.
— Для меня совершенно необходима французская кухня, но иногда допустима и итальянская,— поведал он сотрапезникам о своих гастрономических вкусах.— Обожаю треску в белом соусе. Что касается вин, лучше французских нет ничего на свете. Когда я жил в Лондоне, то платил втридорога за французские вина. Англичане пьют бурду. Их пиво отвратительно, а они употребляют его вместо кофе и чая, причем поят даже своих детей. Российский напиток «квас», и тот приятней на вкус.
Любезный и веселый Локателли имел брата-импресарио итальянской оперы-буфф, несколько лет назад дававшей спектакли на сцене императорского Летнего сада. Воздух кулис всегда был сладок кавалеру, и он принялся расспрашивать Локателли о певицах и балеринах, подвизавшихся в Петербурге. Тот пожаловался, что оперы больше не существует; лучших артистов переманили на придворную сцену, публика перестала ходить, брат разорился. Кавалер от души посочувствовал. Матушка его, ныне проживавшая на покое отставная певица, молодой ездила гастролировать в Петербург, но, имев несчастье понравиться герцогу Бирону и не понравиться императрице Анне, довольно скоро вернулась, привезя в Венецию множество рассказов и ворох русских мехов. И мысли кавалера от певиц устремились к мехам: скоро весна, а стало быть, пора подумывать об отъезде, раз не удается лицезреть императрицу; уезжая, не худо бы прихватить из России какие-нибудь ценные сувениры.
Потом составился вист, и кавалер не заметил, как стемнело. Он играл бы до утра роберт за робертом, забыв обо всем на свете, но дорога до Петербурга шла полями, приходилось бояться волков. Встав с приятной тяжестью в желудке и не менее приятным выигрышем нескольких десятков рублей, он вспомнил о Заире. Мысль снова войти в вонючую лачугу претила ему, но оказалось, что Заира давно сидит в санях. Девушка прибежала сама, поторапливаемая обеспокоенным семейством, и теперь, шмыгая посиневшим носом, пересмеивалась с возницей и Акиндином. Тяжело рассевшись в санях, благоухающий дорогим вином и табаком, кавалер благодушно велел своей челяди трогать.
ВЕСНА
В Италии уже начинались полевые работы, а здесь, вблизи Северного полюса, все было сковано морозом. Напрасно кавалер повторял строчку Горация: «Злая сдается зима, сменяясь вешней ласкою ветра...» Ветер по-прежнему пронизывал до костей.
Денег, которые он выигрывал то тут, то там, даже не прибегая к передергиванию, вполне хватало вследствие крайней Дешевизны российской жизни. То ли московиты в грош ценили плоды своих трудов, то ли были так бедны, что, поднимись цены выше, они бы не смогли ничего купить, но стоило все копейки, а кавалер выигрывал рубли. Однако для него, привыкшего шмвырять тысячами, доходы эти казались весьма жалкими.
Он побывал еще раз у графа Панина, был принят и, блеснув образованностью, долго беседовал с вельможей о педагогических взглядах Руссо и Вольтера, об итальянской поэзии и Ариосто, о золотом запасе Пруссии и воинственных намерениях Турции, но, как он ни старался заинтересовать собой Панина, тот ничего ему не предлагал. Наконец кавалер прямо заявил, что мечтает служить великой и знаменитой государыне в любой должности. Панин промолчал. «Черт побери»,— подумал кавалер и поехал в Гостиный двор, что на Васильевском острове, прицениваться к мехам.
Невозможность разговаривать с Заирой все более тяготила его, ибо он всегда полагал, что без очарования слова любовные наслаждения даже не заслуживают сего наименования. Как-то раз он посетовал Ринальди, что любить немую — радость невелика.
— Для меня три четверти наслаждения всегда составляла беседа с возлюбленной, ее милый лепет, неясные словечки, когда она тает в моих объятиях, а Заира кроме своего татарского наречия никакого языка не знает.
К удовольствию кавалера старый архитектор, свободно изъяснявшийся на языке московитов, предложил дать Заире несколько начальных уроков итальянского с тем, чтобы потом сам кавалер смог учить ее дальше. Заира поначалу упиралась, но кавалер выразительно показал на трость: его уже предупреждали, что русские женщины понимают только палку.
Счастливое это обстоятельство — отсутствие вечерами Заиры — дало ему возможность продолжить перевод «Илиады». Литературные замыслы одолевали его. Помимо громадного переводческого труда он хотел написать кое-что в пику г-ну Вольтеру, мнившему себя непогрешимее папы, а также нечто об астрономии и летоисчислении; сонеты непроизвольно стекали с пера на бумагу, и в голове бродил сюжет пьесы, в которой могли бы блеснуть его друзья-актеры. Получить бы должность, которая даст ему возможность не бросаться впопыхах на первый же зов Баумбаха принять участие в очередной карточной игре.
Близился сороковой день его рождения, дата значительная, некий рубеж между жизненным подъемом и спуском. Лучшая часть жизни была позади. Юный, всепобеждающий Казанова, для которого не существовало ничего, кроме наслаждения, утонул, прыгнув в Темзу с Лондонского моста; зрелый и осторожный кавалер де Сенгальт, помимо любовных удовольствий, хотел верного дохода и литературной славы.
Безумно длинный пост близился к концу и сделался так строг, что московиты ели только хлеб всухомятку, да и то раз в день. Кавалер с жалостью поглядывал на гостиничную прислугу, исхудалую и бледную, однако герр Бауэр, будучи сам лютеранином, зорко следил за благочестием подданных, грозя доносом нарушителям: наверно, это было ему выгодно. Даже Акиндин, гайдук кавалера, спал с лица. Заира тоже намеревалась поститься, но кавалер строго ей запретил, пообещав отослать к отцу. Она надулась. Кавалер по-прежнему был влюблен в малышку. Она приобрела новое очарование, научившись лепетать ласковые словечки, и волновала его безмерно, произнося на чуждом ей языке «милый, любимый, дорогой». От него она переняла несколько выражений венецианского простонародья, не совсем пристойных, и, произнося их не к месту, заставляла его безудержно хохотать.
Его несколько смущала ее тихая покорность в минуты страсти. Большой знаток науки наслаждений, он жаждал ответных восторгов. Обеспокоенный, он даже просил Ринальди расспросить Заиру, однако тот уклонился от поручения, обещав, что вскоре Заира начнет сама понимать итальянскую речь: девочка училась легко и с охотой. Когда она, становясь раскованной, весело болтала с Акиндином и прочей прислугой, кавалер испытывал ревнивую зависть. Ему хотелось объяснить ей многое: и то, что предаваться любви среди бела дня вовсе не стыд, ибо дневной свет удваивает наслаждение, позволяя участвовать в нем всем чувствам одновременно, или что для возбуждения влечения нужна не полная нагота, а возможность угадывать женские прелести под легким покровом одежд и прелестного кокетства,— но между ними стояла незримая стена.
Он утаил от всех день своего рождения: это событие было слишком личным и никого не касалось. Зеркало давно подсказывало ему, что он стареет. Когда он входил в какое-либо собрание, глаза красивых дам уже не зажигались навстречу ему сверкающими бриллиантами; молодые петиметры чуждались пожилого вертопраха и удивленно косились, когда, забывшись, он начинал слишком бойко вести себя. Он не мог не чувствовать раздражения. Когда исчезает обаяние молодости, в силу вступает обаяние чинов и денег, но ни того, ни другого у него не было, а ценить его ум, обширные познания, разнообразные таланты и возвышенную душу достойных людей не находилось. Еще раз внимательно вглядевшись в зеркало, он повторил про себя, что обладает великолепным здоровьем, свободен, ни от кого не зависим и что сорокалетие, в конце концов, самый цветущий возраст для мужчины. Не понимая настроения своего барина и не мешая ему любоваться собой, Заира, пристроившись возле, нежно перебирала его безделушки — флакончики из горного хрусталя, отделанные золотом, золотую зубочистку, аметистовую булавку с бриллиантом, другую — с жемчужиной, золотой перстень-печать с изображением Геракла и прочее, вызывавшее ее благоговейный восторг.
ВЕРБНЫЙ БАЗАР
Всякий раз в день его появления на свет — второго апреля — с кавалером случалось нечто важное и замечательное, иногда менявшее жизнь. Заехав так близко к Ледовитому океану, он с любопытством ждал, что стрясется на этот раз. Сюрприз не замедлил: сбежал лакей Ганс Ламбер, прихватив золотую табакерку с изображением Колизея на эмали. Кавалер ничего не платил ему с самого Берлина, и табакерка могла быть зачислена в счет долга, но кто его станет брить, пудрить парики; как обходиться благородному господину услугами грубого гайдука — единственного оставшегося у него слуги? Герр Бауэр советовал заявить в полицию. Глупый немец, долго живя в России, позабыл, что в Европе крепостного права нет, и, следовательно, Ганс был волен распоряжаться собой, тем более что табакерку эту кавалер и сам позаимствовал у герцога Карла, позабыв вернуть. Следовало нанять лакея, но где сыскать надежного и расторопного слугу в этой стране, где простонародье не изъясняется по-французски? Герр Бауэр обещал посредничество, и раздосадованному кавалеру не оставалось ничего, как ждать.
Неожиданно во время поста московиты устроили себе гулянье, которое называлось «Вербный базар». Тысячи людей высыпали на улицы, подставляя робкому солнцу изможденные, бледные лица. Воздух зазвенел от криков торговцев:
— Оладьи-оладушки — для деда и бабушки — для малых ребяток — на грошик десяток,— кричал один.
— Вот сбитень горячий! Налью без сдачи. Честные господа! Пожалуйте сюда! — надрывался другой.
Пищали свистульки, тарахтел горох в бычьих пузырях, дудели рожки. Кавалер удивленно походил по базару, расположившемуся по другую сторону луга перед царским Зимним дворцом. Торговали всевозможными игрушками, глиняными, соломенными, тряпичными, бумажными цветами, херувимами из воска, лубками, свистульками, орехами и семечками, изюмом, турецкими стручками, так что рябило в глазах. Попятившись от толкучки, кавалер ступил на луговину, и ноги его в парижских башмаках тут же погрузились в чавкающую трясину, к счастью, полузамерзшую. Выбравшись не без труда на твердое место, он не на шутку рассердился:
— Что, у вашего великого Петра не было другого места построить столицу? — накинулся он на гайдука.— Я понимаю, в Венеции не хватает земли...
— Оно противу шведа...— задумчиво пояснил гайдук.
— На границах с незапамятных времен принято строить крепости, а не столичные города,— возмущался кавалер.— Ну народ, ну страна!
— Чегой-то он раскудахтался? — утерев нос рукавом, спросила у Акиндина толстая баба, торговавшая пирожками..
— Вишь, башмаки барин запачкал.
— А чего в болото полез? Тут прошлым летом корова завязла, еле вытащили.
Заира тоже хотела увидеть вербное гулянье, и едва кавалер вернулся, бросилась к нему, что-то лопоча на своем невразумительном языке.
— На базар хочет,— перевел гайдук.
— Она, что, сдурела? — изумился кавалер.— Чтобы я отпустил ее в эту толчею?
Заира разревелась. Не выдержав, он разрешил ей прогулку вдоль Невской першпективы в сопровождении гайдука и дал немного денег на покупки. Утомленный уличным многоголосьем, созерцанием азиатских нарядов и невозможных лиц, взяв томик Петрарки, он прилег на кровать. Он искренне любил поэзию и сам грешил стихами. Как много способностей даровала ему природа! Он бриллиант, но без оправы. Какой же гранью блеснуть ему у московитов? Составлять законопроекты? Здесь такой необъятный беспорядок во всем, что работы хватит до конца дней. Впрочем, выдумывать законы мастера все, никто не умеет их выполнять. Или объявить себя астрологом и прорицателем? Досадно, что он до сих пор не смог познакомиться ни с одной знатной дамой: волшебная цифровая пирамида, придуманная им, могла бы и здесь принести пользу.
В номер заглянул Ринальди, осведомляясь, почему малышка не идет на урок. Обрадовавшись собеседнику, кавалер удержал его. Они разговорилась. Между прочим, архитектор рассказал кое-что о своей жизни в России:
— Начал строить я в Малороссии...— вспоминал он.
— Что за страна? — изумился кавалер.
— Малая Россия. Мы находимся сейчас в Великой России. Там и тут проживают русские. Однако в Малой России есть люди, желающие ее обособленности от Великой России. Надеюсь, императрица покончит с гетманством, ибо разделять единый народ из-за корыстных интересов местной знати весьма неблагоразумно. Пример нашей Италии, разодранной на мелкие государства, перед глазами...
Но кавалера не интересовали внутренние проблемы России, если они не касались до него.
— Мне чужды и непонятны все эти границы и межи. Я человек свободный.
— В этой жизни все мы рабы.
— Только не я. Ни одна женщина, ни одна профессия, ни одна страна не могут привязать меня навсегда. Я — гражданин мира и живу по высшим законам бытия.
Ринальди вздохнул, пригорюнившись:
— Что до меня, то я раб.
Вернулась наконец Заира, сияющая и довольная; гайдук тащил следом корзину, доверху наполненную всевозможными покупками: это были гостинцы для обитателей екатерингофской лачуги. Услыхав, что на Пасху барин согласен свозить ее домой, она взвизгнула и от полноты души повисла у кавалера на шее, целуя его в колючую щеку.
Гордо поглядывая на архитектора, кавалер продекламировал Горация:
Восхищен я Гликерою,
Что сияет светлей мрамора Пароса,
Восхищен и нравом я,
И опасной для глаз прелестью личика.
— Поздравляю вас,— с кислой улыбкой сказал Ринальди.
ПАСХА
На Пасху вскрылась Нева. Равнодушный к красотам природы, кавалер увидел из окна такое обилие воды, что, позабыв об окружающей праздничной суете, долго созерцал ледоход, пока не воскликнул с негодованием:
— Как можно строить дома на берегу реки с таким сильным паводком!
Его уверили, что опасности нет никакой, это не паводок, Нева и летом столь же полноводна. Московиты испытывают вечное недоверие к иностранцам и готовы лгать им прямо в глаза, лишь бы те не заметили их ошибки и промахи.
На второй день Пасхи он, как и обещал, свозил Заиру в Екатерингоф, где выдержал ползанье всего семейства на коленях, целование рук и бесконечные благодарности. Потом он отлично пообедал у Локателли и выиграл немного в бириби. Считая себя человеком свободной мысли, он не ставил ни во что местные церковные праздники; впрочем, в свою Пасху он сходил к мессе, что служили неподалеку в костеле св. Петра и Павла.
Через несколько дней, проходя по Невской першпективе возле Полицейского моста, он стал свидетелем чьих-то многолюдных похорон. Полюбопытствовав, кому такая честь, он услышал, что хоронят какого-то Ломоноса.
— Вельможа? Князь? — попросил он уточнения, и был поражен, услыхав, что провожают великого ума человека и первого поэта России.
Как? У московитов есть поэты? Допустим, кто-то из них смог чему-нибудь обучиться в европейских университетах, но вообразить, что их неблагозвучный язык способен выстраиваться в стихи, было совершенно невозможно. Любопытствуя, кавалер попытался расспросить об этом Ломоносе кое-кого из знакомцев, однако ему отвечали неохотно. Императрица не жаловала пиита и даже послала Григория Орлова забрать оставшиеся от покойного бумаги, так что можно было предполагать опасные для государства дела.
НЕЗНАКОМКА
Добродетельный образ жизни, который кавалер вынужден был в последнее время вести, сильно прискучил ему. Заира всегда была под рукой, покорная и услужливая, а как ни вкусно какое-то блюдо, вскоре захочется чего-нибудь новенького. На дорогих дам у него недоставало денег. Баумбах предлагал свести его к дешевым, однако, строго блюдя свою незапятнанную репутацию, которая могла ему еще понадобиться, кавалер не решался. Еще никогда до сих пор не бывало с ним, чтобы столько времени он довольствовался одной женщиной.
Однажды, когда он был у себя в номере, его позвали вниз с просьбой помочь: в гостиницу приехала какая-то иностранка, которая не говорит ни по-французски, ни по-немецки. Кавалер тут же сошел вниз. Молодая красивая женщина нервно ходила по вестибюлю. Нарядное платье туго облегало умопомрачительный стан, расширяясь на бедрах огромным колоколом; шляпа являла собой целую охапку роз. Ноздри кавалера затрепетали: вокруг дамы реял нежный аромат дорогих духов. Взыграв, как боевой конь, он с поклоном приблизился к незнакомке, рассыпаясь в любезностях. Она сделала знак, что не понимает, и внезапно обратилась к нему на его родном языке, говоря, что ей нужно удобное жилье.
— Где же ваши слуги и вещи? — полюбопытствовал он.
— На улице,— нетерпеливо кивнула она в сторону двери. Они с хозяином «Золотого якоря» отвели иностранку в лучший из свободных номеров. Оставшись довольной, она распорядилась кликнуть своих людей, и герр Бауэр удалился исполнять поручение. Кавалер был опьянен. Он давно не видел такой очаровательной шейки и такой свежей кожи. Ее аристократические манеры изобличали особу высшего круга, а присущая ей благородная сдержанность свидетельствовала, что это женщина порядочная. Сказав пару изысканных комплиментов, кавалер представился, но в ответ незнакомка назвать себя не пожелала, помахав с милым кокетством пальчиком перед ртом.
— Назовите по крайней мере страну, где расцветают такие розы,— настаивал он.
Она снова покачала головой.
В комнате стояла большая кровать, и кавалер уже прикидывал, как бы завести разговор о любви, но незнакомка, отвернувшись, занялась снятием своей огромной шляпы, что без горничной было делом нелегким. Булавки не хотели откалываться, и наконец она в нетерпении сдернула шляпу вместе с белым своим париком. На плечо ее упала толстая, черная коса. Кавалер разинул рот: перед ним стояла Заира.
— Не знаю, как мог я так обмануться,— говорил позднее кавалер архитектору, изумленно поглядывая на Заиру. Горделиво развалившись на канапе, она покачивала ножкой в остроносой шелковой туфельке, во всем подобная парижанке. Ринальди довольно похохатывал, потирая руки: учитель, он гордился своим созданием. Шутку придумал он, обучив Заиру манерам и необходимым фразам; он же купил роскошный наряд, очень ей шедший. Кавалер тут же отдал ему потраченные на Заиру деньги: малютка давно нуждалась в красивом платье.
Она очаровала его с новой силой. Переимчивая, как обезьяна, она вполне усвоила светские манеры и разговорные итальянские выражения. Иногда ей не хватало слов, зато его речи она теперь понимала, он видел это по глазам.
— Когда ты станешь говорить по-итальянски совсем свободно, я влюблюсь в тебя окончательно,— признался он.
— Когда ты окончательно влюбишься, что ты сделаешь? — коварно спросила она.
Он задумался: вопрос был трудный.
— Возможно, я не захочу с тобой расстаться.
А почему бы и нет? Например, у него перебывало множество карманных часов — золотых, с бриллиантами, с портретами, луковкой, плоских, всяких, по три-четыре разом, однако любимыми, которыми он всегда пользовался, всю жизнь оставались часы, подаренные ему еще в Венеции сеньором Брагадино.
КРЕВКЕР И ЛЯРИВЬЕР
Утомленные любовными нежностями, они мирно завтракали в своем уголке. Маленькая дикарка уже научилась пользоваться вилкой и ножом, не чавкать, не вытирать ладонью рот, а если она иногда облизывала пальцы, то влюбленный кавалер ласково ее поправлял. Сидеть за одним столом со своим господином Заира считала за великую честь: дома, когда ее отец ел, вся семья в ожидании своего часа лишь поглядывала издали.
Завтрак любовников был прерван вторжением незваных гостей: то был изящный молодой человек и миловидная его спутница, одетая по последней моде, то есть в фижмах, не пролезавших в дверь. С неудовольствием отставив кофейник — чему Заира была втихомолку рада, так как невзлюбила кофе,— кавалер развернул врученное ему гостями рекомендательное письмо. Оно было от герцога Карла Курляндского. Беспутный Его Высочество горячо хвалил некоего Кревкера, лотарингского дворянина, и его подругу из Парижа м-ль Ляривьер, выражая надежду, что милый друг Сенгальт окажет им в Петербурге свое покровительство.
— Чем могу быть полезен? — весьма сухо осведомился кавалер, кончив читать. Гости хотели, чтобы он познакомил их с богатыми людьми, ввел в свет, на что кавалер резонно заметил, что, будучи иностранцем, мало кого знает в Петербурге.
— Впрочем, если у вас есть деньги, а цель — познакомиться со страной, вам вовсе не нужны светские знакомства. К вашим услугам театр, променады, общественные балы.
— Денег у нас как раз и нет,— живо откликнулся гость. Кавалер внимательно оглядел его камзол: кажется, именно такой он видел на герцоге Карле. Что до платья дамы, оно было с плеча любовницы герцога. Ему стало понятно, что за птички впорхнули в его окошко.
— Как путешествовать без денег? — хмыкнул он.
— Наш кошелек — в карманах наших друзей,— очаровательно улыбнулась гостья, ничуть не смутившись.
Шулер и потаскуха, не было сомнений. Весьма любезно со стороны герцога посылать эту парочку к нему. Чтобы отделаться, он заявил без обиняков:
— Для вас, сударыня, я бы рад служить карманом, однако он у меня пуст. Что до вас, сударь, повторяю, я никого не знаю в Петербурге.
Гости упорно не уходили. Заира, не понимавшая по-французски, обеспокоенно потребовала объяснить, что от него хотят. Кавалера выручило появление Баумбаха. Веселый малый при виде хорошенькой парижанки тут же загорелся и предложил всей компанией отправиться в Красный Кабак. Гости обрадовались, и кавалер тоже: Красный Кабак давно манил его, и вполне пристойно было появиться там с военным человеком. Пришлось взять с собой и Заиру. От радости она не помнила себя и убежала наряжаться.
Если бы не присутствие малышки, поездка прошла бы на славу. В Кабаке было полно офицеров; играли по-крупному. Кревкер тут же вошел в банк, Баумбах и м-ль Ляривьер занялись друг другом, а кавалер не мог оставить Заиру, которая произвела на офицеров такое впечатление, что он в конце концов вынужден был взять ее к себе на колени, ограждая тем самым от приставаний. Офицеры продолжали обращаться к девушке на местном языке, и ему оставалось только хмуриться. Впрочем, внимание Заиры было приковано к м-ль Ляривьер, которую она сразу невзлюбила. Девушка с удивлением наблюдала за кокетством Ляривьер с Баумбахом и с не меньшим удивлением посматривала в сторону Кревкера, не обращавшего на парочку никакого внимания.
— Почему он не ревнует? — наконец спросила она.
— Он ей доверяет,— хихикнул кавалер.— Ведь я тебя тоже не ревную.
— Разве я подаю повод? — удивилась она.— Нет. Мне кажется, он просто ее не любит. А ты ревнив?
— Да,— усмехнулся он.— «Кто тот юноша был, Пирра, признайся, что тебя обнимал в гроте приветливом...»
— Кто такая Пирра и что такое «грот»? — не поняла Заира. По правде говоря, кавалер понятия не имел, ревнив ли он: его многочисленные романы всегда были так кратковременны, что возлюбленные просто не успевали дать повод.
— Измены я не прощаю,— наконец глубокомысленно сообщил он.— Подобно Оросману я способен пронзить кинжалом грудь изменницы.
— Разве можно променять тебя на другого! — изумленно вскрикнула Заира. К зависти окружающих, они поцеловались. В те минуты разнежившийся кавалер был готов исполнить любой каприз своей крошки. Догадайся она тогда, возможно, ей удалось бы выпросить свободу — однако она не хотела свободы; наоборот, ее желанием было как можно крепче привязать к себе необыкновенного любовника.
РЕВНОСТЬ
Наутро от Баумбаха пришло приглашение на обед. Заира начала собираться, однако на этот раз кавалер решил не брать ее с собой: Баумбах писал, что будут его полковые сослуживцы, и кавалер не пожелал снова переживать беспокойство за сохранность собственности. Заира надулась.
— Там будет и эта драная кошка? — Она подразумевала Ляривьер.
— Драная кошка меня не интересует,— сухо отозвался он,— а ты должна знать свое место.
Но Заира не пожелала, расплакалась и схватила парик кавалера, побожившись, что не отдаст его. Ничего не оставалось, как проучить строптивицу тростью. Азиатки понимают лишь побои; более того, они считают битье проявлением любви со стороны мужчины и после становятся как шелковые.
У Баумбаха собралось превеселое общество; Ляривьер оказалась единственной дамой, что, впрочем, ее ничуть не смутило. Играли; «фараон» закончился около полуночи, причем Баумбах проигрался вдрызг. Кревкер кое-чем разжился, и то потому, что пару раз сплутовал. Что до кавалера, то он пополнил свой кошелек порядочной суммой. Затем начали пить — по-московитски, без меры, до бесчувствия. Ляривьер не отставала от мужчин и кончила тем, что, освободившись от юбок, принялась отплясывать на столе. Единственный среди гостей остававшийся трезвым, кавалер с невозмутимостью наблюдал, как веселится молодежь. Когда-то и он предавался всяческим безумствам, однако беспечная юность миновала; нынче его одолевали заботы. Если уезжать из России, то куда? В Испанию, на другой конец Европы, где он пока не побывал? Добраться до Екатерины! Что, если отправиться с визитом к Григорию Орлову? Риск быть не принятым, нарваться на оскорбление сдерживали его. Что за невезение! Он с легкостью добивался аудиенций у европейских монархов, видел Людовика XV Французского, Карла Английского, Фридриха Прусского,— и только Российская императрица оставалась для него недоступной.
Вернувшись ночью домой и ожидая увидеть Заиру спящей, он тихо вошел в спальню, и тут в голову ему полетела бутылка, брошенная яростной рукой возлюбленной, так что он еле успел увернуться. Заира, издавая вопли, упала на пол и начала кататься по нему, колотя ногами и головой. Решив, что у девчонки припадок падучей, кавалер испугался, подбежал к ней и уже хотел звать на помощь,— однако Заира села и сквозь рыдания и всхлипы принялась осыпать его бранью и упреками, причем употребляла очень непристойные венецианские словечки. Оказывается, в его отсутствие, встревоженная, она гадала, и карты сказали, что нынче ночью любовник ей изменил. И это тогда, когда он оставался целомудренным, как Иосиф! Перемежая русскую речь с итальянской, она стучала ладонью по разложенным картам, показывая на даму червей, и наконец, собрав их, в бешенстве шмвырнула колоду ему в лицо.
Кавалер был поражен: и это Заира? Он и не подозревал, что у кроткой, послушной его овечки такой опасный нрав. Молча собрав карты, он бросил их в печь и, одарив скандалистку взглядом, полным гнева и презрения, сказал:
— Ты меня чуть не убила бутылкой. В дальнейшем я не желаю подвергаться такой опасности. Сейчас я ложусь спать, а завтра я отвезу тебя к родителям, и мы расстанемся навсегда.
С этими словами он лег и тотчас уснул, так как был сильно утомлен бестолковым вечером.
На рассвете он пробудился. Она спала рядом, утонув носом в подушке. Стараясь не разбудить ее, он встал и принялся одеваться, прикидывая, что разумней всего отделаться поскорей от маленькой фурии, столь неукротимой в ревности. Рано или поздно она размозжит ему голову, ибо не собирался же он отказываться от других женщин ради нее. Она, внезапно проснувшись, села на постели, такая же соблазнительная в своей легкой рубашке и с распустившейся косой. Увидев строгое лицо кавалера, она вскочила и кинулась перед ним на колени, обнимая его ноги, умоляя простить ее и не прогонять. Кавалер некоторое время крепился. Однако у него было нежное сердце. Почувствовав себя султаном Оросманом, он процитировал строки Вольтера:
Заира! Были дни, когда, обворожен,
Внимал я зову чувств, любовию сражен.
Жестоко раненый, все ж горд я и велик,
И не унижусь до притворства ни на миг.
Для ваших выходок, достойных сожаленья,
Награда — самое холодное презренье.
Не понимая ни слова по-французски, она рыдала. Он же, окончив декламацию, заключил малютку в объятия, простил и тут же отнес на кровать, где и доказал ей на деле свою вернувшуюся любовь.
СЕН-ЖЕРМЕН
В разговоре с Ринальди кавалер принялся спрашивать, куда можно съездить еще и что увидеть значительного в Петербурге, надеясь в глубине души, что архитектор пригласит его на какую-нибудь новостройку, где можно повстречать значительных особ.
— В Петербурге много значительного,— заметил тот, не отрываясь от чертежа.
— Вы преувеличиваете. Петербург не более чем малоудачная копия европейского города, созданная капризом деспота на обледенелом восемь месяцев в году болоте. Разумеется, для ваших созданий я делаю исключение.
— Тогда съездите в Москву,— посоветовал архитектор, так и не поняв, чего от него добивался собеседник.— Посмотрите на Россию.
— Стоит ли? — пожал плечами кавалер.— Россия — пустое пространство. Культура, общественное мнение, наука, искусство — здесь все отсутствует. Московиты совершенно нецивилизованны; они лишь обезьянничают, подражая Европе. Они бездумно копируют западные образцы, хотя чужды римско-католической культуре. Надеюсь, у них достанет здравого смысла не переносить под хмурое северное небо античные портики и колонны, входящие ныне в моду.
— А в чем дело? — навострил уши архитектор.
— Природа требует здесь другой архитектуры. Впрочем, самый воздух этой страны враждебен искусству. Полагаю, эта страна — вечная угроза просвещенному Западу. Вне сомнения, Россия мечтает о всемирном господстве...
— Сударь, вы сильно преувеличиваете...— не выдержал архитектор.
— Ничуть. В недавнюю бытность мою в Лондоне кавалер д’Эон рассказывал мне о тайном завещании Петра, которое сей ловкий шпион сумел раздобыть в архиве Петергофа...
— Кавалер? — удивленно переспросил архитектор.— При дворе императрицы Елизаветы подвизалась девица д’Эон...
— Девица? — развеселился кавалер, вмиг забыв о России и московитах.— Клянусь, я с первого взгляда усумнился в его поле...— И он с жаром принялся обсуждать пол д’Эон.
У Ринальди было много работы. Императрица поручила ему возвести на площади перед Зимним дворцом большой деревянный амфитеатр для воинских выступлений, он спешил,— однако нельзя было не заслушаться рассказами кавалера, особенно когда тот бывал в ударе, а удар случался всегда, если только находился благодарный слушатель. От девицы д’Эон кавалер перешел к другим девицам, вспомнил венецианок, заговорил о строгостях властей к художникам, пишущим обнаженную натуру. Припомнив, что Екатерина не пожелала опять сделать заказ Тьеполо, славному венецианскому мастеру, Ринальди начал было:
— Императрица на днях сказала мне...
— Вы недавно видели императрицу? — загорелся любопытством кавалер. Он засыпал Ринальди вопросами: как выглядит монархиня, во что одета, не намерена ли куда-нибудь уехать из Петербурга?
— Между прочим, речь коснулась вас,— как ни в чем не бывало сообщил Ринальди.
Кавалер подпрыгнул.
— Мы говорили об архитектурных ордерах. Государыня очень образованна и во всем разбирается. Вообще, она — перл среди женщин. Трудолюбие — ее основная черта. Представьте, она встает с рассветом и тут же садится за составление законов...
— Вы говорили об ордерах...— простонал кавалер.
— Да, и я сказал, что некий просвещенный венецианец, друг Винкельмана, рассказывал мне о новых веяниях в искусстве. Тут государыня спросила: «Высокий и смуглый?» Она где-то вас видела.
Лицо кавалера расплылось в блаженной улыбке. О женщина! Да, видела. Единожды, на зимнем карнавале: всепроникающий, сладостный взгляд, длившийся мгновение, но составивший вечность.
В ту ночь он удивил Заиру, оставив ее в покое, и лишь томно потягивался на кровати, развалясь во весь свой немалый рост, долго не в силах уснуть.
Наутро он помчался к графу Панину, счастливо застал его, был принят и без обиняков сказал, что не может уехать, не лицезрея монархиню, столь мудро управляющую великой и прекрасной страной. Панин, помолчав, ответил так же откровенно:
— Вас плохо отрекомендовали Григорию Григорьевичу Орлову.
— Кто же? Уж не Зиновьев ли?
— О,— усмехнулся вельможа,— у вас есть враги опаснее. Ни за что не догадаетесь. Это граф Сен-Жермен.
Сен-Жермен!.. Будто гром раздался с ясного неба. Его всегдашний соперник, опережавший его в славе, в успехах у женщин, в милостях королей, более одаренный, загадочный, обаятельный, образованный и, как ни досадно, более утонченный. Утверждал, что помнит Понтия Пилата, и ему верили. Кавалер боролся с ним, где только мог. Помнится, несколько лет назад в Гааге ему удалось восстановить против графа французского посланника и еще кое-кого, сорвав грандиозную денежную аферу своего врага. Последний раз они виделись около года назад, когда, прибыв в Кале из Лондона, кавалер сильно досадовал на вывезенную из Англии болезнь, и граф с милой улыбкой предложил вылечить его за три дня с помощью пятнадцати пилюль. Слава Создателю, он не решился глотать эти подозрительные пилюли.
— Сен-Жермен — человек необыкновенный,— пробормотал кавалер.— Первый среди обманщиков, король шарлатанов, астролог и чародей. Но откуда ему знать Григория Орлова?
Спокойный и снисходительный, Панин, перебирая бумаги, рассеянно ответил:
— Сен-Жермен долго жил в Петербурге и даже принимал участие в славной революции, возведшей на престол нашу государыню.
Его посетителю оставалось только заскрежетать зубами. Проклятый колдун был здесь в знаменательном 62-м году! Неужели этот самозваный граф действительно наделен способностью предвидеть события?
— Но ведь Сен-Жермен сейчас далеко...
— Он прислал письмо,— живо объяснил Панин.
Все было кончено. Интересно, что именно сообщено Орлову? Впрочем, даже если крупица славы Джакомо Казановы достигла ревнивых ушей фаворита, ни высочайшей аудиенции, ни должности ему не видать. Черт подери Сен-Жермена, Григория Орлова и Екатерину — эту современную Агриппину, за три неполных года своего правления успевшую отправить на тот свет двух законных российских императоров, а собственного сына лишить короны.
Вернувшись в гостиницу, он отобрал карты у перепуганной Заиры и распорядился:
— Собирайся: мы едем в Москву. Заира взвизгнула от радости.
Вечером, пока Заира весело укладывала в чемодан свои ленточки и воротнички, болтая с горничной, кавалер ужинал один внизу, и сам герр Бауэр прислуживал ему. На ужин в числе прочего подавалось кушанье необычайное — жареная корюшка. Мощный, крепкозубый рот кавалера работал без устали, поглощая горы мелкой рыбешки. Запивая сей дар невских вод отменным французским вином, кавалер повторял строку Горация «Пользуйся днем, меньше всего веря грядущему». Он был весел и доволен жизнью как никогда.
ДОРОГА В МОСКВУ
В Петербурге перестало темнеть. Если зимой кавалер не мог определить, который час, и собирался спать уже в обеденную пору, то теперь, с удивлением глядя на солнце, сверкавшее чуть ли не в полночь, он возмущенно осведомлялся, когда же настанет ночь.
— Месяца через полтора,— ответили ему.— Коротенькая.
Услышав облегченно, что в Москве с ночью все обстоит благополучно, он заторопился в дорогу. Прежде всего он предусмотрительно озаботился рекомендательными письмами и обзавелся ими без труда в большом количестве. Был нанят возница, удобный экипаж и две тройки лошадей,— все очень недорого, особенно если учесть, что проехать только в один конец надо было 500 итальянских миль, или, как выражались московиты, свыше 600 верст. Местная дешевизна продолжала удивлять кавалера: денег в России было мало, и они очень ценились. В дорогу он решил взять, помимо Заиры, гайдука и пару добрых пистолетов. Проверив, достаточно ли перин навалено на дно экипажа и много ли съестного запрятано по ящикам и карманам в стенках, кавалер назначил день отъезда.
Выехали по выстрелу пушки, обозначавшему наступление вечера, без чего население Петербурга не знало бы, когда заканчивать дневные труды. Возница расхваливал дорогу, но кавалер не очень-то в это верил и оказался прав: несмотря на перины, трясло их немилосердно. Заира пищала, однако ему, заядлому путешественнику, было не привыкать. Дорога всегда была его стихией, трудности его не пугали. Предвидя обилие насекомых в придорожных отелях, он заранее оповестил челядь, что ночевать они станут в экипаже, и во всю дорогу придерживался этого неукоснительно, предоставляя гайдуку спать под колесами.
Ехали не без приятности. Еды было вдоволь, Заира под боком. Можно было даже уделить время литературным занятиям. В России ничто не привлекало внимания. Деревни, через которые они проезжали, были все на одно лицо и отличались крайним убожеством.
— Последняя лачуга в Европе — дворец по сравнению с «избами»,— высказался по этому поводу кавалер.
Отрываясь время от времени от еды или книги, окидывая взором унылые просторы, он качал головой:
— Ни одной горы! Совершенно плоская земля. Кончался май, все цвело и зеленело, однако ни олеандров, ни пиний, ни оливковых рощ, ни виноградников ему не встретилось за все долгое время пути. Здесь росли только чахлые березы да ели и еще какие-то совсем невзрачные кусты. Оставалось удивляться трудолюбию местных жителей, ухитрявшихся за три месяца, когда их тощая земля оттаивала, вырастить хлеб себе и скотине. Из окон экипажа он видел работавших в полях селян. Впрочем, они везде одинаковы: и на полях Италии и Франции так же гнули спины. Его интересовали туземные женщины, однако Заира начинала хмуриться, едва завидев вдали молодую поселянку, и, не желая ссориться с малышкой, кавалер отводил глаза.
Новгород они решили осмотреть на обратном пути, и сей знаменитый град запомнился кавалеру лишь из-за случая с возницей, показавшегося ему забавным. Одна из лошадей отказалась есть, и встревоженный владелец поначалу долго уговаривал ее и даже целовал в морду, а потом, разъярившись на упрямицу, отлупил животину палкой, что сразу же заставило ее поужинать. Воистину, палка в сей стране творила чудеса. Говорят, полвека назад, во времена Петра Великого, палка употреблялась сверху донизу, так что бывал бит от царя сам первый министр, который в свою очередь бил фельдмаршалов и генералов. Весь Петербург построен из-под палки. Таковы московиты: примитивные натуры, с умом ленивым и поверхностным, они так и останутся азиатами, разумеющими лишь палку, сколько бы ни называли себя европейцами.
За Новгородом пейзаж сделался живописнее, появились неровности земли, пошли густые леса, впрочем, довольно однообразные. Доехав до места, называемого «Валдай», и увидев огромное озеро с многими островами, покрытыми елками, кавалер решил отдохнуть. Множество женщин, нарумяненных и набеленных, с нарисованными углем бровями, окружив их экипаж, стали предлагать ночлег и баню. Услышав перевод, кавалер твердо объявил Заире, что не привык быть так долго немытым. Сердитые взгляды не помогли. Он купил маленькой дурочке связку бубликов и пообещал, что они станут мыться вместе. Вымывшись первой, она сидела на страже в предбаннике и ела бублики, уверенная в верности своего повелителя: его мыли сразу две валдайки. Чтобы успокоить ее, он соглашался даже на трех.
Валдай понравился кавалеру. Разнежившись, он чуть не до Твери провалялся на перинах, обучая Заиру игре в вист. В Твери они опять отдыхали. Российские дороги бесконечны и скучны. То ли дело в маленькой, тесно застроенной Европе, где все дороги кишат путешественниками и на каждом шагу попадаются ищущие приключений дамы. Впрочем, Тверь — большой город. Как ни протестовала Заира, кавалер, поместив ее на постоялом дворе и купив орехов и пряников, ушел знакомиться с местными достопримечательностями, прихватив гайдука. Заира уснула, так и не дождавшись их возвращения.
МОСКВА
Когда же Москва и долго нам ехать? — постанывали путешественники.
Возница погонял лошадей. Несуразно большая страна эта Московия.
— Что это? — удивился однажды кавалер.
Из утреннего тумана, размахнувшись на полгоризонта, вставал небывалый город. Над ним в небесной сини реяли бесчисленные золотые кресты церквей. Много городов довелось видеть кавалеру на своем веку, но такого сказочного, величавого зрелища он не ожидал. Заира, распахнув глаза, быстро крестилась, потом вышла из экипажа и стала класть земные поклоны, чем насмешила своего барина. Кавалер обрел присутствие духа. Да, большой город. Но ведь в России достаточно места, чтобы не лепить столицу среди болот, одной ногой в Финском заливе.
Волшебство рассеялось, едва путешественники миновали городскую заставу. Москва была громадна и беспорядочно застроена. Временами было не понять, по городу ли они катились или по деревне: кудахтали куры, разбегаясь из-под колес, с остервенением лаяли собаки, несясь за ними в тучах пыли. Кавалер распорядился везти себя в лучшую гостиницу.
Ближе к центру началась булыжная мостовая, и карету сильно затрясло, так что Заира прикусила язык. Улицы стали многолюднее, появилось множество всевозможных лавок и трактиров. Надписи на них были сделаны непонятными русскими буквами, и кавалер вдруг почувствовал себя иностранцем. Странное ощущение, неведомое доселе душе космополита. Возможно, он до сих пор действительно не видал России. На каждом углу шла бойкая торговля. Московская толпа казалась по сравнению с петербургской более веселой и жизнерадостной; одежды были самые азиатские; особенно удивляли женщины, которых ходило по улицам гораздо больше, чем в Петербурге, причем все простолюдинки выглядели пригожими и цветущими.
Кавалеру понравился постоялый двор, на который их привезли: сей отель имел вполне европейский вид. Плотно и вкусно пообедав, что он делал всегда прежде всего, кавалер заказал коляску и, оставив Заиру отдыхать, отправился развозить рекомендательные письма: не собираясь пробыть в Москве более недели, он дорожил временем.
Он решил появляться всюду с Заирой. Благодаря ее крайней юности можно представлять малышку как свою воспитанницу. Заира получила указание не произносить ни одного русского слова, но говорить только по-итальянски. Взрослая одежда была спрятана; она облачилась в платье девочки-подростка. Малышка не перечила; разумеется, она бы предпочла пышную юбку, обнаженную грудь и бархотку на шейку, но в скромном своем полудетском платьице она была тоже мила и знала это.
На следующий день любезные москвичи поспешили нанести ответные визиты знатному иностранцу; кавалер сразу получил множество приглашений на обеды, именины, сговоры и бог знает еще на что; незанятых дней вовсе не осталось. Москвичи оказались на редкость гостеприимными людьми, так что приятно удивленный кавалер авторитетно заверил, что Москва — единственный в мире город, где состоятельные люди держат по-настоящему открытый стол. Можно было заявиться даже к людям совсем незнакомым, сославшись на общих приятелей, и, бросив дела, хозяева тут же усаживали незваного гостя за стол, причем долгом почитали есть сами, даже если только что пообедали. Необученная челядь плохо прислуживала; иногда кому-нибудь из гостей приходилось собственноручно накладывать кушанье остальным, зато обилие яств и их разнообразие поражали. Кавалер любил поесть, однако после двух обедов за один день он почувствовал, что лопнет, а ведь его ожидал еще ужин, не менее обильный, чем обед. В каждом мало-мальски богатом доме пищу готовили с утра до вечера, будто в большом парижском ресторане, всегда готовые накормить сколько угодно гостей.
— Я бы никогда не рискнул обосноваться в Москве: мой кошелек, как и мой желудок, были бы в опасности,— шутил заморский гость.
— Но ведь хлебосольство нам ничего не стоит,— объяснили ему.— Все съестные припасы поступают из наших деревень; целую зиму обоз за обозом.
«Крепостное право,— вспомнил кавалер.— Удобная вещь, хотя просвещенные умы его и осуждают. Неплохо родиться помещиком в России».
— И селяне делают это с охотой, не протестуют? — полюбопытствовал он.
— Да что вы! — удивился собеседник.— Они наши дети. Мы им как отцы. Ведь у них ничего нет. Они обрабатывают нашу землю; их лошади и прочая скотина, их жилища — все наше, так что работать на нас — их долг.
— Гм,— произнес кавалер. Его убеждения сформировала новейшая французская литература, и он не мог согласиться с подобными утверждениями. Нет собственности, значит, нет привязанности к родной земле, ни любви, ни самоуважения, ни нравственности, а значит, и души,— ибо только собственность делает человека существом общественным, только она является основой семьи и создает личность.
Все восемь московских дней кавалер блистал в обществе. В каждом доме, удостоенном его посещением, он помногу говорил, ослепляя москвичей фейерверком знаменитых имен и удивительных историй, случившихся с ним и его знакомыми, причем рассказывал вполне бескорыстно, не ища в Москве ни связей, ни новых знакомств. Он любил царить в обществе; изумление простодушных туземцев было ему наградой.
Заира, в свою очередь, вызывала восхищение. Все дивились красоте малютки и дружно принимали ее за итальянку, не смущаясь азиатской скуластостью ее личика. Ее манеры были безупречны — скромны и одновременно непринужденны, будто она всю жизнь провела во дворцах, а не вылезла на свет несколько месяцев назад из курной избы. Глядя на нее, кавалер и сам изумлялся, пока не вспомнил, что обезьянья переимчивость дана московитам природою: Петр повелел им стать европейцами — они тут же обрезали бороды и начали курить табак, однако в душе навсегда остались азиатами. Такова была и Заира. Однако он не мог не любоваться своею, как он выражался, маленькой богиней любви.
От внимания его не ускользнули, разумеется, и московские дамы. Ему чрезвычайно понравился один местный обычай: стоило гостю поцеловать даме ручку, как та тут же целовала его в щеку, либо, еще лучше, подставляла губы. Обычай этот, по его мнению, следовало бы ввести повсеместно, а пока он целовал руки молодых москвичек и чмокал свежие, розовые губки.
В перерывах между посещением гостеприимных домов они с Заирой осматривали город царей. Начав с Кремля, за неделю они увидели бесчисленные церкви и монастыри, где от звона колоколов у кавалера заложило уши, а Заира пылко молилась. Они осмотрели исторические памятники, дворцы, мануфактуры, общественную библиотеку. Впрочем, состав книг кавалер нашел скверным, подумав при этом, что склонный к застою народ никогда и не полюбит книги. Заира от всего увиденного была в совершенном восторге. Гайдук Акиндин, родившийся в Москве, служил им гидом и рассказывал множество преданий и событий, связанных с тем или иным местом.
— Если Петербург — это копия Европы, то Москва — дочь Азии,— подвел итог увиденному кавалер.— Сей город, столица древних царей, еще долго будет оставаться настоящим сердцем России. Тот, кто не видел Москвы, не знает России, а кто знаком лишь с жителями Петербурга, не знает настоящих московитов.
Напоследок кавалер немного приболел, а Заира, воспользовавшись передышкой, съездила к Иверской и от души помолилась, даже немного поплакав.
— Откуда такая религиозность? — брюзжал кавалер.— Ведь вы даже не понимаете службы, которая идет на греческом языке, насколько я осведомлен. И никогда не будете понимать, потому что невозможно перевести священные тексты на ваш татарский язык. Скажи на милость, чем так полюбился вам святой Николай Мирликийский, который заменяет вам всех остальных святых? Вы настоящие язычники, а не христиане, вот что я тебе скажу.
— Я молилась Заступнице,— кротко напомнила Заира. Она бы и еще погостила в Москве, однако непоседливый кавалер решил, что довольно: белых ночей здесь, к счастью, не было, зато постоянный звон колоколов его сильно донимал. К тому же не стоило медлить в городе, где только ели, а если и садились за карты, то играли по мелочи.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Всю обратную дорогу г-н де Сенгальт и его раба резались в карты. Дорога никогда не была для кавалера потерянным временем, а тут еще Заира пылко увлеклась игрой и сама заставляла его не выпускать карт из рук. Она была просто чудо, эта малютка; ни одна женщина так не ублажала его в постели, так не развлекала в другое время. Впрочем, он не преминул задержаться в Твери и Валдае, ссылаясь при этом на утомление своей крошки. Заира не перечила: ласковый обман, к которому он прибег, оказался действенней трости. Возможно, и она открыла, что покорность выгоднее швыряния бутылок. Долгому миру между любовниками немало способствовал Акиндин, расторопный и услужливый малый, склонявший хозяев ко взаимным уступкам.
В дороге у кавалера созрело окончательное решение, что делать дальше. Едва над унылыми болотами сверкнуло тонкой золотой иглой Адмиралтейство, он велел ехать поскорее, так ему не терпелось начать сборы в новое путешествие: раз в России ему не сыскать дела, он вознамерился посетить Швецию. Возможно, шведской короне пригодятся его многочисленные таланты, столь нерасчетливо отвергнутые другими монархами.
Пока ехали по предместьям столицы, застроенным жалкими лачугами, перемежавшимися громадными пустырями, заваленными всяким хламом — вещь, невозможная в Европе,— настал вечер, о чем они узнали по хлопку пушки, так как темнеть и не думало: в середине июня ночи в Петербурге не полагалось. Кавалер вздохнул: опять придется спать с повязкой на глазах.
В «Золотом якоре» все очень обрадовались возвращению знатного иностранца, начиная с хозяина, который беспокоился о неоплаченном счете, до кухонной девчонки, выносившей помои, с которой кавалер однажды перемигивался, и она мечтала занять место Заиры. Целый ворох приглашений ждал его, и среди прочих записка от герцога Карла Курляндского: его светлость недавно прибыл на берега Невы, о чем извещал своего друга Казанову. Намерения кавалера мгновенно изменились: герцог был особой высшего круга, он мог ввести в свет, представить ко двору; кроме того, там, где пребывал герцог, всегда шла игра. Швеция была отложена.
На следующий день он отправился к Баумбаху разузнать городские новости, однако дом того оказался наглухо заперт и будто вымер. Недоумевая, он надумал пойти к генералу Мелиссимо, уже вернувшемуся от турецких границ, но по дороге встретил Зиновьева. Облобызав венецианца — обычай, не вызывавший у кавалера восторга,— бравый гвардеец со смехом поведал ему, что Баумбах, вдрызг проигравшись, сбежал и уже арестован в Митаве: он был офицером, и бегство его рассматривалось как дезертирство. Кавалер поморщился, невольно припомнив собственное свое недавнее бегство из Лондона от долгов и тюрьмы.
— У нас в России строго,— похохатывая, добавил Зиновьев,— о военных и речи нет. Даже штатские под наблюдением. Никто из знатных особ не имеет права надолго покинуть столицу, не дав о том оповещения в газетах. Якобы для кредиторов, а на самом деле для полиции.
Уж не намекал ли он на то, что кавалер, уехав почти на месяц, никого не предупредил?
— Я всенепременно сделаю это, когда буду навсегда покидать Петербург,— холодно отозвался он, давая тем самым понять нахалу, что не собирается здесь навсегда задерживаться, а заимодавцев не опасается.
Вскоре стало известно, что над Баумбахом состоялся суд; чин ему, правда, сохранили, но отправили навечно в камчатский гарнизон. Что до Кревкера и его бойкой подружки, то они исчезли, едва поняли, что от Баумбаха больше не поживишься. Раздумывая над событиями, кавалер пришел к выводу, что ему сильно повезло: окажись он тут, он был бы замешан в некрасивую историю. Во всяком случае, репутации его нанесен значительный урон: ведь чуть ли не каждый вечер он играл у Баумбаха, и это известно всем.
ПОЕЗДКА К ГЕРЦОГУ КАРЛУ
Герцог Карл Курляндский остановился в доме богача Демидова, владельца сказочных уральских рудников. Говорили, будто свой дом этот счастливец велел построить из одного железа: все, от фундамента до крыши, было выковано из железа. Дом мог не опасаться пожара, однако в сыром Петербургском климате очень скоро его должна была съесть ржавчина. Кавалеру объяснили, что добираться по суше к дому Демидова придется полдня, а лучше нанять лодку и спуститься вниз по Неве: тут тебе и Демидов дом у самой воды. Венецианцу не привыкать к воде и лодкам: кавалеру это пришлось по душе, и он велел Акиндину договориться с гребцами.
Для визита к Его Высочеству кавалер облачился в костюм из зеленой тафты, вышитый стеклярусом, и зеленую шляпу с желтыми перьями. Величественный и яркий, как подсолнух, он расположился в лодке, озирая гребцов: ребята крепкие, молодые, домчат быстро. Нева кишела всевозможными посудинами, как большая дорога. Сначала плыли вдоль царского Зимнего дворца превеликой пышности; набережную перед ним украшала нарядная балюстрада из точеных деревянных балясин; возле причала стояли богатые лодки. Императрица Елизавета построила дворец для себя, но пожить в нем не успела, а поселилась здесь волею судеб захудалая Ангальт-Цербтская принцесса, которую нынче все величают императрицей Екатериной и аудиенцию у которой никак не получить. Кавалер принял гордую позу, краем глаза посматривая на дворцовые окна, уж не выглядывает ли кто-нибудь оттуда. Сразу за дворцом, отделенное каналом, развернулось Адмиралтейство. Будучи помешанным на флоте, император Петр расположил верфь, помещаемую в других странах на окраинах, в центре столицы. Кавалер бросил ястребиный взгляд на эллинги и строящиеся на стапелях большие корабли: кому продать секреты беспечных московитов? Однажды во Франции он неплохо заработал, собрав в Дюнкерке информацию о военных кораблях. Будет ли шведский король так же щедр?
За Адмиралтейством возле самого берега высилась обнесенная забором Исаакиевская церковь: ее разбирали. Ринальди показывал кавалеру свои чертежи и изображения нового собора во имя Исаакия Далматского. Впрочем, внимание кавалера отвлекло другое: реку тут перегораживал мост. Разглядев, что мост этот наплавной и уложен на баркасах, между которыми были просветы, кавалер с негодованием осведомился у гребцов, как они собираются поступить. Гребцы бодро заверили, что проплыть под мостом — дело плевое (Акиндин так и перевел), и смело направили лодку между баркасами. Они плыли так неосторожно, что их почти прижало к осклизлому боку баркаса, и пришлось отталкиваться руками. Кавалер невольно поежился, услыхав, как над головой прогрохотала телега.
Отряхивая брызги с рукава, он ворчливо упрекнул гайдука, почему тот не предупредил его об опасностях плавания. Миновали здание сената; далее по берегу сплошной стеной потянулись дворцы и особняки; перед каждым был устроен причал. Берег везде был укреплен бревнами, но деревянные перила были разной формы, а перед некоторыми домами и вовсе отсутствовали. На противоположном берегу, еле видном из-за ширины реки, на Васильевском острове, набережных вообще не было, вода плескалась у самых стен зданий.
— Когда же спадет вода? — осведомился кавалер.
Ему пояснили, что Нева всегда такова. Не сразу поверив, однако уяснив, наконец, странное сие обстоятельство, кавалер негодующе воскликнул:
— В таком случае это вовсе не река, а озеро! Если вода никогда не спадает, почему так близко к реке расположены постройки? Ведь берег очень низок.
— Так захотел царь Петр,— был ответ. Кавалеру ничего не оставалось, как предположить:
— Видно, здесь никогда не бывает ветровых нагонов и наводнений.
Переглянувшись, гребцы заверили иностранца, что не бывает. Самый молодой заколебался, но старшина показал ему кулак.
Кавалер задумался. Какое обилие чистой и вкусной воды, и до чего же противную воду он пил, добираясь до Петербурга! Московиты не догадываются, что наряду с лесом и мехами могли бы торговать водой. Говорят, Нева вытекает из огромного озера, бездонной каменной чаши, иссеченной рукой божества, так что у местных жителей огромное богатство в запасе. Невская вода — клад для будущих поколений, неиссякаемый и неуничтожимый, ибо трудно представить, что могло бы испортить ее. Он был невысокого мнения об уме московитов, но вполне допускал, что в будущем они могут стать народом достаточно цивилизованным, и, уж конечно, не допустят никакой порчи своего сокровища.
Особняк Демидова, крайний в линии, отделял от Галерной верфи канал; таким образом, дом с двух сторон омывала вода. Лодка пристала к весьма нарядному причалу, и кавалер спрыгнул на берег; тонкие подошвы его щегольских башмаков погрузились в сырой песок. Белесая девчонка с грязными босыми ногами, пришедшая за водой, испугалась было громадного, раззолоченного, похожего на мавра барина, но потом, вразумленная гайдуком, согласилась довести знатного иностранца до входа в господский дом, для чего следовало обогнуть его и зайти с тыла.
Герцог Карл встретил гостя весьма странно: попросил говорить вполголоса и то и дело оглядывался.
— Видите ли, милейший Казанова, я тут на птичьих правах,— сообщил он.— Скандал с этим Баумбахом так некстати. Надеюсь, вы никому не говорили, что обобравший его Кревкер прибыл в Петербург с рекомендательным письмом от меня? Подумать только, каков обманщик! Как он ловко обвел меня.
Отвесив изысканный поклон, кавалер заверил Его Высочество в своей скромности. То, что Кревкер — шулер и плут, видно было с первого взгляда, и вряд ли герцог Карл, завзятый картежник, не догадывался об этом. Кавалера более интересовало другое, а именно, не поможет ли ему герцог представиться ко двору, но тот испуганно замахал руками: он в Петербурге на несколько дней и собирается как можно скорее вернуться в Ригу. Судя по всему, герцог был не на шутку перепуган опасностью, угрожавшей его репутации. Почувствовав, что этот титулованный кутила тяготится визитом, кавалер хотел откланяться, однако герцог предложил ему повидать «мадам» — так он называл свою содержанку. Кавалер покорился против воли: герцог продолжал подыскивать мужа для своей «мадам» и упорно не оставлял надежды видеть в этой роли кавалера.
Едва приведя гостя к любовнице, герцог бесцеремонно удалился. Кавалера всегда привлекали актрисы и содержанки, но эта, в прошлом особа добродетельная и мечтавшая снова ею стать, настолько утомила его своими жалобами и намеками на хорошее приданое, что он не знал, как и уйти.
Садясь в лодку, он велел гайдуку сказать гребцам, чтобы возле моста его высадили на берег: он больше не собирался искушать судьбу, пробираясь между баркасами. «Курляндский варвар!» — пренебрежительно назвал он про себя герцога. Впрочем, получать щелчки от сиятельных особ ему было не впервой. Эти люди не хотели признавать его своим. Чувствуя это, он представлялся им обычно как Джакомом Казанова, венецианец, благоразумно забывая про самозваное дворянство; звание «кавалер де Сенгальт» годилось только при общении с простонародьем.
СОПЕРНИК
Более всего в жизни кавалер ценил — после чувственных удовольствий и хорошего стола, разумеется — беседу с людьми просвещенными. В Российском государстве встретить таковых ему не удалось. Слывшие образованными знатные особы много разглагольствовали на дурном французском языке о французской литературе, разумея под нею произведения одного лишь г-на Вольтера. Оказывается, знаменитый писатель посвятил императрице Екатерине свое сочинение «Философия истории». Три тысячи экземпляров, срочно отпечатанные, были распроданы за неделю, и каждый читавший по-французски только и говорил о Вольтере. Кавалер язвительно заметил по этому поводу:
— Не стоит вступать в спор с человеком, прочитавшим за всю жизнь лишь одну книгу.
Утратив надежду на протекцию герцога Карла, он начал потихоньку готовиться к отъезду. Скандал в связи с Баумбахом еще не затих, и он предпочитал отсиживаться дома, часто разговаривая с г-ном Ринальди, вернее, произнося перед ним монологи, потому что именно так понимал кавалер беседу. Однажды, восхищенный своим переводом нескольких строк «Илиады», он позвал архитектора послушать отрывок. Выдворив Заиру в смежную комнату, они занялись литературой. Дитя кулис, кавалер декламировал отменно: он был прирожденным актером.
В разгар декламации внимание Ринальди привлекли доносившиеся из соседней комнаты голоса: Заира по-русски беседовала с Акиндином, гайдуком кавалера.
— Милушка ты моя...— долетел до ушей архитектора тихий мужской голос.— Только из-за тебя здесь и сижу...
Старый архитектор насторожился, однако завывания кавалера над трупом Патрокла помешали ему расслышать окончание фразы. Из отрывочно доносившихся до него слов он наконец понял, что Акиндин уговаривал Заиру бежать.
— Велика Россия-матушка,— говорил он.— Глянь, Сибирь какова! И куда ни пойдешь, везде русские люди живут.
Заерзав, архитектор покосился на кавалера. Вспомнив, что тот речь московитов не разумеет, он успокоился и с интересом продолжал вслушиваться в разговор за дверью.
— Мамку тятька бить станет,— донесся нежный голосок Заиры.— Сестриц жалко...
— Кабы любила, о сестрах бы не вспоминала,— горестно упрекнул парень. Заира печально возразила:
— Я свое уже отлюбила. Видно, так уж мне на роду написано.
При сих словах архитектор сокрушенно покачал лысой головой.
— Уедем! — настаивал Акиндин.
— А бастрюка куда денем? — жалобно пискнула Заира. Ринальди поднял брови; лысый лоб его некрасиво сморщился: слово, употребленное девушкой, было ему неизвестно.
— Здесь я хочу вставить несколько осуждающих Елену слов,— прервав чтение, поделился задуманным со слушателем кавалер.
Архитектор встал, прошелся, открыл дверь в соседнюю комнату и нарочито громко произнес:
— Я бы не стал осуждать Елену. Ведь Менелай был стар и глуп. Могли бы вы оставить вашу рабыню вдвоем с Парисом?
Молодые люди, вспугнутые его голосом, примолкли.
— Заира меня обожает,— усмехнулся кавалер.— Впрочем, рисковать я бы не стал. Женщина по натуре своей склонна к простым наслаждениям, и настоящий мужчина всегда оказывает на нее магнетическое воздействие, которому она не в силах противостоять.
— Лучше вставьте в перевод несколько слов, осуждающих Менелая,— посоветовал Ринальди.
Кожа кавалера вовсе не была подобна бегемотовой. Странные интонации архитектора запали ему в память. Ночью — если, конечно, белый сумрак за окнами можно было считать ночью,— лежа возле мирно спавшей Заиры, он задумался. Головка малютки покоилась рядом на подушке, опутанная живописно разбросанными волосами, тихое дыхание едва колыхало юную грудь. Он досконально знал это тело, извлекал из него все возможное наслаждение,— но что скрывалось в глубине этой дремлющей души? Любила ли Заира его, как говорила? Разумеется, он уже не молод, но мужская-то сила его еще не ушла. Любопытно, кто после блистательного Казановы сможет понравиться ей?
Он стал наблюдательней. Внимание его привлек Акиндин. Вспомнив, что был не раз свидетелем оживленной болтовни с ним Заиры, кавалер недовольно позвал:
— Казак! — Так он называл Акиндина.
Тот явился, и кавалер уставился на гайдука. Перед ним стоял малый лет двадцати с небольшим, высокий, стройный и плечистый; в отличие от кавалера, белокожий и светловолосый. У него было приятное славянское лицо; голубовато-серые глаза, печальные и лукавые, как у многих московитов; рыжеватая, молодая борода не скрывала румяный рот, полный белоснежных зубов. «Молод и красив,— помрачнел кавалер.— Но ведь это мужик. И пахнет от него, как от мужика — луковым перегаром». Он пока ничего не решил насчет Заиры: взять ли ее с собой, отослать к родителям или устроить как-нибудь по-другому. Но при чем здесь мужик? И он решил запретить Заире беседы с гайдуком. В любви малышки он был уверен, но с какой стати позволять другому пожирать глазами его кушанье?
— Казак, вон! — закончив осмотр, негодующе распорядился кавалер.
ЕКАТЕРИНА
Решив не упускать ничего из достопримечательностей Петербурга, он посетил Петергоф, нашел его ученической копией Версаля и дал уничижительный отзыв:
— Везде чавкает болото, с залива свистит ветер, растительность чахлая и бедная.
Ему не повезло с погодой: небо хмурилось, моросил дождь. Закутавшись в плащ, он велел отвезти себя в Красный Кабак, где ждал его Зиновьев. Сей молодчик снова искал его дружбы и сильно поругивал Россию, то ли из холуйских побуждений, то ли провоцируя на опасную откровенность. Кавалер решил, что не худо с ним держать ухо востро.
Уже играли, когда раздался шум, и офицеры повскакали с мест: Красный Кабак посетил его сиятельство Григорий Орлов в сопровождении младшего брата своего Алексея. Кавалер узрел двух наглых и веселых красавцев-великанов, по-свойски здоровавшихся со знакомыми офицерами. Вызванное их появлением замешательство продолжалось недолго, братья куда-то спешили и завернули в Кабак лишь пропустить чарку. Зиновьев, растолкав всех, бросился с объятиями к родственникам. Кавалер тоже встал и с изысканной вежливостью поклонился. Алексей Орлов не обратил на него внимания, зато брат его оглядел с ног до головы смуглого иностранца, единственного здесь человека, одетого не в мундир. Кавалер намеревался снова поклониться, однако его сиятельство отвернулся.
— Что же вы не подошли и не представились Орловым? — спросил после ухода братьев оживленный Зиновьев.
— Что же вы меня не представили? — хотел сказать кавалер, но, молча глянув на Зиновьева, решил сквитаться с ним по-другому.
Играли до утра. Зиновьев встал из-за стола ободранный, как липка. Кавалер остался в изрядном выигрыше.
Середина лета — самая удобная пора для дальней дороги. Кавалер всерьез задумался, как поступить с Заирой. Зиновьев как-то похвастал, что может легко достать разрешение на вывоз девчонки за границу, однако кавалер не был уверен в целесообразности этого. Он сильно привязался к девушке, а всякий раз, когда в сердце его селилась такая привязанность, он, бродяга и гражданин мира, дороживший свободой превыше всех благ, спасался бегством. Присутствие Заиры осложнило бы его жизнь. С другой стороны, отпускать ее к отцу ему тоже не хотелось: получив от него деньги — а он намеревался наградить ее — и став богатой невестой, она могла выйти за того же Акиндина, сделаться мужичкой, о чем ему было противно думать. Более всего сей прелестной девочке подходила роль содержанки.
Он поделился своими затруднениями с Ринальди.
— Продайте ее мне,— предложил тот.
— Зачем она вам? — изумился кавалер. Архитектор смешался:
— Я стану использовать ее как натурщицу. Вы сами считаете, что у малютки фигурка Психеи.
— Те-те-те, старина,— засмеялся кавалер.— Уж не влюблены ли вы?
— О какой любви в мои годы можно говорить? — еще больше смешался архитектор.— Если вы уступите мне девочку, я заплачу вдвое больше, чем она вам стоила.
— Вы плохо думаете обо мне, синьор Ринальди,— покачал головой кавалер.— Я отдам Заиру лишь тому, кто будет ей приятен. Что до денег, никакой выгоды я не ищу, и все деньги, которые получу от такой сделки, подарю малышке. Поговорите с нею сами, я разрешаю. Спросите, не хочет ли она перейти к вам.
Старый архитектор понурился и долго молчал.
— Вы же знаете, что она не захочет,— наконец произнес он.— Она любит вас.
— Да,— самодовольно подтвердил кавалер.— Женщины всегда страстно влюбляются в меня. Но если я велю ей согласиться, она покорится мне и в этом.
Прежде чем давать в газету объявление об отъезде, кавалер намерился посетить графа Панина. Он опасался почему-то этого вельможи, несмотря на отменную приветливость царедворца, поеживаясь всякий раз под его насмешливым и проницательным взглядом.
— Как? — удивился граф, услышав о намерении визитера покинуть Петербург.— Вы собираетесь уехать, не представившись Ее Величеству?
Кавалер пожал широкими плечами:
— Я лишен такого счастья из-за отсутствия рекомендаций. Панин задумчиво помолчал, шелестя бумагами, и вдруг огорошил кавалера сообщением, что императрица по утрам имеет обыкновение прогуливаться в саду Летнего дворца на Фонтанке.
— Вы могли бы увидеть ее там.
Кавалер поморгал по-восточному длинными ресницами:
— Но, помилуйте, как же мне подойти к императрице и в качестве кого представиться?
— Да просто так, ни о чем не беспокоясь.
— Но ведь я неизвестен Ее Величеству!
— Вы ошибаетесь,— медленно и, как показалось кавалеру, не очень охотно ответствовал граф.— Она видела вас и обратила на вас внимание. Я, со своей стороны, рекомендовал вас как человека образованного. Вы можете рассчитывать на благосклонный прием.
Видела?! Обратила внимание?! Где, когда? Мысли молниеносно проносились в прошитой сединой голове кавалера, сердце переполняла радость. Панин никогда не стал бы указывать место прогулок Екатерины, не будь на то ее собственного желания. Значит, можно диктовать условия. И он твердо ответил:
— Во всяком случае я никогда не посмею подойти к Ее Величеству без посторонней помощи.
— Я буду там,— сдался граф.
Они условились о дне и часе встречи.
Ликующее торжество наполняло кавалера. Екатерина могла видеть его лишь однажды, он это твердо знал. Прошло почти полгода, однако она ничего не забыла и спрашивала о нем у Ринальди, а теперь у Панина. Сколько упущенного времени! Возможно, он свалял дурака, что так долго медлил, не старался попадаться ей на глаза. Однако что он мог? Разве не делал он всего, что было в его власти, чтобы добраться до нее? И разве не встал непреодолимой преградой оговор проклятого Сен-Жермена!
Об отъезде больше не было и речи. Кавалер велел разобрать чемоданы и стал готовиться к свиданию, которое должно было решить его жизнь на многие годы вперед.
В назначенное утро он являл собой совершенство: пышный белый парик, перламутрово-серый бархат, драгоценные кружева, бриллиантовый крест, трость с бриллиантами — красавец-мужчина, он был образцом изысканного вкуса. Бедняжка Заира всплеснула руками, готовая пасть перед своим повелителем ниц.
Летний дворец императрицы Елизаветы, изукрашенный всякими завитушками, как любила сия монархиня, стоял при слиянии Мойки и Фонтанки, окруженный водами, будто на острове. Позади него простирался не менее нарядный и причудливый «регулярный» сад с лабиринтом, куда и назначено было явиться кавалеру. С утра он уже нервно прогуливался по пустынным дорожкам, сбивая тростью головки одуванчиков, нахально портивших вид газонов. Зеленые стены подстриженных деревьев закрывали обозрение, однако он знал, что императрица должна появиться возле большого фонтана «с водяной пирамидой и каскадами, украшенными позолоченными барельефами и вазами», который он не без труда отыскал. Вокруг фонтана были расставлены в кадках шарообразные и пирамидальные лавры; вид сих итальянцев на фоне жалкой северной растительности позабавил кавалера. Еще более нелепыми показались ему мраморные статуи, в безвкусном множестве расставленные в аллеях. По его просвещенному мнению, они были самой жалкой работы; их белые обнаженные тела еще менее лавров вязались с унылой северной зеленью. Московиты и понятия не имели, что древние раскрашивали свои скульптуры; что если уж ставить статуи, то допустимы лишь подлинники, великолепные осколки античности, и для каждой статуи нужна ниша, либо грот, либо часовенка. Горбатые Аполлоны и костлявые Венеры, Амуры, похожие на гвардейцев короля Фридриха; портрет пьяницы, названный философом Гераклитом, и кулачный боец, именуемый Демокритом. Кавалер расхохотался: надписи к статуям были уморительны. Старец с длинной бородой назывался «Сафо», а старуха — Авиценной; юную парочку окрестили Филемоном и Бавкидою. Впрочем, смех кавалера был нервен: весь ожидание, он поминутно озирался по сторонам.
Наконец зашуршали по песку дорожки шаги, раздались голоса. К кавалеру приближалась группа. Впереди молодец молодцом шествовал Григорий Орлов; он удостоил кавалера еле заметного кивка и прошел мимо, устремив свои оловянные глаза на бородатую Сафо. За ним в сопровождении графа Панина шла императрица; за нею следовали две придворные дамы, подметая пышными юбками песок. Со дня их единственной мимолетной встречи Екатерина еще пополнела и казалась почти тучной; к тому же она была мала ростом. «Коротконога,— подумал кавалер, привычно срывая покровы с женского тела.— И живот, наверно, обвис». Приблизившись, он изящно поклонился. Императрица благосклонно приветствовала иностранца; он отвечал с утонченной вежливостью. «Красивой ее не назовешь,— думал он между тем.— Недаром московиты говорят: 40 лет бабий век. Лицо, как огурец. Щеки обрюзгшие. Но кожа белая и холеная».
— Как вам понравился сад? — после обмена вежливыми словами спросила императрица. Тот же самый вопрос при первой встрече задал ему король Фридрих: монархи не отличаются особой изобретательностью.
— Он великолепен,— так же, как и королю, ответил кавалер.— Что касается надписей у статуй, их, очевидно, поместили для обмана невежд и для увеселения тех, кто имеет кое-какие понятия об истории.
— Ни надписи, ни статуи ничего не стоят,— улыбнулась Екатерина.— Мою бедную тетушку, императрицу Елизавету, обманули. Надеюсь, вы имели возможность видеть в России менее смешные вещи.
Ответ прозвучал с достоинством, и кавалер тут же оставил веселый тон:
— Ваше Величество, то, что может вызвать улыбку, не может быть даже сравнимо с тем, что вызывает восхищение иностранцев в вашем государстве. Взять, к примеру, сей великолепный фонтан. Король Фридрих говорил мне, что истратил триста тысяч талеров на свои фонтаны, и ни одной струи.
Екатерина повеселела:
— Вы видели короля Фридриха? Каков он?
И кавалер принялся рассказывать о Фридрихе. Каков? Задает вопросы и не слушает ответов. Рта не дает раскрыть собеседнику. Не умеет ценить способных людей. Ничего не читает, литературу не любит. Помешан на военной муштре. А в общем — достойный уважения монарх.
Во все то время они медленно прохаживались вокруг фонтана. Граф Панин несколько отступил и одновременно как бы принимал и не принимал участие в беседе. От Фридриха речь перешла к военным, и Екатерина, вспомнив о предполагавшемся на площади перед Зимним дворцом турнире, спросила, бывают ли такие празднества в отечестве г-на Казановы.
— Непременно. Тем более что климат Венеции более благоприятствует подобным увеселениям.— Тут кавалер позволил себе пошутить.— Хорошие дни у нас столь же обычны, как они редки в Петербурге, хотя иностранцы и находят, будто все оттого, что ваш год опаздывает.
— Да, это правда,— улыбнулась и Екатерина.— Наш год медленнее на одиннадцать дней.
Кавалер тут же воодушевился:
— А не полагает ли Ваше Величество, что введение в вашем государстве григорианского календаря, принятого во всей Европе, было бы новшеством, достойным великой государыни? Европейские державы изумляются господству старого стиля в империи, просвещенная монархиня которой стоит во главе церкви. Скорее всего, Петр Великий, приказавший считать год не с первого марта, а с первого января, уничтожил бы и старый стиль, если бы не Англия, с которой у вас велась оживленная торговля. Но с тех пор Англия уже ввела григорианский календарь...
Речь кавалера несколько затянулась; сев на своего конька, он не заметил, как интерес императрицы к разговору угас: она ничего не понимала в календарях и считала поднятый вопрос пустым делом.
— Петр не был ученым,— прервала она говоруна. Но кавалеру трудно было остановиться.
— Государыня, он был больше, чем ученый. Это был великий ум, необыкновенный гений. Какое умение вести дела! Какая решительность! Какая смелость! Он преуспел во всех своих начинаниях, потому что умел избегать ошибок, и благодаря силе характера, способного бороться со злоупотреблениями...
Орлов давно делал нетерпеливые знаки Екатерине и, не дослушав иностранца, обеспокоенная императрица, повернувшись к нему спиной, устремилась за фаворитом. Кавалер поперхнулся на половине слова и закрыл рот. Что могла означать августейшая спина?
ОЖИДАНИЕ
Встревоженный столь странным окончанием аудиенции, кавалер помчался к Панину. Сей вельможа, осведомленный несравненно лучше иностранца в дворцовых делах и, возможно, более тонко разбиравшийся в том, что творилось в душе Екатерины, успокоил его.
— Вы весьма понравились Ее Величеству. Однако нелишне вам знать, что Григорий Григорьевич Орлов весьма плохо изъясняется по-французски и еще хуже понимает речь, особенно быструю, как ваша. Ему было неинтересно.
— Возможно, не следовало так превозносить Петра,— предположил кавалер.
— Повторяю, вы понравились. Позднее государыня с интересом слушала то, что я ей о вас говорил, и не дольше, чем сегодня, уже осведомлялась о вас. Используйте все возможности чаще попадаться ей на глаза. Если вы заявите о желании поступить на службу, то получите место.
Панин, ничуть не ослепленный изысканностью иностранца, знал, что кавалеру нужна кормушка. Возможно, догадывался и о том, что тот мечтает о месте фаворита. Во всяком случае, способствуя встрече его с Екатериной, он преследовал какие-то свои цели. Вероятно, хитрый царедворец грозил обнаглевшему Орлову сановным пальцем.
Кавалеру было высочайше разрешено гулять в дворцовых садах, и он широко воспользовался этой привилегией. Каждое утро, будто на службу, отправлялся он лицезреть мраморных уродов и чахлые лавры в кадках, бродил вокруг фонтана, изучил все ловушки зеленого Лабиринта,— однако Екатерина не показывалась. Зиновьев старался разведать, где пропадает по утрам кавалер, причем делал это столь настойчиво, что у того мелькнула мысль, уж не шпион ли он Орлова.
В доме генерала Мелиссимо кавалер услыхал о больших маневрах пехоты, долженствовавших быть в Красном Селе в присутствии императрицы и всего двора, и, памятуя наказ Панина, загорелся желанием посетить их. Мелиссимо одобрил его намерение и посоветовал заранее снять жилье, однако кавалер, вспомнив о малоприятных насекомых, решил устроить себе жилище в карете.
Накануне отъезда у него случилось неожиданное столкновение с гайдуком. Вернувшись домой, он застал его валявшимся на кожаном диване. Изругав последними словами холуя и даже замахнувшись, кавалер гневно приказал ему убираться в людскую. Встав, Акиндин с угрожающим видом двинулся к барину; он был пьян. Не медля, кавалер сбил его с ног кулачным ударом, которым овладел в Лондоне, и пустил в ход трость. Гайдук взревел, однако вскоре поник и молча вытерпел все удары разгневанного господина. Воспитанные в рабстве, московиты привыкли сносить удары своих владык — кавалер знал это. Палка у них считается лучшей наукой.
Военные маневры продолжались три дня. Разыгрывалось некое подобие войны: доблестные артиллеристы генерала Мелиссимо пускали фейерверк и взорвали форт, причем погибло несколько солдат,— обстоятельство, мало кого обеспокоившее. Кавалер, с большим удобством устроившийся в своей карете, днем принимал в ней визиты, а ночью, разостлав перины, блаженствовал с Заирой. Екатерину он видел только издали и даже не знал, заметила ли она его; Орлов от нее не отходил.
В те дни он приобрел много новых знакомых: его карету осаждали визитеры. Офицеры желали видеть прелестную девушку; некий князь предложил кавалеру купить у него карету вместе с ее содержимым. Офицер был молод, богат и вполне подошел бы Заире в качестве покровителя, но кавалер внезапно ощутил ревность и досаду: с какой стати он уступит какому-то нахалу свою жемчужину, старательно отмытую им от покрывавшего ее навоза. Возможно, он останется здесь на русской службе, и тогда Заира вовсе не помешает ему. Да и сама малышка объявила, что сей князь ей противен.
СНОВА ЕКАТЕРИНА
По возвращении в город он снова принялся ходить в дворцовый сад. Императрица вскоре должна была переехать в одну из загородных резиденций, и кавалер стремился во что бы то ни стало увидеть ее. По счастью, ни Зиновьева, ни Орлова в городе не было: они оставались в Красном Селе.
Как-то раз, с отвращением разглядывая в сотый раз тощую мраморную Венеру, он услышал шорох юбок и стремительно обернулся: из-за стриженых кустов показались две женщины и медленно направились в его сторону. Одна из них была Екатерина.
Вспыхнув от радости, вздернув голову, весь подобравшись, он устремился к драгоценной добыче, точно огромный полосатый тигр к неосторожной лани. Екатерина встретила его без удивления, мягкой улыбкой. Одетая совсем просто, в светлое, очень открытое платье, позволявшее любоваться ее белоснежной кожей, с кружевной накидкой на голове, она казалась на этот раз гораздо моложе и привлекательней.
Уловив, должно быть, алчный блеск его глаз, она кокетливо прищурилась:
— Какое впечатление произвели на вас маневры? — осведомилась она.
Стало быть, она видела его в Красном Селе, но сделала вид, что не заметила. Растаяв от удовольствия, кавалер тут же пустился в многословные рассуждения об армии: он считал себя военной косточкой.
— Не напоминает ли вам Петербург родину? — спросила еще императрица.
Петербург и Венеция! Кавалер еле удержался, чтобы не расхохотаться.
— Красоты столицы Вашего Величества неоспоримы, однако климат хуже, чем в Италии,— вынужден был он ответить, дабы не очень покривить душой. Заговорили о климате и снова о календаре.
— Между прочим, ваши пожелания уже исполнены. Сего дня все письма, отправляемые за границу, и все официальные акты будут помечаться двумя числами одновременно,— весело сообщила императрица.
Кавалер тут же заговорил о достоинствах разных календарей и напомнил высокой собеседнице, что к концу века разница между ними увеличится еще на один день и составит двенадцать.
— У меня все предусмотрено,— забыв о кокетстве, увлеклась Екатерина, и ошарашенный кавалер выслушал целую лекцию.— Последний год нынешнего столетия, который, вследствие григорианской реформы, не високосный в других странах, точно так же не високосный и у нас. Кроме того, ошибка составляет одиннадцать дней, что вполне соответствует числу, которым ежегодно увеличиваются эпакты; это позволяет нам сказать, что ваши эпакты равняются нашим, с разницей одного лишь года. Вы установили равноденствие на 2-е марта, мы — на 10-е, но в этом отношении астрономы не высказываются. Вы правы и неправы, ибо дата равноденствия подвижна, она бывает одним, двумя или тремя днями позже или раньше.
Екатерина говорила будто по книге. Судя по всему, поражать собеседника блеском образованности ей нравилось гораздо больше, чем очаровывать его своей малозаметной привлекательностью. Не зная, что ответить, так как астрономия никогда не входила в круг его интересов, он пробормотал:
Могу только восторгаться ученостью Вашего Величества.
И недовольно подумал, что вряд ли они теперь скоро доберутся до более интересных тем. Что ж, если императрица желала ученой беседы, он готов поддержать и ее, не ударив в грязь лицом.
— Но что происходит у вас с праздником Рождества Христова? Не кажется ли Вашему Величеству, что правильнее отмечать его в дни солнцестояния и до Нового года?
Они медленно расхаживали по садовой дорожке; спутница императрицы скромно держалась сзади.
— Я ожидала этого возражения,— кивнула Екатерина.— На мой взгляд, оно несостоятельно. Справедливость и политика заставляют меня мириться с этим небольшим несоответствием. Иначе меня обвинят в отмене решения Никейского собора.
Услыхав про Никейский собор, кавалер онемел. Ни о какой лирике теперь и речи быть не могло. Императрица между тем говорила и говорила, не давая словоохотливому кавалеру, подобно собрату своему Фридриху, и рта раскрыть. Его удивление росло, пока он не почувствовал заученности ее речи: должно быть, с самого начала она вознамерилась поразить его и хорошо подготовилась.
Он возвращался домой в некоем смятении чувств. Просидеть в Петербурге почти восемь месяцев, чтобы услышать из августейших уст лекцию по астрономии! Теперь Екатерина отправится в Царское Село, и рядом с нею будет Орлов. Он досадовал, что не сказал о своем желании поступить на русскую службу. Однако как было вставить слово?
У Екатерины с доверенной ее камер-фрау состоялся разговор о кавалере.
— Каков мужчина? — посмеиваясь, осведомилась императрица.
— Прощелыга,— был ответ. Императрица рассмеялась:
— Больно хорош. И с Вольтером знаком. К королям вхож.
— Матушка,— всплеснула руками камер-фрау,— зачем тебе этот облезлый индюк? У него шея синяя.
— Может, мы его к чему-нибудь пристроим? — заколебалась Екатерина.
Но камер-фрау была неумолима:
— Если на племя, то не гож. Жерменка писал, со смрадной болезнью. Гришенька-то небось как гриб-боровик.
— Ин, будь по-твоему.
Августейший приговор кавалеру де Сенгальту был произнесен.
ЛАМБЕР
Заира сильно загрустила. Кавалер часто заставал ее сидевшей с ногами на кровати и гадавшей на картах. Он возмущался: карты даны человеку для благородной азартной игры, а не для невежественного гадания.
— Карты правду говорят! — огрызалась Заира.— На сердце у тебя какая-то трефовая дама. Это не я.
Кавалер изумился:
— Ты осмеливаешься снова ревновать? Несчастная. Разве я твое достояние? Чтобы я, Джакомо Казанова, стал собственностью маленькой татарской простолюдинки? Запомни: кавалер де Сенгальт принадлежит всем женщинам в мире.
— Старый хрыч! — завопила Заира, и карты полетели в лицо кавалеру. По правде говоря, употребила она более сильное выражение.
Кавалер был возмущен до глубины души.
— Сейчас я без карт предскажу твое будущее: в ближайшее время ты будешь бита!
И он поучил строптивицу тростью.
Ночью, в постели, после обычных удовольствий, он наставлял свою татарку:
— Любить надо изящно, играя. Существует целая наука любви. Есть церемония сближения, есть правила ревности, есть искусство расставания...
— Обвенчаемся.— попросила Заира.
Кавалер даже поперхнулся:
— Какая дикость! Ты никогда не станешь европейской женщиной.
— Но ведь ты сам рассказывал, что султан Оросман хотел жениться на рабыне Заире.
— Это домысел г-на Вольтера, причем весьма недостоверный. Брак — самое безнравственное изобретение человечества. На Западе давно произошла сексуальная революция, а в России все дышит ветхозаветной моралью. Если в области общественного устройств, философии, искусства вы отстали лет на двести, то в области нравственной — на две тысячи лет. Ты совсем дитя, а уже пропитана обветшалыми взглядами на любовь.
— Все люди когда-то женятся,— не сдавалась Заира.
— Только не я.
Это была чистая правда. Многие женщины мечтали женить на себе кавалера, но едва разговор заходил о свадьбе, он бежал прочь, даже если бывал страстно влюблен. Он покинул обожаемую Манон Балетти, он не решился обосноваться в Неаполе возле милой сеньоры Лукреции, не говоря уже о богатых наследницах вроде м-ль Ромэн или Эстер, тщетно манивших его в благоустроенное существование. Он всегда предпочитал свободу. И уж, конечно, не собирался расстаться с нею, связавшись с купленной им за сто рублей петербургской лягушкой.
— Ты говорил, что бываешь счастлив со мною, как никогда,— напомнила она.
Подумав, он ответил серьезно:
— Счастлив, как никогда, я был год назад, в Вольфенбюттеле, в третьей по величине библиотеке Европы. Я провел там восемь воистину незабываемых дней.
Утром, одеваясь для прогулки, он спросил у гайдука:
— Что означает местное выражение «старый хрыч»? Акиндин, догадавшись, откуда оно известно барину, хмыкнул:
— Что-то вроде «мон шер ами».
Его ухмылка насторожила кавалера, поэтому он обратился с тем же вопросом к соседу своему Ринальди, с которым они вместе выходили на улицу.
— Это вам Заира сказала? — с живостью поинтересовался тот.
— Да. Мне перевели его как «дружок», но сказано оно во время ссоры, и я сомневаюсь. Итак?
Архитектор задумался над переводом:
— Выражение это... гм... оценивает вашу мужскую силу. Кавалер самодовольно усмехнулся:
— Ну, в моей мужской силе Заира может не сомневаться.
— Стало быть, оно не имеет к вам отношения.
— И все-таки я ее поколочу.
— Лучше уступите ее мне.
— Сударь! — удивился кавалер.— Я уже дал вам разрешение объяснить малютке свои чувства и спросить о ее решении.
Старые, влюбленные чудаки, полные нерешительности, были смешны ему. Сам он никогда не знал колебаний, и сразу брался за дело: женщины только и ждут, чтобы ими кто-нибудь овладел.
Прогуливаясь от нечего делать по городу, кавалер снова и снова любовался бесконечными пустырями, кучами всякого мусора, гнилыми заборами и с раздражением думал, что в окружающем безобразии не стоит винить одно российское правительство; видно, уж сам народ таков, что не в силах соблюдать порядок. Некоторые особняки снаружи хотя и красивы, на собственном опыте он убедился, что внутри даже самых богатых отовсюду выглядывает домашняя грязь. Особенно отвратительны жилые помещения челяди: нигде в мире он не встречал такого пренебрежительного отношения высших слоев к нуждам низших. О жилищах простонародья не приходилось говорить: любая собачья конура завиднее. Недаром, видно, так безысходно печален взгляд московитов, так заунывны их песни. Смеяться от души они не умеют, находя отраду лишь в беспробудном пьянстве. При всем при том не желают никаких перемен, зубами держатся за старое, страшно хвастливы и любят пускать пыль в глаза иностранцам, хваля все отечественное и полагая, очевидно, это патриотизмом. Из знакомцев кавалера один Зиновьев позволял себе нападки на отечество, делая это скорее всего по пьяной лавочке.
Впрочем, в одном месте столицы московиты веселились. По случаю какого-то местного праздника на обширной площади возле торговых рядов были возведены павильоны и карусель, где толпилось простонародье. Кавалер затесался в толпу. Одет он был в редингот, так что выделялся лишь ростом да цветом кожи: она была у него так темна, что однажды маленькая белобрысая девочка, которую он хотел по своей привычке приласкать, забилась в слезах на руках у матери с криком: чертяка!
Он долго ходил по торжищу, выбирая забавные поделки себе и гостинцы Заире. На балконе какого-то балагана кривлялся паяц, перемежая свои зазывы милыми слуху кавалера итальянскими словечками. Подойдя, он осведомился, уж не итальянский ли цирк тут выступает, и услышал родную итальянскую скороговорку: сеньору подтверждали, что в труппе состояли итальянские акробаты, а главным номером был африканский людоед: сейчас будет представлено поедание живого человека. Засмеявшись, кавалер купил билет и вошел в балаган: он обожал в театре все, от балагана до высокой трагедии.
На сцене стояла клетка с надписью «Людоед». В ней сидело косматое существо мужского пола, облаченное в баранью шкуру навыворот, раскрашенную зелеными пятнами; в руках оно держало громадную берцовую кость и, временами испуская рычанье, лязгало зубами.
— Любезные зрители! — обратился к публике укротитель.— Сие есть людоед из самого сердца Африки. Он ест сырое мясо. Глядите.
И он подал в клетку трепыхавшегося воробья. Зарычав, Людоед схватил птичку и на глазах ахнувших зрителей разодрал ее пополам и принялся облизывать кровь с пальцев.
— Сейчас вы увидите поедание живого человека! — возгласил укротитель.— Нужен какой-нибудь доброволец из зрителей. Прошу на сцену. Кто из вас желает послужить людоеду обедом, а нам поучительным зрелищем?
Укротитель замолчал, лукаво поглядывая на зрителей, уверенный, что желающего не найдется. Среди балаганной публики возникло замешательство. Голодный людоед взревел, и укротитель в деланном испуге вновь обратился с настоятельным призывом к добровольцу. Людоед рычал, тряс решетку и бил по ней костью. Робкие зрители начали покидать балаган. Кавалер от души потешался. Внезапно что-то в лице людоеда показалось ему знакомым. Он встал. Сомнений быть не могло. Несмотря на краску и лохматый парик, он узнал лакея своего Ганса Ламберта.
— Нашелся желающий! — удивленно объявил укротитель.— Прошу вас, сударь, на сцену.
Зрители, ахнув, повернулись к кавалеру. Расталкивая их, он двинулся вперед. Людоед забеспокоился, всматриваясь в подходившего. В два прыжка кавалер очутился на сцене с криком:
— Негодяй, верни мои часы!
Быстро раздвинув решетку, людоед бросился вон из балагана. Потрясая тяжелой тростью, кавалер устремился следом. Гулявшие московиты остолбенели при виде обросшего волосами мужика в бараньей шкуре и с бычьей костью в руке, убегавшего от прилично одетого господина, что-то вопившего на непонятном языке. Никто не решился подставить ногу мужику: приближавшихся он бил костью и, воспользовавшись путаницей ларьков, был таков.
Известие об этом происшествии появилось даже в петербургских «Ведомостях».
ВАЛЬВИЛЬ
Однажды, наблюдая, как Заира в одной рубашонке открывала окно, вся просвеченная утром, он заметил, что у малютки вырос живот.
— Ты толстеешь? — удивился он.
— Ничуть,— смутилась она.
— Все твоя любовь к сластям,— принялся он журить девушку.— Не хватает только, чтобы ты испортила свое тело. Больше никаких конфет.
И он лишил малютку сладкого. Но живот все рос. Напрасно Заира уверяла, что это ему только кажется. Он любил точность и стал замерять ее бедра веревочкой. Наконец малоприятная догадка осенила его.
— Ты брюхата? — ахнул он.
Заира расплакалась. Он пришел в страшный гнев: только этого не хватало! Беременных женщин он не выносил, и малютке сильно попало.
Вечером, желая успокоиться, он отправился во французскую комедию: пожаловавшие в Петербург третьесортные актеры начинали свои гастроли. Актеры были действительно из рук вон плохи, и кавалер, сидя один в глубине ложи, со скукой наблюдал происходившее на сцене. Воспоминания о жалком номере в «Золотом якоре», оставленном им, и плакавшей в нем брюхатой Заире вызывали отвращение. Вся его жизнь в последние месяцы была жалким прозябанием. Встречи с императрицей не дали ничего. Пора было все менять.
В одной из лож напротив он заметил необычайно красивую молодую даму, поглядывавшую в его сторону. Рядом с нею никого не было. Сердце кавалера радостно затрепетало, все огорчения были вмиг позабыты. Красавица прикоснулась пальчиком к левому виску, а потом заслонилась веером. Это был знак на языке любви, которым пользовались истые парижанки: его приглашали к знакомству.
Он тотчас встал; глаза его засияли, движения приобрели кошачью мягкость и грацию. Прекрасная женщина поманила его — удовольствие полузабытое, сладостное, желанное,— и, выбросив из головы все на свете, он устремился навстречу новой любви. Войдя в ложу к незнакомке, он сел рядом. Они заговорили о спектакле; беседа сделалась оживленной. Дама говорила на безупречном французском языке, ласкавшем слух кавалера: московиты, как правило, изъяснялись по-французски отвратительно.
— Вы владеете языком, как парижанка,— сделал он комплимент.
— Я и есть парижанка,— рассмеялась она.— Я актриса, и меня зовут Камилла Вальвиль.
Так вот оно что! Вот откуда это изящество туалета и поистине французская непринужденность в беседе с незнакомым мужчиною. Актриса. А он-то решил, что незнакомка — по меньшей мере княгиня.
— Мне пока не пришлось видеть вас на сцене,— несколько изменил он тон на более игривый.
— Оно неудивительно,— ослепительно улыбнулась она.— В Петербурге я не более месяца и выступила лишь однажды в «Любовной страсти».
— Почему же только однажды?
— Я имела несчастье не понравиться вашей императрице.
— Мадемуазель, Екатерина не моя императрица,— гордо вскинул голову в пудреном парике кавалер.— Я венецианец и здесь проездом.
— Как? — ахнула актриса.— Вы не русский князь? Замечательно!
Если она и была разочарована, то скрыла это весьма удачно.
— Мое имя кавалер де Сенгальт,— с достоинством поклонился он.— Императрица Екатерина очень переменчива, у нее трудный нрав, и она часто несправедлива. К тому же она не любит хорошеньких женщин.
— Разве вы не находите ее красивой?
— Ее может счесть красивой лишь тот, для кого не существенны правильность и гармония черт.
Вальвиль весело рассмеялась, став еще непринужденнее. Она рассказала, что ангажирована сроком на год, но готова уехать из Петербурга хоть сейчас, не дожидаясь получения своих ста рублей.
— Из-за вынужденного безделья я забываю свое ремесло, еще не овладев им до конца,— призналась она.
Кавалер нежно взял ее руку:
— Но неужели при таких глазах вы не нашли какого-нибудь богатого московита, который поддержал бы вас?
— У всех уже есть любовницы.
— И у вас нет друга?
— Нет.
Приятный разговор был прерван служителем, передавшим м-ль Вальвиль распоряжение антрепренера явиться к нему. Она ушла, очаровательно улыбнувшись напоследок.
После этой встречи мысли кавалера приняли совсем другой оборот. Лето кончалось; пора было распрощаться с Петербургом. Он надумал съездить в Царское Село, добиться аудиенции и напрямик спросить у императрицы должность. В случае отказа он вознамерился тут же отрясти прах сих мест с ног своих.
ЦАРСКОЕ СЕЛО
Напрасно он два дня сряду разгуливал по царскосельскому парку, напрасно добивался быть принятым каким-нибудь вельможей,— поездка оказалась сплошным невезением. Екатерину он все-таки увидел,— уже решив уехать, потеряв всякую надежду. Случилось это на парадном дворе, когда императрица проводила смотр конногвардейцев. Заметив кавалера среди толпы зрителей, она сделала ему знак приблизиться. Это уже была не июльская Екатерина в светлом воздушном платье, мягкая и женственная; перед ним стояла монархиня в парадной форме полка; она даже стала выше ростом, должно быть, встав на высокие каблуки.
— Мне сказывали, вы ставите нам в вину, что у нас не растет виноград,— сказала с усмешкой она, снова щеголяя осведомленностью.
— Но ведь это правда, Ваше Величество,— поклонился он. Она громко, на слушателей, объявила:
— Зато у нас растет клюква. Свита зашелестела смехом.
— О, я видел эти роскошные деревья...— с готовностью закивал он.
Сдерживая улыбку, Екатерина осведомилась:
— Тогда, наверно, вы и гоноболь видели?
— Как, у вас и гоноболь растет? — смутился кавалер, не имея понятия о сем ботаническом чуде.— Я плохо знаю Россию.
— То-то и оно,— кивнула Екатерина.— Кстати, я забыла спросить, есть ли у вас возражения против моей календарной реформы?
Он что-то пробормотал, не совсем разумея, чего от него ждут, и тогда она менторским голосом во всеуслышанье прочла небольшую лекцию о летоисчислении. Должно быть, ради этого она и подозвала кавалера. Закончив ученый разговор, она вдруг заговорила о лотерее, и кавалер догадался, что ей стали известны его парижские подвиги.
— Я согласилась учредить лотерею в моем государстве,— сказала она,— но лишь при условии, чтобы ставка не была выше рубля и не разоряла бедняков. Азартных игр я не терплю. Говорят, венецианцы грешат ими?
Придворные посмеивались. Кавалеру не оставалась ничего, как низко кланяться.
НОВАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ
По дороге домой он все обдумал и решил. В Петербурге ему больше нечего было делать. Оно и к лучшему, что кавалеру де Сенгальту не нашлось места в стране, бывшей ему не по душе. Он поедет в Вену навестить мать. По дороге можно завернуть в Варшаву, поглядеть на польского короля, прежнего фаворита Екатерины, благо Григория Орлова он хорошо рассмотрел.
Вернувшись в «Золотой якорь», он начертал записку м-ль Вальвиль: «Мне очень хотелось бы составить более близкое с вами знакомство, я посему прошу благосклонного разрешения приехать к вам запросто отужинать. Не знаю, насколько вы расположены разделить страсть, родившуюся во мне, но ежели вы не благоволите пролить бальзам на мои страдания, я буду обречен претерпевать ужасные муки. Рассчитывая через несколько дней отправиться в Варшаву, я могу предложить вам место в моем экипаже, за которое вы заплатите лишь скукой от моего общества. Кроме того, у меня есть способы востребовать для вас паспорт. Моему слуге приказано дожидаться вашего ответа, который, как я надеюсь, будет благоприятен».
Кавалер с удовольствием перечитал написанное: он гордился легкостью своего пера.
Вскоре гайдук принес ответ Вальвиль. Писала она хуже, чем говорила, коряво и со множеством ошибок. Актриса назначала время для ужина вдвоем, заверяя, что постарается облегчить любовные муки кавалера. Она была согласна и на совместное путешествие в Варшаву. Кавалер не ожидал другого ответа и тут же отправился дать объявление в газету об отъезде. Редкий случай: он покидал чужой город, не имея долгов, так что ему нечего было опасаться гласности. Затем он поехал по знакомым известить о своем скором отбытии.
Зиновьев, воодушевившись при этой новости, потребовал отвальную и обещал взять на себя все хлопоты. Мысль понравилась кавалеру: он жил в Петербурге почти год, вел себя благонравно, сыскал друзей и, кажется, единственную из столиц покидал без скандала и не тайком. Решили устроить пирушку в заведении Локателли. Генерал Мелиссимо, которого также посетил кавалер, выразил огорчение при известии об отъезде и энтузиазм при сообщении о прощальном ужине; он даже пообещал фейерверк, поскольку с маневров остались неиспользованные ракеты.
Следовало как можно скорее устроить Заиру. Кавалер не привык бросать своих любовниц на большой дороге: для этого он был слишком мягкосердечен. Он решил передать девушку г-ну Ринальди: старик был влюблен, богат и не похож на изверга. Придя к архитектору, он напрямик спросил:
— Не передумали ли вы, сударь, приобрести мою Заиру?
Тот заволновался: разумеется, он готов, но хочет ли девица. Заверив, что теперь это уже не имеет решающего значения, кавалер привел архитектора к себе в номер и позвал Заиру, попросив Ринальди объясниться с нею. Архитектор мялся и что-то мычал; Заира молча стояла, потупившись, простоволосая, с перекинутой на грудь косой. Не выдержав, кавалер вмешался:
— Заира, господин Ринальди спрашивает, не хочешь ли ты перейти к нему жить.
— Для позирования,— испуганно уточнил Ринальди. Кавалер с недоумением уставился на него:
— Почему только для позирования? И для сожительства тоже. Итак, Заира?
Не обращая внимания на архитектора, она вперила в кавалера сверкающие глаза; брови ее были грозно сдвинуты.
— Нет, не хочу!
— Да, забыл сказать,— спохватился кавалер, обращаясь к Ринальди.— Не хочу скрывать, сударь, вы покупаете двоих. Эта негодница, несмотря на крайнюю свою молодость, в тягости. Но ведь это не навсегда...
Ему надоело пережидать слезы одной, смущенный лепет другого, и, попросив их объясниться без него, он отправился на ужин к Вальвиль.
Актриса встретила его как старого знакомого. Истосковавшегося по изящным француженкам кавалера восхитили манеры истой парижанки, ее непринужденная веселость и неподражаемое легкомыслие. Поначалу они чинились, несмотря на то, что были вдвоем и им никто не мешал. Обсуждали совместную поездку: Вальвиль ждали в Берлине, так что, посетив Ригу и герцога Карла, они — в случае, если герцог не уговорит м-ль Вальвиль задержаться,— намеревались отправиться в Кенигсберг, откуда их пути должны были разойтись. Актрису беспокоило получение разрешения на выезд из Петербурга, но кавалер заверил, что сделать это очень просто, и тут же написал прошение на имя императрицы: «Умоляю Ваше Величество принять во внимание, что, пребывая здесь в праздности, я забуду свое ремесло актрисы быстрее, чем обучалась ему, и щедрость Вашего Величества окажется для меня скорее губительна, чем полезна. Если же мне будет дозволено уехать сейчас, я навсегда сохраню глубочайшее чувство признательности за безграничную доброту Вашего Величества».
С удовольствием перечитав написанное, он вручил бумагу Вальвиль. Обеспокоенно прочтя его сочинение, актриса осведомилась в раздумье:
— Вы хотите, чтобы я это подписала?
— А почему бы и нет?
— Но тогда могут подумать, что я отказываюсь от дорожных денег.
— Я сочту себя последним из людей, если вы не получите кроме дорожных еще и годовое жалование.
— Но не слишком ли будет просить и то, и другое?
— Ничуть. Императрица согласится, я знаю ее.
— Вы проницательный. Хорошо, я подпишу. Что дальше?
— Дальше вы поедете в Царское Село, дождетесь выхода императрицы и вручите ей прошение.
На этом деловая часть встречи закончилась. Затем последовал обильный ужин, прошедший очень весело, по окончании которого они переместились в постель. Как и ожидал кавалер, Вальвиль не была ни жеманной, ни церемонной, и он получил от нее полное удовлетворение.
Задержавшись допоздна у новой возлюбленной и вспомнив среди любовных утех о сумасбродности Заиры, которая могла в его отсутствие выкинуть невесть что, он послал к ней кучера сказать, что уехал в Кронштадт и там заночует. Вальвиль полюбопытствовала, кто такая эта Заира, и кавалер живописал ей историю той, которую покидал. Ему показалось, актриса не поняла главного: разлука с Заирой огорчала его. Для Вальвиль все в любви, помимо постели, было каприз и фантазия, то есть вещи, не стоившие внимания. Впрочем, тем она и была хороша.
ЗАИРА И РИНАЛЬДИ
Оставив Заиру наедине с Ринальди, кавалер совершил доброе дело: у архитектора наконец-то развязался язык.
— Дитя мое...— склонился он над рыдавшей девушкой.— Фекла... Тэкла...
— Ой! — подняла мокрое лицо Заира.— Спасибо, барин, за Феклу. А то мой-то кличет меня Заирой, будто корову. А я в церкви крещена.
Ринальди присел рядом с нею, ссутулившись:
— Я стар и не могу рассчитывать на твою любовь.
Кинув на него быстрый взгляд, Заира согласилась: лысый, маленький и некрасивый, он никак не походил на роскошного кавалера де Сенгальта.
— Мне 57 лет, тебе 15,— продолжал он.— Ты еще не начинала жить, я уже давно прожил лучшие годы. Нет, я не гожусь в любовники. Все это глупость с моей стороны. Но когда я обучал тебя итальянскому языку и ты, доверчиво глядя на меня, повторяла «милый, дорогой», я не мог сдержаться и влюбился.
Тут Заире почудились слезы в его голосе, и она удивленно покосилась на старого чудака.
— Я ничего не жду для себя,— продолжал он.— Ты станешь моей воспитанницей. Я найму тебе учителей. Ты выучишься грамоте, танцам, французскому языку...
— Бить не станете? — тяжело вздохнув и вытирая нос ладонью, потребовала она ясности.
— Бить? — растерялся архитектор.— Я в жизни кошку не ударил. Спроси любого из моих слуг. Твоего младенца можно будет отдать кормилице или оставить при тебе, как захочешь... Впрочем, если я тебе совсем противен, тогда я отпущу тебя к родителям.
Заира больше не плакала. Перекинув на грудь свою толстую косу, она рассеянно заплетала ее кончик.
— Я подумаю,— наконец после молчания кивнула она. Вернувшись домой, кавалер застал Заиру раскладывавшей карты: она выглядела печальной, но глаза ее были сухи. Ни слова упрека не сорвалось с ее уст; более того, она даже не глянула на сожителя. Задетый ее бесстрастием за живое, он сказал:
— Вот и хорошо, что ни слез, ни рыданий. Устраивать любовнику скандалы — фи! Разве цветок устраивает скандал мотыльку, покидающему его?
Она промолчала. Он сел рядом и смешал ей карты:
— Опять? Гадать по картам, когда имеешь дело с великим провидцем, знатоком каббалы, изобретателем магической пирамиды и повелителем духа Паралиса? Я погадаю тебе без карт. Слушай. Через несколько месяцев ты родишь сына и назовешь его Джованни.
— Стану я так дите называть! — презрительно дернула она плечом.— Иваном будет.
— Молчи и слушай,— почувствовав прилив вдохновения, поднял он палец.— Сына ты отдашь кормилице на воспитание, а сама расцветешь, как роза.
— Как шиповник, что ли? — заинтересовалась она.
— Не перебивай. Тебе сыщется богатый покровитель.
— Господин Ринальди?
— А хоть бы и он,— кавалер нежно привлек к себе Заиру.— Дурочка, в отличие от меня он богат и не знает, куда девать деньги. Возле него ты станешь барыней. Поэты и художники будут восхищаться твоей красотой...
— Виршепоеты и богомазы? — пренебрежительно осведомилась Заира.— Не надо. Лучше пусть господин Ринальди выкупит моих родителей.
Кавалера вовсе не интересовала судьба родителей Заиры, однако, не желая раздражать девушку, он не стал ей перечить.
— Попросишь ласково, он и сделает. С ним ты будешь счастлива. Что до меня... Пройдут годы, и ты станешь вспоминать Джакомо Казанову с нежностью и благодарностью.
— Будь по-вашему,— освободившись из его рук, кивнула она. Обрадованный, он решил ковать железо, пока оно горячо, и пригласил к себе Ринальди.
— Сударь, она согласна,— обрадовал он архитектора.— Милая, повтори то, что ты мне сказала.
Задрожав, Ринальди устремил на Заиру по-итальянски сверкавшие глаза.
— А сказала я то,— холодно отозвалась Заира,— что буду собственностью того, кому барин вручит мой паспорт.
— Но сама-то ты согласна? — настаивал кавалер.
Она осталась непреклонна:
— Я поступлю по воле барина.
Разговор прервал гайдук, бесцеремонно войдя и вручив хозяину записку. Кавалер развернул ее. Писала м-ль Вальвиль: она просила срочно явиться к ней. Попросив Ринальди и Заиру обо всем договориться без него, кавалер спешно устремился к новой любовнице.
Ринальди умоляюще кивнул Акиндину, столбом застывшему посреди комнаты, чтобы тот вышел, и обратился к Заире:
— Дитя мое, скажи наконец свое решение.
— А сколько вы заплатите за меня моему хозяину? — неожиданно поинтересовалась она.— Я ведь стою теперь дороже, чем раньше: при мне наряды, я знаю язык и обучена итальянской любви.
— Умоляю тебя,— всплеснул руками архитектор.— Забудь всю науку господина Казановы. И не говори о деньгах.
— А о чем я должна говорить?
— Согласна ли ты перейти под мое покровительство?
— Воля хозяйская.
— А твоя?
Заира сжалилась над старым архитектором. Потупившись, играя кончиком косы, она прошептала:
— Вы мне не противны.
Ринальди молчал, от счастья не в силах выговорить ни слова.
— О Фекла! — наконец выдохнул он; из глаз его потекли слезы.— Я все сделаю для тебя. Только обещай никогда не называть меня «старым хрычом».
РАССТАВАНИЕ
Вальвиль прыгала от восторга: она только что вернулась из Царского Села, где сумела увидеть императрицу. Екатерина выходила из церкви, тут же на ходу прочла ее прошение и сделала на нем собственноручную надпись: «Г-ну кабинетному секретарю Елагину», что означало разрешение ее выдать актрисе годовое жалование, сто рублей на дорогу и паспорт. Уговорившись о дне отъезда, обрадованные любовники тут же пылко заключили друг друга в объятия.
Поскольку кавалер обещал Заире и Ринальди быстро воротиться, он не остался ночевать у Вальвиль и поехал в «Золотой якорь», любопытствуя узнать, о чем договорилась его любезная парочка.
— Отдаст ли тебе Ринальди сто рублей за меня? — нетерпеливо отстранив его ласки, осведомилась Заира.
— Конечно, милочка.
— Но почему ты не хочешь попросить дороже? Мне обидно. Не желая потакать алчности, кавалер наставительно сказал:
— Я уступаю тебя этому добряку не из корысти, а желая устроить твою судьбу. Получив от Ринальди деньги, я подарю их тебе.
— Это ты уже обещал. Сделаем так: отвези меня домой. Пусть Ринальди обращается к моему тятьке и уговаривается о цене, а сто рублей, которые получишь ты, отдай мне тайком.
В восхищении от практичности малышки и благодарный за отсутствие слез, кавалер обещал все.
Настал день прощального ужина у знаменитого ресторатора Локателли, даваемого в ознаменование отъезда кавалера де Сенгальта из Петербурга. По дороге кавалер намеревался отвезти Заиру в лачугу к родителям. Все утро она упаковывала вещи, а кавалер заучивал прощальные слова на тарабарском языке московитов, которыми он хотел сегодня удивить друзей. Собираясь домой, Заира облачилась в национальное платье, очень широкое, удачно скрывавшее ее располневшую фигуру; она выглядела в нем по-новому, более взрослой и совсем чужой. Снуя по комнатам, она то плакала, то смеялась, то пела. Сердце кавалера внезапно сжалось: он терял навсегда свою обожаемую девочку, которую он до сих пор любил, хотя она и порядком ему надоела. Не появись в его жизни м-ль Вальвиль, возможно, он не нашел бы сил расстаться с Заирою и, вследствие своей неразумной привязанности к ней, мог бы наделать глупостей.
Напевая, как птичка, она приблизилась к нему, сидевшему у стола, и нагнувшись, нежно и весело поцеловала в седой висок. Слезы потекли у него по щекам вопреки всем его усилиям. Замолчав, она обняла его за шею и разрыдалась. Он тоже плакал,— впрочем, не совсем понимая, из-за чего.
Они ехали в Екатерингоф в открытой коляске. Заира молчала, глядя на проносившиеся мимо кусты.
— Ты не забыл про деньги? — наконец осведомилась она.
— Как ты жестока! — невольно поморщился кавалер.
— Это ты жесток,— был ответ.
— Я не жесток.
— Но ты бросаешь меня.
— Дорогая! — сказал он прочувствованно.— Я был бы жесток, если бы взял тебя с собой и бросил где-нибудь в чужих краях. Сколько я повидал несчастных женщин, с которыми совратители поступили подобным образом! Если бы ты могла вообразить, во что они превращались!
— Но зачем тебе уезжать? Он вздохнул:
— Если бы у меня была возможность остаться в России, я никогда не расстался бы с тобой.
Признаться столь искренне в своей неудаче он смог только ей; впрочем, Заира не поняла.
Перед тем как выйти из коляски, он вручил ей деньги:
— Сто рублей я оставляю младенцу, а тебе — светлое будущее. Завидя коляску, великолепного барина и нарядную Феклу, вылезавших из нее, все семейство екатерингофского селянина высыпало из своей лачуги, пало ниц, целуя руки господину в знак благодарности и величайшего почтения. С трудом от них отвязавшись, кавалер шагнул назад к коляске, и тут Заира, не выдержав, взвыла.
— Не будем расстраивать друг друга напоследок,— обернувшись, обратился к ней по-итальянски кавалер.— Лучше утешь меня и скажи, любила ли ты своего Казанову?
Не спуская с него отчаянных глаз, Заира прижала кулачки к груди:
— Если боль в сердце — это любовь, значит, любила.
И оба, всхлипывая, бросились друг другу на шею. Истинный сын кулис, кавалер обожал чувствительные сцены.
У Локателли было шумно, весело и пьяно. Московиты и тут остались верны себе. Пили за здоровье отъезжавшего, за его благополучие, за всех присутствовавших — их было тридцать,— еще за что-то. Все лезли целоваться, орали, много ели и снова пили, так что когда дошла очередь до фейерверка, многие уже не в силах были подняться с мест. Кавалер произнес прочувствованную речь по-французски, благодаря за гостеприимство,— как-никак, каждый из присутствовавших весьма ощутимо поделился с ним содержимым своего кошелька, ибо всех их сводил игорный стол. Напоследок кавалер обратился к друзьям с несколькими словами на их отечественном языке. Он сказал, старательно выговаривая чужие сочетания звуков:
— Глаза бы мои не смотрели на вас, чучела окаянные. Чтоб вы все пропали.
Пирушка замолчала. Кавалер удивился; ведь он всего лишь произнес вежливую фразу: «Я никогда не забуду счастливые дни пребывания в вашей превосходной стране».
— Что вы сказали, милостивый государь? — встал один из офицеров.
— А в чем дело? Разве я ошибся?
— Кто вас этому научил? — сгросил Зиновьев. И перевел кавалеру сказанное им.
— Это мой гайдук,— вскипел тот. Ужо, я с ним разделаюсь. Но ужин был испорчен. Простились друг с другом весьма холодно.
Вернувшись к себе, разгневанный кавалер, сжимая трость, бросился разыскивать гайдука,— но того и след простыл. Ему сообщили, что Акиндин распрощался со всеми и, как только они с Заирой уехали, связав пожитки в узелок, ушел.
Вернувшись в свои опустелые комнаты и не находя выхода раздражению, кавалер избил тростью все диваны, сильно обеспокоив их кровожадное население. Когда он принялся лупить по кровати, на пол упал гребень Заиры, который она потеряла прошлой ночью. Вид этого гребня вызвал новый приступ ярости кавалера: скверная девчонка слышала, какие фразы он заучивал по-русски, но и не думала поправить. Резко отвернувшись, он направился ночевать к Вальвиль.
ОТЪЕЗД
Сборы в дорогу заняли довольно много времени, но кавалер не торопился, так как все равно приходилось ждать публикации в газете и паспортов. Был приобретен добротный экипаж, дно которого он велел устлать перинами — удобство, понравившееся ему во время поездки в Москву. У них было много багажа: кавалер накупил всякой всячины, Вальвиль везла кучу тряпья. С ними в дорогу попросился один торговец-армянин, у которого кавалер занял сто дукатов; ему предложено было на время дороги звание лакея и место на запятках. Тот согласился.
С Заирой кавалеру больше не довелось встретиться, хотя она и приезжала в «Золотой якорь» вместе с Ринальди забрать кое-какие вещи. Не удостоив негодницу лицезрения собственной персоны, он только слышал ее голосок. Весело болтая со служанками, она вдруг произнесла:
— ...мой новый старый хрыч...— ойкнула и засмеялась.
С архитектором кавалер тепло распрощался, выразив удовлетворение, что Заира «ринальдизировалась».
Пожелать доброго пути приехал Зиновьев. Впрочем, у кавалера родилось подозрение, что его подослал Орлов. Укладывались долго, но Зиновьев упорно не уходил, желая, должно быть, собственными глазами убедиться в отбытии кавалера. Офицер сидел внизу и пил, так что, когда отъезжавшие пошли садиться в карету, он был пьян.
— Едем со мной в Европу,— похлопал его по плечу кавалер. Тот ответил хладнокровно:
— На хрена мне твоя Европа?
— Но позвольте,— несколько опешил кавалер.— Разве вы сами не говорили, что вокруг невежество и грязь?
Ответ был ошеломляющ:
— Грязь, да своя.
Проводить кавалера высыпала вся челядь «Золотого якоря». Впереди всех стоял герр Бауэр. Навсегда покидая низкие берега полноводной, серой реки, так и не разобравшись толком, река это или озеро, кавалер помахал им шляпой.
Первую половину дороги они с м-ль Вальвиль наперебой ругали московитов.
— Самый воздух этой страны враждебен искусству,— говорила актриса.
Кавалер был еще жестче:
— Они рассуждают о высоких материях, стараясь показаться Европе культурными людьми, а у самих нет даже теплых уборных.
— Строить город посреди болота! Как результат, комары. Кавалер вздохнул:
— Если бы только комары! Моя дорогая, когда кто-нибудь из ваших знакомых в Париже станет роптать на Францию, посоветуйте ему съездить в Россию.
ЭПИЛОГ
Герцога Карла в Риге путешественники не застали: он срочно уехал куда-то выдавать замуж любовницу. Не очень огорчившись, они отправились в Кенигсберг и там расстались. Сильно подурневшую за время дороги м-ль Вальвиль кавалер уступил армянину в счет долга, который не мог уплатить. Самой Вальвиль за приятную компанию он дал пятьдесят дукатов, и они распрощались, довольные друг другом. Кавалер велел поворачивать лошадей на Варшаву, не задержавшись в Кенигсберге, где у него был неуплаченный карточный долг. Удобно устроившись на перинах, он углубился в чтение любимого своего Ариосто.
Его ждали новые дороги, новые женщины, новые игорные столы.
/
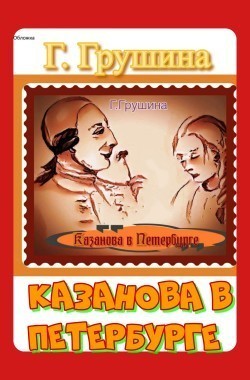





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

