Читать онлайн "Тамбовские волки"
Глава: "Тамбовские волки. Роман"
Часть первая. РАСПРАВА
Ачкасов
В то майское утро, когда так внезапно и стремительно, вихрем, закрутилась эта история, ломая, калеча молодые судьбы, раскидывая в разные стороны друзей, Николай Анохин собирался в Тамбов, куда его вызвал председатель облисполкома.
Утро было тихое, свежее, теплое по-летнему. Анохин, выходя из общежития, отметил, какое глубокое и голубое небо сегодня, но какое-то унылое, томительно-тревожное. Точно так у него было на душе.
В вагоне Николай Анохин дремал, придавив подбородком узел галстука, думал о Зине, представлял, как она удивится, увидев его, обрадуется. До встречи, когда они должны были идти в загс, еще три дня, а он сегодня явится. Зине хотелось расписаться в Тамбове, а свадьбу сыграть в Уварово, у родителей. Выбрала она день для свадьбы перед получением диплома, сразу после экзаменов в пединституте, чтобы подруги, с которыми она сблизилась за четыре года учебы, перед расставанием погуляли на ее свадьбе, разделили с ней радость, прикоснулись к ее счастью.
Сонный рабочий поезд шел медленно, часто останавливался, подолгу стоял на станциях и полустанках. Вагон потихоньку заполнялся, затевались разговоры, становилось шумно, жарко. Перед Сампуром поезд разогнался, вагон раскачивало, мотало.
Николай поднял голову, поправил галстук, сдвинутый набок подбородком, глянул в окно. Солнце накалялось, поднималось над деревьями лесопосадки, тянувшейся вдоль железной дороги, светило в лицо сквозь тусклое пыльное стекло. Небо затягивалось дымкой, опускалось, тускнело, становилось белесым.
В Сампуре на платформе, как всегда, встречала поезд возбужденная толпа, волновалась, гудела. Вагоны еще не остановились, а подножки уже облепили подростки, лезли в тамбур, подтягивались за поручни, мешали друг другу.
Двери в рабочем поезде всегда открыты. Шум, крики, ругань, толкотня. Растрепанные в давке люди врывались в вагон, шумно занимали свободные места, кричали, подзывая своих. Через минуту устроились, суета улеглась, мест, как всегда, хватило всем. Это потом, тем, кто сядет в Кандауровке, придется стоять, но оттуда до Тамбова недалеко. Час всего пути. Галдящие, возбужденные юной энергией, подростки потолкались минуту на жестких деревянных сиденьях и, смеясь, подталкивая друг друга, вывалились назад, на платформу, докурить на просторе, ведь поезд стоит здесь пятнадцать минут.
Анохин хмуро глядел на них сквозь пыльное стекло, потом забылся, стал в который раз гадать, зачем вызвал его в Тамбов председатель облисполкома Климанов Сергей Никифорович. Что ему надо от заместителя редактора районной газеты? Почему не редактора вызвал? Климанов три года назад был секретарем Уваровского райкома партии. Они виделись всего один раз, когда Анохин после окончания университета устраивался на работу в районную газету. Редактор приводил его на собеседование к Климанову. Через два года Николая Анохина утверждал заведующим отделом газеты новый секретарь райкома. Климанов уже работал в Тамбове. А заместителем редактора Анохин стал в прошлом году.
Зачем именно он, а не редактор понадобился председателю облисполкома? Редактор, когда сообщал о его звонке с приглашением в Тамбов, предположил, что зовет тот Анохина, из-за его недавней статьи о беспорядках на трикотажной фабрике. Но ведь статью ту не напечатали. Виктор Борисович Долгов, теперешний секретарь райкома, снял. Откуда же узнал Климанов? Долгов, конечно, мог рассказать. Но зачем? Велика важность, директора фабрики покритиковал.
При мыслях о трикотажной фабрике явственно всплыла в памяти вчерашняя встреча с заместителем начальника милиции Ачкасовым, и снова сердце заныло, снова стало тягостно на душе. Впрочем, та встреча не забывалась, подспудно жила в подсознании, наполняя душу тяжкой тревогой.
Весь вечер просидели они над документами, которые Ачкасов прятал у себя дома после недавней смерти Саяпина, начальника райотдела милиции. Пришел Ачкасов к Анохину потому, как он сам объяснил, что узнал о его статье, запрещенной секретарем райкома партии.
— Ох, не своей смертью умер Саяпин, не своей! — мотал головой Ачкасов, сжимая лысый затылок толстыми растопыренными пальцами. — Недаром сейф в его кабинете наизнанку вывернули. Эти бумаги ищут… — стукнул он кулаком по раскрытой папке.
Ошеломленный увиденным и услышанным Анохин, сгорбившись, сидел над распахнутой папкой, освещенной настольной лампой. Ачкасов оперся обеими руками о стол, поднялся, большой, грузный, подошел к окну. Ветхие половицы заскрипели, заохали под его ногами. Он отодвинул уголок занавески и долго глядел на тускло освещенную улицу, потом тщательно закрыл занавеску, вздохнул и вернулся за стол:
— Зря я на мотоцикле приехал. Завтра же будет известно, что я у тебя был…
— Может, напрасно вы… — заговорил приглушенным голосом Анохин. — Сосед наш в деревне недавно тоже от язвы умер. Веялку на току перекатывал, тужился и — прободение. До больницы не довезли…
— Не-ет, не говори! Какая там язва у Саяпина… Сроду не жаловался. Красномордый был…
— Отравили, думаешь?
— Убежден… — Ачкасов вернулся к столу, сел на хрустнувший жалобно стул.
— Но ведь врач вскрывал, смотрел… Да и перепроверить легко.
— Вскрывал… Ледовских. Сын его, Васька, в ресторане официантом работает. Мы с Саяпиным в тот день там обедали. Васька нас обслуживал…
Ачкасов замолчал.
— Ну, — нетерпеливо подтолкнул его к продолжению рассказа Анохин.
— Вот те и ну… Ты же читал, — кивнул Ачкасов на папку с документами, там не только подпольный цех в трикотажке, продажа квартир, машин, стройматериалов, неучтенное стадо овец в колхозе, но и ресторанные и больничные дела.
— А Васька откуда узнал… об этом? — Анохин взглянул на папку.
— Васька не знал…. И не знает. Подсказали ему….
— Тогда б он вас… обоих.
— Нельзя, — усмехнулся Ачкасов. — Там не дураки… Видишь, — оттолкнул он папку от себя, — меня потом…
Анохин смотрел на Ачкасова растерянно. На мгновенье показалось, что милиционер бредит, сошел с ума. Не может того быть, о чем он говорил. Никак это не может быть! Не на диком Западе живем! Выдумка все это Ачкасова. Не белая ли горячка у него? Говорят, что попивает сильно. Недоволен им из-за этого секретарь райкома. Но вот же документы, вот они лежат. Ясно, четко видно, что подпольный цех на трикотажной фабрике существует. Да и у него, когда он собирал материал для статьи о трикотажке, было чувство, что там не все чисто. Но докопаться он не смог, опыта не хватило.
— Слушай, — говорил между тем Ачкасов, — папочку эту ищут. И не успокоятся, пока не найдут… Что она у меня, догадываются. Оставлять у тебя не хочу, не затем пришел. Парень ты честный, знаю, сам допер, что не все ладно у нас в районе. Видел я, как ты копал, ошибался, милицию винил, Саяпина критиковал в газете. Теперь, видишь, зря… Понял теперь, почему статью твою о милиции Долгов пропустил, даже похвалил на бюро, а о делах в трикотажке завернул?.. Документы эти у меня будут. Как назначат нового начальника милиции, я отпуск беру — и в Москву. А сейчас давай перефотографируем… все. У тебя фотоаппарат хороший. Пока копию не сделаю, спокойно жить не смогу…
Анохин фотографировал, а Ачкасов перекладывал бумажки.
— Готово, — щелкнул последний раз Анохин.
— Нет, теперь прояви!
— Может, завтра?
— Нет, сейчас. Хочу посмотреть, что получилось. Проявляй!
Николай Анохин делал раствор, а Ачкасов ходил, скрипел половицами, маялся, потом не выдержал, спросил:
— У тебя нет водочки? Ни граммулечки?
— Я же не пью.
— Душа горит… сволочь!
— Кажется, сухое осталось. На донышке. Гляну сейчас… Если не прокисло.
Вино, действительно, плескалось на донышке бутылки, с полстакана. Ачкасов поднял бутылку, поглядел на свет, поморщился. От стакана отказался, выпил из горлышка, буркнул:
— Квас.
Он сел на стул по другую сторону стола, оглянулся на окно, увидел, что тень его головы падает на занавеску и отодвинулся в сторону. Заметил, что Анохин обратил на это внимание, усмехнулся:
— В вашей газете лет пятнадцать назад детектив печатался, «Знакомая походка». Там в милиционера в окно стреляли. В тень на занавеске бабахнули. Думали, что он…
— Я читал, помню.
— Ты читал? — недоверчиво удивился Ачкасов. — Сколько же тебе тогда было?
— Если пятнадцать лет назад, значит, десять. Я уж вовсю взрослые книги читал. Помнится, с отцом наперегонки этот детектив глотали… — Анохин крутил пальцем ручку фотобачка, проявлял, вращал пленку в растворе. — Я завтра в Тамбов еду. Климанов вызывает…
— Климанов? Тебя? Зачем?
— Сам гадаю. Я вроде к нему никакого отношения не имею.
— Он сам звонил? Что он тебе сказал?
— Он с редактором разговаривал. Меня не было.
— Нда, чего это он? — пробормотал Ачкасов.
— Вы что, неужто и Климанова подозреваете? — усмехнулся Анохин.
— Директор трикотажки его друг… Более того, Климанов его сделал директором.
Этого Анохин не знал.
— Может, ему Долгов о моей статье сказал, — повторил он предположение редактора. — Приструнить хочет, чтоб не совался никуда со статьей о трикотажке. Ведь меня и тамбовские газеты печатают, и «Комосомолка» в Москве дважды мой материал давала.
Ачкасов мотнул лысой головой, согласился: может такое быть.
За разговором Анохин проявил, промыл пленку, осторожно растянул ее перед глазами напротив лампочки. Ачкасов поднялся, нетерпеливо заглянул через плечо Николая:
— Получилось?
— Отлично.
— Давай отпечатаем парочку, — загорелся Ачкасов.
— Высохнуть должна. Это долго…
— Жалко.
— Не волнуйтесь. Я и так вижу, четко вышло.
— Но ты завтра же отпечатай, проверь. Если что, перефотографируем…
Утром Анохин скатал высохшую пленку в рулончик, завернул в бумагу и кинул в ящик стола. Увидел там пустой пузырек из-под туши, взял его, давно нужно выбросить, валяется зря, но задумался, открутил пластмассовую крышку, заглянул в пузырек. Тушь давно высохла. Тогда он засунул пленку в пузырек, закрутил и поставил в ящик.
За этими думами, за воспоминаниями Анохин не заметил, как подкатили к Тамбову. Очнулся, когда за окном среди густой зелени кустов замелькали кресты, оградки Петропавловского кладбища, по-весеннему свежевыкрашенные, потом потянулись вагонные мастерские, и показалось желтое здание железнодорожного вокзала.
2. Сарычев
На улице пахло от шпал креозотом и тем особенным запахом, которым пахнут вокзалы в жаркий день. Анохин вышел на широкую площадь и направился к остановке автобусов и троллейбусов, многолюдной от приезжих. Прямо перед ним за остановкой на стене Дома культуры висела огромная афиша нового фильма. Во весь стенд красовалась мощная лысая голова Фантомаса. Вспомнилось, как редактор рассказывал, что на бюро райкома хотели запретить демонстрацию фильма в Уварово, мол, на подростков пагубно действует. Анохин часто видел стены домов в подъездах с нацарапанными торопливыми надписями: «Фантомас». Рассказывали, что кто-то принес в милицию записку, найденную в своем почтовом ящике. В ней кривыми печатными буквами было написано: «Мне нужен труп. Я выбрал вас. С большим приветом! Фантомас».
— Коля! — услышал вдруг Анохин позади возглас и обернулся.
К нему пробирался сквозь толпу усатый улыбающийся милиционер с капитанскими звездочками на погонах, Сарычев Сашка, Уваровский начальник ОБХСС. Пробрался, пожал руку, заговорил радостно:
— Привет! Ты зачем сюда? С поездом? С этим? Как же мы в Уварово не встретились? Все веселее бы ехать. Поболтали бы. А меня вот начальство вызвало…
— Климанов? — невольно брякнул Анохин.
— Зачем? У меня свое начальство. УВД… А ты что, к Климанову? — догадался он.
— Вызывает зачем-то…
— Они найдут зачем… Ты слышал? Мы в Уварово совсем без начальства остались. Я теперь в милиции самый большой начальник, — засмеялся Сарычев.
Анохин видел, что Сашка чем-то возбужден: нежная кожа на его румяных щеках полыхала, глаза блестели, а кончик тонкого носа подрагивал нервно. И возбужден, конечно, не встречей с ним.
Они не были приятелями, просто хорошие знакомые. Видели друг друга довольно часто. Городок маленький. Один раз даже попали на одну вечеринку. Тогда Анохин поразился, что Сарычев так говорлив. Представлял работников милиции молчаливыми, сдержанными в компаниях, профессия такая. Но жизнерадостный Сашка Сарычев трепался весь вечер. Потом Анохин обратил внимание, что Сашка ни слова не сказал о своей работе, ни разу не упомянул ни одного сослуживца, и если бы Анохин не знал, что он начальник ОБХСС, то принял бы его скорее всего за школьного учителя, гуманитария. Чувствовалось, что читал Сарычев много и не без разбору.
— Как это? — не понял Анохин слова Сарычева о том, что в Уваровской милиции он теперь самый большой начальник, но почему-то сразу в душе вспыхнула тревога.
— Вчера ночью пьяный Ачкасов на мотоцикле вмазался в самосвал. Мотоцикл вдребезги, сам в лепешку!..
— Вчера?! Пьяный?! — воскликнул Анохин, побледнев. — Не может быть!
— Ага, не может. Он здорово поддавал… Да чего ты расстраиваешься?
— А ты, вижу, рад. Местечко освободилось, — мрачно перебил Анохин. Он почувствовал, как слабеют ноги, становится трудно дышать. Он стиснул зубы и полез в карман за платком.
— Брось, рад! Жалко… Человек все-таки. Безвредный был… Его все равно не ныне завтра списали бы. Он совсем мух не ловил… Чего ты расстроился? Ты хоть знаком-то с ним был?.. Да, кстати, он, говорят, вечером в том общежитии был, где ты живешь. Ты не видел его?
— Нет, — тихо качнул головой Анохин.
— У него, говорят, там любовница. Он, вроде бы, часто у нее поддавал.
— Не видел, — буркнул Анохин, вытираясь платком, и спросил: — А какой же самосвал… ночью? Угнали?
— Нет, колхозный. Сын председателя приезжал за запчастями и задержался…
— Сын председателя?! Со Жданова? — вырвалось у Анохина.
В этом колхозе Ачкасов обнаружил неучтенное стадо овец.
— Да… А откуда ты знаешь? — удивился Сарычев.
Лицо у него сразу сузилось, стало каким-то острым, колючим.
— Догадался… Я не раз был у ждановцев. Видел этого сынка. Пьянь страшная… Он-то в тот момент трезвый был?
— Не знаю пока… Но будто бы перед столкновением тормознул, остановился, когда увидел, что мотоцикл прет на него. Тормозной путь четкий. Пытался в кювет съехать, не успел. — Лицо Сарычева расслаблялось, расплывалось, хотя глаза по-прежнему глядели остро, недоверчиво, будто подметить хотели что-то важное в поведении Анохина.
Неожиданное известие о смерти Ачкасова ошеломило, раздавило Анохина. Надо было уйти от мучительного разговора, и Николай попытался поддеть Сарычева:
— Ну что, теперь ты станешь начальником милиции?
— Я? — не смутился, засмеялся Сарычев, подхватил: — А чо, предложат — не откажусь. Я смогу… Только вряд ли сразу начальником, скорее замом. Начальника пришлют, у нас некого…
Анохин почти не слышал, что говорит Сарычев, Из головы не выходила мысль о смерти Ачкасова, ответ его: «Меня потом!», когда Анохин спросил, почему не отравили его вместе с начальником. Знал Ачкасов, уверен был, что попытаются убить его, и не уберегся. А если узнают, что он был вечером у меня, догадаются, что он все рассказал и тоже… того… При этой мысли Анохину стало холодно.
Он оглянулся: не видно ли нужного троллейбуса. На противоположной стороне стоял один, высаживал пассажиров. Скорее бы он подходил, скорее бы уехать от Сарычева, поразмышлять наедине.
Троллейбус тронулся, стал медленно разворачиваться. Люди на остановке зашевелились, готовясь к штурму. Анохин не слушал, что говорит ему Сарычев, глядел, как синий троллейбус объезжает клумбу, расположившуюся посреди площади, покачивается на неровностях много раз ремонтировавшегося асфальта, ждал, когда он повернется передом, чтобы увидеть цифру, узнать маршрут, и с разочарованием увидел, что это «шестерка». Этот маршрут шел к телецентру мимо рынка, сворачивал, не доходя до облисполкома. «Двойка» нужна была Анохину. Но и Сарычеву тоже. Не хотелось ехать с ним Николаю, и он буркнул отрывисто, прервал Сарычева:
— Я еду!
— А ты куда?
— Туда, — махнул рукой Анохин в сторону рынка и смешался с толпой, ринувшейся к подъехавшему троллейбусу.
Напором людей его поволокло к открывшейся задней двери, закрутило, развернуло боком. Кричали озорно парни, напирая, взвизгивали девчата, ругались бабы. «Ширнут в этой давке ножом в бок, и никто не заметит», — мелькнуло в голове.
Вспомнились слухи, доходившие из Тамбова в Уварово, будто однажды на остановке набитый донельзя троллейбус распахнул двери и из него вывалился мертвый парень с торчащим ножом в боку. Зарезали в давке, отомстили за что-то. Много таких случаев рассказывали о тамбовской шпане. Хулиганье шутило, что для них Одесса — мама, Ростов — папа, а Тамбов — браток.
Николая придавили к боковому стеклу на задней площадке. Троллейбус мотало по ухабистой, разбитой зимой Интернациональной улице. Он то притормаживал резко, то дергался. Привычные к такой болтанке пассажиры молча терпели. Анохин смотрел в окно на высокий зеленый забор, тянувшийся вдоль всей улицы, решал, где ему выйти, чтоб пересесть на нужный троллейбус. На Интернациональной не стал выходить, побоялся, что снова встретиться с Сарычевым. Когда «шестерка» свернула к рынку, выскочил на тротуар, увидел телефонную будку и обрадовался, решил прежде позвонить Климанову, а потом уж ехать к нему.
Секретарша, выяснив, кто он и зачем звонит, соединила с Сергеем Никифоровичем. Голос у Климанова был веселый, доброжелательный. Назвал Анохина по имени.
— А, Коля? Здравствуй, здравствуй! Прибыл, говоришь?.. Приезжай часикам к двенадцати. Занят я сейчас… Жду!
И не дожидаясь ответа Анохина, положил трубку.
Николай вышел из будки, остановился, обдумывая слова, интонацию голоса Климанова. Если бы он вызвал, чтоб погонять за статью, тон его должен быть суровый, начальственный, может быть, раздраженный, по крайней мере, более официальный. Назвал бы непременно Николаем Игнатьевичем, а не Колей, не тыкал бы так по-отечески покровительственно. И зачем-то дважды сказал «здравствуй», словно рад был услышать его. И слова «занят я сейчас» — произнес как бы оправдываясь, как равному. Эти размышления успокоили немного, но и по-новому озадачили. Что нужно Климанову?..
Николай взглянул на часы. Половина десятого. Еще больше двух часов до встречи… У Зины сейчас лекция. Через пятнадцать минут перерыв. Анохин знал, что занятия в пединституте начинаются в девять. Не один раз поджидал Зину в коридоре института. От рынка идти минут пять. Успеет.
3. Зина
Он двинулся по Коммунальной улице мимо двухэтажных магазинчиков, построенных еще дореволюционными купцами, вышел на Советскую улицу и увидел за железными решетками забора и ветвями отцветшей недавно сирени беложелтое здание педагогического института, бывшего Тамбовского института благородных девиц, с четырьмя колоннами у входа. По карнизу крыши — большие зеленые буквы: «Вперед к победе коммунизма».
В коридоре первого этажа института тихо, гулко. Старые дубовые клепки паркета поскрипывали под ногами. Из-за высоких дверей доносились голоса преподавателей. Анохин нашел в расписании на доске объявлений группу, в которой была Зина, узнал, в какой аудитории она сейчас и побежал по чугунным решетчатым ступеням, мимо белого бюста Ленина на площадке, на второй этаж. Здесь тоже было тихо, и также поскрипывал паркет. На стенах висели стенды с фотографиями ветеранов войны — работников института, студентов-отличников, спортсменов. Карта области с памятными местами, связанными с жизнью замечательных людей. Анохин остановился возле карты и стал ждать звонка. Сердце его гулко колотилось от быстрого бега по ступеням, от жажды встречи с Зиной. В голове все перепуталось: Ачкасов, Сарычев, Климанов, Зина. А если ее нет на лекции? Мало ли что? Не пошла на нудную лекцию, заболела, проспала. Звонок неожиданно обрушился на него сверху. Анохин вздрогнул, оглянулся на дверь аудитории. И почти тотчас же она распахнулась и выскочила Зина, выскочила с таким видом, будто бы они расстались перед лекцией, и теперь она торопилась к нему. Выскочила, взглянула, воскликнула: «Ты!» и бросилась навстречу. Обняла, клюнула в щеку, отстранилась счастливая, сияющая. Глядела на него блестящими глазами. Коридор заполнялся студентами, шумел. Кто-то здоровался с Анохиным, но он не видел никого.
— Я знала, знала, что ты сегодня приедешь! — быстро восклицала Зина, держа его обеими руками за локти.
— Откуда же ты знала? Я сам еще вчера утром не знал, — смеялся Николай. Ачкасов, Сарычев, Климанов и все дела отлетели, сразу выветрились, как только он увидел Зину.
— Я знала, что ты не выдержишь, прилетишь раньше… Я тебя еще вчера ждала! Я сон видела и поняла, что ты приедешь… Почему ты вчера не приехал, вредный?
— Меня в облисполком вызвали…
— Ты не ко мне приехал? — Зина немного кокетничала. Бывало с ней такое изредка. А вообще-то она была простой девчонкой, не стремилась выделиться, обратить на себя внимание. — У-у, вредный! — стукнула она его кулаком в плечо с притворной обидой.
— Но с вокзала-то я к тебе прилетел, — смеялся Николай, сжимая тонкую теплую ладонь Зины в своей руке.
— А если бы не вызвали, не прилетел бы?
— Зиночка, мы же договорились в пятницу в загс идти. Три дня потом вместе…
— А мы сегодня пойдем?
— Конечно! Паспорт со мной, — хлопнул себя по груди Анохин, где у него в боковом кармане пиджака лежал паспорт.
— Я сейчас сумку возьму и удеру. Жди!
Но Николай удержал ее за руку.
— Погоди! Я в двенадцать должен быть в облисполкоме. Не успеем. Давай после обеда…
— Ну, ты и вредный, — с сожалением остановилась Зина. — Там обед до четырех. Ждать столько, — огорченно вздохнула она.
Раздался звонок. На этот раз спокойнее, глуше из-за шума в коридоре, но и тревожнее. Студенты потянулись в аудитории. Коридор стал пустеть.
— Когда ты освободишься?
— Думаю, долго не задержит.
— Тогда давай встретимся на берегу реки, у нашей ивушки. Как освободишься, сразу приходи. Если меня не будет, жди. Ладно?
Проговорила быстро и убежала в аудиторию, возле двери оглянулась, подняла руку, помахала пальчиками. Он с томительной нежностью следил за ней, сдерживаясь, чтобы не броситься следом, поймать, прижать к губам ее милые маленькие пальцы. Анохин подождал, когда преподаватели разойдутся по аудиториям, прошелся по паркету, вслушиваясь в грустный скрип. Он решил подождать, когда кончиться лекция, чтобы снова, на этот раз десять минут, побыть с Зиной. Два часа еще до встречи с Климановым. Но вспомнилось, что редакция «Комсомольского знамени» неподалеку от института, на этой же Советской улице, он успеет повидаться с Алешей Перелыгиным, своим приятелем, однокурсником по МГУ, ответственным секретарем областной комсомольской газеты. Паркет бодро заскрипел у него под ногами.
4. Перелыгин
Редакция газеты была в здании, стоявшем на другой стороне улицы напротив городского сада. Двери ее выходили прямо на тротуар Советской улицы, которая в этом месте была многолюдна. Неподалеку — городской универмаг.
Перелыгин в своем кабинете подписывал какие-то письма.
— Кого я вижу! — заорал он, вскакивая со стула, который под ним казался каким-то игрушечным, детским.
Крупный, плотный, большеголовый, с длинными чуть волнистыми волосами он удивительно был похож на Бальзака, о чем ему не раз говорили, и Перелыгин гордился этим. Отрастил такие же усы. Когда сидел, он производил впечатление человека медлительного, флегматичного, но в действительности, несмотря на свое большое тело, был подвижен, быстр, даже резок в движениях. Любил поговорить, поесть и, конечно, выпить.
— Стол перевернешь, — засмеялся Анохин, когда Перелыгин вскочил.
Ему была приятна радость друга. Конечно, рисуется немного, но и доля искренности есть: рад встрече. За что Перелыгина в университете считали себялюбцем?.. Рядом с другом Анохин показался себе маленьким, щуплым. Не раз такое чувствовал, хотя был среднего роста, крепок, плечист. Две двухпудовые гири спокойно выжимал.
Перелыгин сграбастал Анохина в объятья, словно год не виделись, похлопал лапищей по спине:
— Мужаешь, отец, мужаешь! Как бычок становишься. Жениться пора…
Он знал, что Николай собирается идти в загс с Зиной, потому и говорил так.
— Что я и делаю, — в тон ему подхватил Анохин.
Они уселись на стулья напротив друг друга, через стол. Алексей, поскрипывая стулом, угнездился на своем месте и спросил:
— К Зинке приехал? В загс?
— И за этим тоже… Еще не передумал быть у нас свидетелем?
— Ну, ты, отец, скажешь! Когда я выпить отказывался?.. Может, вдарим по пивцу, а? — глянул он на часы.
— А дела? Начальство?
— Да, отец, у нас новость. Редактор наш в обком партии ушел. На повышение. Жалко, мужик неплохой, смелый… Сейчас дрожим, сядет жлоб, будет начальству в рот смотреть, пропадем… Кстати, материал твой запустили, в следующем номере читай.
Анохин часто печатался у них в газете, привык, принимал, как должное, потому и не всколыхнулась душа, как бывало раньше при известиях о принятых к публикации своих статей.
— А кого прочат в редакторы? Зама? — спросил он.
— Нет, староват. Молодого хотят, комсомольского возраста. А заму под сорок. Тоже пора уходить.
— Ну, старик, действуй! — воскликнул шутливо Анохин. — Все козыри в твоих руках… А меня сюда посадишь, — кивнул он на стул, на котором сидел Перелыгин. — А то я как увижу тебя на нем, так сразу мысль — как он только тебя выдерживает, не рассыпается. У редактора-то кресло, да, наверно, на колесиках.
— Точно! — захохотал Перелыгин. — Это идея! Тогда мы с тобой из пивбара вылезать не будем…
Анохин угадал то, чем жил последние дни Алексей Перелыгин. С бывшим редактором у него были хорошие отношения, и они договорились, что тот, уходя, посоветует посадить на свое место Перелыгина. И редактор сдержал слово, назвал его кандидатуру. Говорил потом Алексею, что, будто бы, к его имени отнеслись благосклонно. Перелыгин утром сегодня выяснил осторожненько в отделе кадров, что дело его затребовали наверх. От того-то и был он так возбужден, от того-то и встретил так радостно Анохина, но после слов Николая пытался свести разговор к шутке. Не хотелось, что Николай знал. Вдруг сорвется. Неудобно, подумает, что его не ценят. А получится, узнает — придет время. А может, действительно, предложить на свое место Анохина? Вообще-то народная мудрость не рекомендует друзей подчиненными делать.
Они посмеялись, пошутили, представляя, где и как они будут делать газету, потом Алексей все также шутливо спросил:
— А чего ты, отец, смеешься, а глаза грустные? Жалко с холостяцкой жизнью расставаться?
И сразу Анохин вспомнил Ачкасова. Да и забывал ли он его?
Шутил, смеялся, а в глубине души тяжко было, давило. Николай хотел подхватить шутку о своей холостяцкой жизни, но не смог, махнул рукой, поскучнел.
Перелыгин тоже посерьезнел, спросил с участием:
— Случилось что? Помощь нужна? Я помогу…
«Отшутиться? Рассказать? — думал Анохин. — Поделиться тяжестью? А нужно ли?.. Может, он подскажет, что делать? Поможет? Одному тяжко. Зине нельзя об этом… А больше некому!».
Вошел бы сейчас кто в комнату, или телефон зазвонил, отвлек бы Перелыгина, и Анохин тогда не решился бы рассказать об Ачкасове, о документах, сам бы распорядился ими, и судьба его неизвестно бы как сложилась. Но никто не вошел, не позвонил, сидел Перелыгин, смотрел на Николая доброжелательно, с готовностью помочь, поддержать друга, и Анохин стал рассказывать. Рассказывал о своей статье, казавшейся теперь ему наивной, словно он пытался свалить медведя иголкой, о неожиданной смерти начальника милиции Саяпина, о приезде к нему Ачкасова, о документах, о пленке, об утренней встрече с Сарычевым. Перелыгин слушал, морщился, хмурился.
— Дело серьезное… Обмозговать надо. Да-а… Пленка у тебя с собой?
— Нет… Я думаю, может, рассказать Климанову?
— Не, не надо. Ачкасов правильно думал, в Москву надо… И не ждать, пока тебя ухлопают!
— Меня?! — воскликнул Анохин.
— Не меня же?.. А может, и меня… — побледнел, пробормотал Перелыгин. Лицо его стало растерянным. — Ты не тяни, поскорей в Москву… И не трепись, что говорил мне… Зачем… А если помочь чем могу, я всегда рад, — добавил он быстро.
Если бы Анохин был более собран сейчас, он бы увидел, что Перелыгин помощник плохой, и пожалел бы, что рассказал. Но Николай только теперь понял, в какой он опасности. Раньше он был потрясен услышанным от Ачкасова, потом его смертью, догадкой, что это не несчастный случай, а убийство, не думал о себе.
— Считаешь… они узнают, что он у меня был? — спросил Анохин совершенно спокойно.
— Теперь копают… Папку-то с документами при нем, должно быть, нашли. Значит, поймут, что он документы кому-то показывал. А кому он еще мог в общежитии показывать? Кто там живет?
— Рабочие сахзавода.
— Ну вот, кому же, как не тебе… Смотри, нужно опередить.
— Сарычев говорил, что у Ачкасова любовница там… Могут подумать, что он у нее папку хранил, взял и…
— Наивный ты. У девки теперь сорок раз выяснили, был или не был у нее Ачкасов. С папкой или без…
Странно, чем яснее становилось Анохину, что за ним могут начать охотиться, тем спокойнее, собранней, уверенней становился он. Надо действовать, и он будет действовать.
— Они, конечно, не узнают, — продолжал рассуждать взволнованно Перелыгин, — о чем вы говорили, а о пленке тем более… А если никто не видел, как он в твою комнату входил, то и не узнают, что он у тебя был, пока ты сам не признаешься… А тебе признаваться резону нет. Я бы не признался, даже если кто видел… Или сказал бы, что заглядывал, спрашивал, не видел ли я коменданта общежития… Или еще что-нибудь. Спросил и ушел. Тут нужно готовым быть к любым вопросам. Обдумать все…
Анохин смотрел на растерянное бледное лицо всегда уверенного друга, хотел поймать его взгляд, чтоб пошутить, улыбнуться, но никак не мог это сделать. Взгляд Перелыгина ни на секунду не останавливался ни на каком предмете, скользил по столу — с газеты на рукопись, с рукописи на письмо, с письма на ручку, которую он ломал своими толстыми пальцами, она гнулась, готова была вот-вот треснуть, с ручки — на грудь Анохина.
Таким Николай никогда его не видел. Обычно Перелыгин говорил со всеми добродушным покровительственным тоном, часто называл собеседника «отцом», а если разговаривал с несколькими приятелями, говорил им «отцы». Слова его от этого становились ироничней. А сейчас он ни разу не произнес слова «отец», выглядел каким-то сморщенным и жалким, словно огромный шар, из которого немного выпустили воздух. И чем больше говорил, бормотал Перелыгин, тем ироничней, уверенней становился Анохин. Наконец, не выдержал бормотанья друга, перебил покровительственным тоном:
— Ничего, сын, не бойся! Вдвоем мы их быстро возьмем за жабры…
Перелыгин запнулся на полуслове, поднял глаза на Анохина. Во взгляде его читалась надежда, что Николай разыграл его. Он готов был улыбнуться, хохотнуть. Анохин понял это и добавил:
— Пусть они нас боятся, у нас руки чистые… Ты меня убедил, нужно действовать! Завтра я беру отпуск за свой счет до конца недели, и в Москву. Жаль, что пленку не взял, а то бы прямо отсюда махнул. Прохлаждаться нечего… О том, что ты в курсе, я молчу. Ты, как бы в засаде будешь…
— А что я… — снова потускнел взгляд у Перелыгина. — Я даже документы не видел.
— Я тебе покажу, заеду…
— Зачем?!
— Верно, зачем время терять. Ты мне и так веришь. — Анохин глянул на часы, поднялся, протянул руку Перелыгину. — Спасибо тебе, сын, за поддержку… Меня в двенадцать Климанов ждет. Бегу… Я позвоню. Мы с Зиной заявление подаем сегодня. Отметим… Зови Любу…
Последние слова Анохин говорил от двери. Молчаливый, растерянный Перелыгин провожал его глазами, сидя на своем стуле.
5. Климанов
Когда высокая тяжелая дверь с тугой пружиной вытолкнула Николая на тротуар Советской улицы, он не ощущал в душе прежней тяжести, тревоги. Было немного грустно, но вместе с тем хотелось действовать.
День уж раскалился вовсю. Палил, жарил. Асфальт на тротуаре мягким стал, истыкан был острыми женскими каблуками, чувствовалось, что часам к двум в городе будет одуряющая духота.
Троллейбусная остановка была рядом, возле угла. Приехал в облисполком Анохин чуть раньше двенадцати, поднялся на второй этаж. Секретарша, высокая женщина с маленьким загорелым лицом, но с таким большим каштановым шиньоном на затылке, что казалось, что у нее две головы, нагроможденными одна на другую, сказала, что Климанов один, потом поднялась, приоткрыла дверь и сунула в щель обе свои головы:
— Сергей Никифорович, Анохин…
— Пусть входит, — услышал Николай тотчас энергичный упругий голос председателя.
Секретарша шире распахнула дверь перед Анохиным и тихонько бесшумно прикрыла, когда он вошел в кабинет.
Сергей Никифорович быстро поднялся из зеленого кресла с высокой спинкой, похожего на сиденье автобусов дальнего следования энергичным шагом обошел стол и с радушной улыбкой пожал руку Анохину. От первой трехгодичной давности встречи у Николая осталось впечатление, что Климанов довольно высокого роста, сдержан, нетороплив, но сейчас перед ним был иной человек? Роста не такого уж высокого, кругленький, видно, раздался за эти три года, улыбчивый, бодрый, приветливый, довольный жизнью, своим местом в ней.
— Давненько я хотел с вами покалякать, поближе познакомиться, — говорил Сергей Никифорович.
Он откатил невысокое кресло от маленького полированного столика, приткнувшегося боком к массивному широкому столу председателя, пригласил рукой садиться и вернулся на свое место.
— Давненько, да недосуг… Материалы ваши в тамбовских газетах читаю. Верный читатель ваш, так сказать. За Уваровской газетой не всегда следить успеваю, а здесь читаю, читаю… Как работается-то? Как живется?
— Хорошо. Жаловаться стыдно… Забот много, да у кого их нет. Это жизнь, нормальная жизнь…
— Верно, верно. И забот, и недостатков еще полно. Вы молодцом: вижу, читаю, слышу, как воюете с местными бюрократами, — улыбался Сергей Никифорович.
— Недостатков хватает, — поддакнул Анохин. — Перо сушить рано.
Он чувствовал себя скованно, напряженно, ждал, к чему приведет этот разговор, Не затем же его вызвал Климанов, чтоб узнать, как ему работается.
— Ну да, все мы люди, а не боги, ошибаемся, на рожон ослепленные лезем. Все не без темных сторон… А со своими недостатками борьба самая трудная. Главное, не видна она постороннему глазу. А с чужими недостатками — борьба на виду. И часто у нас в героях ходят те, кто с чужими недостатками воюют, а себе, то же самое, прощают…
Анохин молчал, внимательно и настороженно слушал. Его не покидало желание выбраться из мягкого кресла, в котором он утонул, только колени торчали вверх, но он не шевелился, пытался понять, к чему ведет председатель облисполкома.
— Я не о тебе говорю, — улыбался Климанов, неожиданно переходя на ты, — хотя и тебя упрекнуть можно: слишком уж темные стороны в твоих статьях выпирают. Неужели ты ничего светлого в своем районе не видишь?
Анохин решил, что на этот вопрос отвечать надо, и заговорил:
— Ну почему же…
Но Климанов перебил его, остановил каким-то мягким движением своей белой руки, поднятой над столом.
— Я понимаю, понимаю: тебе хочется поскорее избавить быт наш от всего наносного, мешающего идти к коммунизму. Это я понимаю… Потому ты и выпячиваешь, как говориться, вытаскиваешь за ушко на солнышко весь этот негатив… Но ведь нужно все соизмерять, показывать как не нужно жить и как нужно: где тупик, а где большая дорога. Без этого нельзя… Представь, что будет, если все мы начнем говорить, писать, только о том, что у нас плохо. Что же получиться? У читателя вместо борьбы с недостатками, руки опустятся. Начитается он наших речей и статей, плюнет, скажет, вовек не разгрести эту грязь, и как свинья, в ней утонет. Нет, нет, ты мне не говори… нужно, я не возражаю, нужно и под ноги смотреть, грязь показывать. Если она есть, от нее никуда не денешься. Но и на небо надо поглядывать, вдаль, на горизонт смотреть, иначе влезем в лужу, будем кружиться в ней, горбатиться и кричать: грязь, грязь кругом! — а лужайка-то зеленая рядышком, подними голову и шагни…
Анохин понимал, что это всего предисловие. Но к чему?
— А какие у тебя отношения с коллективом, с редактором? — спросил уже другим, мягким голосом Климанов, и Николай понял, что разговор переходит к главной теме.
Он шевельнулся в мягком кресле, сел удобнее. Кресло было низкое, и получилось так, что председатель облисполкома возвышался над ним, смотрел свысока своим радушным взглядом. Добрый бог, готовый миловать, поддерживать, если будешь чувствовать себя маленьким, не будешь стараться выбраться из кресла, из своего придавленного к полу положения.
— С коллективом? — переспросил Анохин. — Нормально. Я как-то не задумывался… Работаем. Ни склок, ни скандалов нет. А с редактором? Вы же его знаете… Василий Филиппович уже десять лет…
— Ну как же, знаю, знаю. Но хотелось твое мнение услышать. Я-то его знаю, как начальник, а ты как подчиненный. А это, — засмеялся Климанов, — как говорят, две большие разницы. Слышал поговорку: ты — начальник, я — дурак; я — начальник, ты — дурак.
— Василий Филиппович редактор толковый… В расцвете сил. Деловой, опытный. Приятно работать с ним. Кроме хорошего никто о нем ничего не говорит… Он не грубит, не лезет в личные дела…
— Значит, работой своей ты доволен?
— Жаловаться стыдно, — повторил Анохин.
— А мы хотели предложить тебе другую, самостоятельную. Как ты на это смотришь?
— Смотря какую?
— Ты слышал, должно быть, в комсомольской газете, где ты часто печатаешься, вакансия редактора. Я хотел тебя рекомендовать… Первый ко мне прислушивается, возражать, думаю, не станет. Комсомольцы, как всегда, скажут — есть! Ты молодой, хорошее образование, опыт журналистской работы — все на месте! Ну?
— А почему я? — нерешительно спросил Анохин, пораженный таким поворотом.
— А почему не ты? — улыбался Климанов.
— В газете ответсеком Алексей Перелыгин… тоже молодой, член партии, и коллектив его знает…
— Рассматривали его кандидатуру, это я по секрету тебе говорю, бывший редактор его предлагал, но, — взглянул вверх Климанов, — отклонил первый. Кто-то намекнул ему, мол, Перелыгин болтун и не стоек, — указал пальцем себе на шею Сергей Никифорович. — Предлагают пригласить со стороны. Я хочу, чтоб ты был. Ну как?
Анохин задумался, молча, смотрел перед собой на маленький полированный стол, на поверхности которого отражались корешки книг с полок, окно, ползали тени от тихонько покачивающихся деревьев за окном.
— Да, неожиданно, — пробормотал он.
— В нашей жизни редко что бывает ожиданно, живем от неожиданности к неожиданности. Привыкай! Сколько тебе времени нужно на размышление? Часу хватит?
— Да я уж поразмышлял… Только одно меня смущает: Алеша Перелыгин! Мы с ним приятели, не хотелось дорогу ему переходить…
— У него шансов нет, — твердо сказал Климанов.
— В таком случае… Я согласен…
— Ну, вот и ладненько, — поднялся Климанов, и Анохин тоже стал выбираться из своего кресла. — Я думаю, препятствий не будет. Сейчас же переговорю с первым секретарем обкома партии. Позвони мне часиков в пять, может, кто из твоего будущего начальства пожелает встретиться с тобой уже сегодня. Для предварительного разговора.
6. На берегу реки
Анохин ждал Зину под ивой, толстый кривой ствол которой в глубоких трещинах метрах в двух от земли делился на пять крепких отростков, тянувшихся в разные стороны, отчего крона ивы была широкой, густой. Гибкие длинные ветви свисали почти до самой травы, где лежал на спине Николай. Он устал глядеть на тропинку, круто сбегавшую меж лопухов и бурьяна с высокого берега, на котором чуть поодаль виднелась крыша здания педагогического института, куполообразное возвышение с левой стороны крыши, с острым шпилем, где раньше был крест: там раньше была внутренняя церковь института благородных девиц. Анохин лежал, закрыв глаза рукой от жаркого слепящего солнца. От реки доносился шум, визг, плеск. Вокруг слышались разговоры, а от компании подростков, расположившихся неподалеку, шлепки карт, споры, смех, подколки.
Анохин выкупался, поплавал, когда пришел из облисполкома, и сейчас его снова тянуло в воду, но он опасался, что плавки не высохнут до прихода Зины, на брюках будут мокрые следы. Ведь нужно будет идти в загс. Анохин снова перевернулся на живот, уперся локтями в траву, глянул вверх и сразу увидел на пыльной тропинке Зину. Ее бледнорозовое платье мелькало среди бурьяна, как цветок. Следом за Зиной сбегал вниз, поднимал пыль ботинками милиционер в зеленой сорочке с галстуком. Фуражку и китель он держал в руках.
Неужели Сарычев? — удивился Николай. Он поднялся, стряхнул прилипшие травинки с ног и нетерпеливо направился навстречу Зине. Сарычев догнал девушку и шел рядом. Он что-то говорил ей и улыбался как-то грустно и заискивающе. Она издали увидела Николая под ивой, которую они называли нашим деревом потому, что два года назад познакомились здесь, познакомились благодаря Перелыгину. Он тогда привел Анохина на пляж, где они встретили группу студенток пединститута. С некоторыми из них Алексей был знаком, познакомил и Николая. Может быть, Анохин не обратил бы внимания на Зину, если бы не узнал, что она из Уварово. Нашлись общие знакомые, а значит и общие темы для разговора. Постепенно они сблизились, сдружились, стали встречаться в Тамбове, когда он туда приезжал, и в Уварово, когда она бывала у родителей. Переписывались.
Сарычев увидел Николая и сразу изменился, лицо его мгновенно стало насмешливым. Он воскликнул, подходя:
— Во, куда не пойду, везде Анохин. Не Тамбов, а деревня… Я уж начинаю думать, не следишь ли ты за мной?
— Я не милиционер, — пошутил в ответ Николай.
Неприятно было почему-то видеть Зину с Сарычевым. Почему они вместе? Зачем она притащила его с собой? Или он сам увязался? Если удивился, увидев меня, значит, не знал, что она идет ко мне.
— А-а, не говори, газетчики похлеще нас. А ты вообще провидец! Ты ведь верно угадал сегодня…
Сарычев нарочно замолчал на мгновенье, сдержался, чтоб не выложить сразу свою радость, хотелось больший эффект произвести на Анохина, и кинул взгляд на Зину. Она, казалось, не слушала их, с непонятной улыбкой смотрела на купающихся, барахтающихся с визгом в воде парней и девчат.
— Что я угадал? — Николай думал об Ачкасове, о сыне председателя Ждановского колхоза.
Встреча с Сарычевым снова заставила его вспомнить вчерашний вечер.
— Мне предложили должность начальника Уваровского райотдела милиции, — быстро выпалил Сарычев.
— Тебе!?
— Мне, мне, — не скрывал своей радости Сарычев.
— И ты, конечно, отказался?
Сарычев захохотал так, словно слова Николая его забавно поразили. Отхохотавшись, спросил:
— Удивлен?
— Чему? Мне ведь тоже предложили должность главного редактора «Комсомольского знамени», — сдержанно ответил Анохин.
— Редактора? Здесь? — воскликнула с радостным удивлением Зина.
— Ты его знаешь? — глянул на нее Сарычев.
— Это он и есть… С ним мы идем в загс!
— С ним?
Сарычев сразу сник, увял, хотя улыбался по-прежнему, но улыбка была растерянной, вопросительной: не разыгрывают ли его?
— Ты хотел взглянуть на счастливчика: смотри, — улыбалась своей непонятной улыбкой Зина. — Николаша, ты знаешь, — взглянула она на Анохина. — Саша сейчас мне предложение сделал.
— Ну уж, предложение, — смахнул пот с висков пальцами Сарычев. — Жарит как. Искупнемся?.. Вот бабы пошли, — засмеялся он жалко, — сделаешь комплимент, а им кажется — замуж зовут!
— Ах, это комплимент такой? А я, дура, мучаюсь, с кем мне в загс идти? С начальником милиции или с редактором газеты, — подмигнула Зина Николаю. — Собирайся скорей, пока не передумала. Некогда купаться.
— Бегу, бегу, — подхватил ее шутку Анохин и помчался назад, к иве, где лежала его одежда.
Хоть и шутил, но неприятный осадок остался. Сарычев словно нанялся испортить ему день.
Если бы Анохин знал, что сейчас твориться в душе Сарычева, как оглушен, потрясен он тем, что Зина выходит замуж, он бы посочувствовал ему. Сарычев в последнее время думал о Зине все чаще и чаще. По вечерам она не выходила у него из головы. Жили они на одной улице, через два двора. Учились в одной школе. Зина была моложе его на пять лет, и, может, потому не обращал он на нее внимания, что в сознании Сарычева она была худой незаметной девчонкой. После школы Зина поступила в институт, уехала в Тамбов, и он ее три года не видел. Не попадалась на глаза, пока прошлой весной не столкнулся с ней возле своего дома. Заехал пообедать, выскочил из машины, а она идет мимо в легком голубеньком платье, помахивает веткой сирени, смотрит на него, улыбается:
— Здравствуй!
— Зиночка! — ахнул он, ошарашенный ее весенней свежестью, красотой. — Ты ли это?
— Я, — засмеялась, засветилась девушка. — Не узнал, зазнался?
— Как хороша! Встретил бы в Тамбове, сроду бы не узнал. Как располнела!
— Ну, уж, располнела. Скажете…
— Не располнела, это я неточно, извини… Налилась, как вишня, схамать хочется! Скоро заканчиваешь учебу?
— Год еще.
— А потом куда? Назад?
— Обещают в нашу школу взять.
— Ну и работку ты себе придумала? Всю жизнь в школе.
— А у вас лучше?
— Чего ты меня на вы, прямо неудобно. Разве я дед?
— Ага, — глянула на его погоны девушка. — Капитан.
— Капитан, капитан, улыбнитесь, — пропел слушавший их разговор шофер, посматривая на них из милицейского «москвича».
Зина поразила Сарычева тогда, да и шофер подлил масла. Когда возвращались, он сказал: «Хороша соседка у тебя!.. А какими восхищенными глазами она на тебя смотрела!» «Брось!» — засмеялся Сарычев, а самому радостно стало. «Вернется в Уварово, надо заняться!» — решил он, и с тех пор стал представлять Зину рядом с собой, представит и теплее становится на душе, нежность затопляет. «Неужели влюбился? — усмехался он над собой. — Надо жениться тогда!».
Ему почему-то и в голову не приходило, что она может с кем-то встречаться, любить кого-то. Сам он ни в ранней юности, ни сейчас не увлекался девчонками, не занимали они его воображения. Жажда приключений, преодоление опасности — этим он болел с детства. В милиции жажду эту он смог утолить. Полюбилась ему власть над людьми, нравилось видеть, чувствовать, что как только он появляется в многолюдном месте, уверенный, подтянутый, строгий, но и ироничный, так многоголосый шум вокруг сразу затихает, почтительно замирает.
Но Сарычев вместе с тем больше всего боялся показаться унтерпришибеевым, поэтому голоса на толпу никогда не повышал, а если надо было какую-нибудь подвыпившую орду разогнать, подходил к ней, как всегда, уверенно и обращался не ко всем, а к кому-нибудь одному из особенно активных, знал в городе почти всех, обращался спокойно, с улыбкой, с юмором, любил, когда ему отвечали, любил состязаться в подначках, понимал, что его милицейский мундир, его положение, сковывают языки остряков, волей-неволей чувствуют они границы, а у него, естественно, выбор для острот неограниченный. Но если кто-нибудь по пьянке забывался, дерзил, укалывал его самолюбие, он тут же спрашивал тихо, но быстро:
— Отдохнуть от запоя захотелось, повкалывать?
Если с ним был кто-нибудь из рядовых милиционеров, оборачивался, звал негромко:
— Илюшин! — или: — Оглобин! — смотря кто с ним был.
А когда Илюшин или Оглобин подлетал к нему с таким видом, будто готов крушить все вокруг, бить морды, выламывать руки, этот миг Сарычев тоже любил, — он говорил спокойно:
— Шустряев нарушает общественный порядок. Возьми!
Шустряев бросался удирать, а длинноногий молодой Оглобин с яростным видом дергался за ним, уверенный, что нет в Уварово человека, способного убежать от него. Но Сарычев сдерживал, говоря:
— Спокойно, Оглобин, спокойно! Куда он денется, свидетелей-то сколько, — обводил он улыбчивым взглядом сразу становившуюся молчаливой орду и чуть громче спрашивал: — Ну, кто добровольно хочет быть свидетелем?
Желающих не находилось. Орда мгновенно рассасывалась, что и требовалось. Но Сарычев делал вид, что огорчен, взывал:
— Куда же вы? Куда? Что же вы такие несознательные? На ваших глазах нарушают общественный порядок, а вы в кусты… Неудахин, Просандеев, где же ваша гражданская совесть?
Неудахин и Просандев убыстряли шаги, опасаясь, что именно они станут свидетелями. Сколько случаев было, когда вызывают как свидетеля, а возвращаешься через пятнадцать суток. Убежавший Шустряев долго потом избегал встреч с Сарычевым, а если вновь попадался на глаза среди пьяной оравы, то уже не дерзил, не вступал в спор, когда к нему обращался Сарычев.
Отметили в городке быстро и то, что не всех трогает Сарычев. Как бы, например, не озоровал, не хорохорился, не выделялся дерзостью среди пьяной орды Мишка Семенцов, сын директора трикотажной фабрики, молодой парень по прозвищу Сын вселенной: он уже побывал на нескольких ударных стройках, откуда возвращался быстро, месяца через три-четыре, работал и в Тольятти, где строился автомобильный завод, так вот, как бы он ни озоровал, Сарычев никогда не обращался к нему, будто бы не был с ним знаком.
Справедливости ради стоит отметить, что Мишка со своей стороны, как бы ни был пьян, старался не дерзить Сарычеву. Между ними как бы был нейтралитет, негласное соглашение: я тебя не трону, и ты меня не трогай!
Любил власть, любил приключения Сашка Сарычев, но никогда не забывался, начальство уважал, был исполнительным, никогда не возражал, с готовностью выполнял все, что прикажут, не обсуждая и не ропща. Это заметили и отметили.
К девушкам и к вину относился спокойно. Знали все в городке, что один раз в неделю, в среду, он бывает у Машки Вихляевой. Любому человеку в городке скажи, что, мол, такое-то случилось в тот вечер, когда Сашка Сарычев был у Машки Вихляевой, и тебе тут же ответят: в среду это случилось, в среду. Знали все и то, что Машка Вихляева, тридцатилетняя разведенка, длиннолицая, большеротая красавица с долгим узким телом, от которой муж ушел потому, что она не могла детей иметь, ушел после того, как узнал, что она в девичестве аборт делала, встречается не только с Сарычевым. Не один раз видели, как, не скрываясь, с веселой ухмылкой открывал к ней в палисадник калитку озорник Мишка Семенцов, Сын вселенной. Он был моложе Машки лет на восемь, да и Сарычев тоже не ровесник ей.
Сосед Машки Вихляевой, Юрка Кулешов, бывший одноклассник Семенцова, но в отличии от Мишки, серьезный парень, после службы в армии работавший шофером у самого Долгова, первого секретаря райкома, смеялся, когда бывал в компании мужиков, что, впрочем, не часто бывало, Юрка Кулешов парень себе на уме, это все знали, так вот он смеялся, говоря, что, мол, ждет, когда пьяный Мишка в среду ввалиться к Машке: вот концерт будет! Но ждал Юрка напрасно, ни разу такого не случилось. Тихо, мирно было в доме Вихляевой. Могла, значит, она ставить на место мужиков.
Районное начальство, особенно председатель райисполкома, намекало не раз Сарычеву, что жениться надо: семейный человек — солидный человек, доверия ему больше. Сарычев понимал: дело говорят, надо — и ждал, когда Зина окончит институт и вернется в Уварово, думал о ней так, словно она уже дала согласие стать его женой. Сегодня начальник областного управления внутренних дел прямо сказал ему, что жениться надо, не гоже быть начальнику милиции холостым. За каждым шагом начальника народ следит. Простому человеку сойдут с рук романы и романчики, а начальнику нет. Осудит народ, верить не будет, уважать не будет. Сарычев ответил, что понимает это и давно готов заполнить пробел в анкете.
— Есть кто на примете? — по-отечески спросил полковник.
— Есть.
— Действуй тогда, не медли.
И Сарычев прямо из Управления помчался в пединститут, разыскал Зину Сушкову. Встретила она его радостно, впрочем, иной встречи он и не ожидал. Все шло, как задумывалось. Но когда он стал намекать ей на свои сердечные чувства, на то, что готов хоть завтра подарить ей свою фамилию, она, смеясь, ответила, что надоели ей фамилии на букву «с» — Сушкова, Сарычев, и она как раз сегодня решила идти в загс с заявлением, чтобы поменять фамилию. И парня уже нашла, готового дать ей свою, на букву первую в алфавите. Он сейчас ждет на пляже.
Сарычев не поверил, думал, что она шутит, сам шутил, что сгноит в тюрьме этого негодника, торгующего фамилией, увязался за Зиной на пляж. Теперь он смотрел, как Николай торопливо одевается под ивой, и все надеялся, что шутят они, разыгрывают его. Молча стоял рядом с Зиной, онемел, ждал, что будет дальше.
Анохин подошел, деловито спросил у Зины, не обращая внимания на Сарычева:
— Паспорт с собой?
— Дома. Я сразу к тебе. Да и рано еще, в загсе перерыв. Успеем…
Даже не сами слова, а деловой тон, каким они были сказаны, убедил Сарычева, что Зина с Николаем действительно идут в загс. Обошел его Анохин, обскакал!
— Ты остаешься? — спросила Зина у Сарычева.
— Да, да, — очнулся тот. — Я искупнусь. Жарко, — вытер он мокрое лицо ладонью и двинулся к той самой иве с кривым стволом.
Каким униженным, оплеванным чувствовал он себя! Трава под ногами казалась черной. И как ненавидел, смертно ненавидел он счастливчика Анохина!
7. Зависть
Зина с Николаем шли назад по горячей пыльной тропе, держались за руки, шли в гору.
— Ты какой-то озабоченный? Из-за Сашки?
— Да ну, глупости! А ты разве не озабочена?
— Я счастлива!
Анохин приостановился, повернулся к Зине, быстро поцеловал в щеку. Тропа сузилась, и Зина пошла чуть впереди.
— Как же не быть озабоченным, — говорил Николай. — Жизнь круто меняется: женюсь, в Тамбов переезжаю, работу меняю…
— Ты не шутил? — повернулась Зина.
— А ты не поверила?
— Ой, это правда!.. И тебе… и нам квартиру дадут в Тамбове? Мы здесь будем жить? Какой ты молодец! Ну, какой ты у меня молодец! — восклицала Зина. — Расскажи, ну расскажи, как тебе предложили? Что говорили?
Анохин, смеясь, прижал к себе возбужденную Зину, потом отпустил, подал руку и стал помогать взбираться на кручу. По дороге к остановке он рассказал, как встретил его Климанов, о чем говорил.
— Мне неудобно перед Перелыгиным… Выходит, я ему дорогу перешел.
— Но ведь Климанов ясно сказал, что его отклонили до тебя. Причем здесь ты?
— Ну да, мне-то ясно, но поймет ли Перелыгин?
— Объясним.
— Надо позвонить ему. Я обещал, что мы отметим сегодняшний день. Где мы посидим?
— В Центральном, конечно. Помнишь, как зимой было здорово?
Перелыгина на месте не было. Сотрудница газеты пошла его искать. Анохин ждал и вспоминал утренний разговор с Алешей. Каким он тоном теперь отзовется? Пожелает ли вообще пойти с ними?
— А-а, молодожен, привет, привет! — загудел в трубке голос Перелыгина. — Подали?
«Успокоился! — решил с облегчением Анохин. — Или слушок дошел, что меня прочат в редакторы. Это быстро у них».
— Алеша, подходи к шести в Центральный ресторан, мы тебя там ждем. С Любкой чтоб…
Потом они были в общежитии на Полевой улице, целовались в комнате, где было жарко, тихо. Большая муха громко жужжала, сердито билась в стекло за тонкими желтыми шторами, искала открытую форточку, но никак не могла найти. «Зараза какая!» — пробормотала Зина, отстраняясь, поднялась с кровати, на которой они сидели, и начала придавливать штору к стеклу, направляя муху к открытой форточке. Муха забилась еще яростней, но быстро нашла выход и пулей вылетела на улицу. В комнате стало совсем тихо. Лишь изредка хлопали двери в коридоре, слышались шаги. Никому не хотелось сидеть в общежитии в такой жаркий день.
Во Дворец бракосочетания входили они размягченные от жары, от волнения. Там было прохладно и пусто. Из комнаты, открытая дверь которой была слева, быстро вышла, мягко ступая по ковру, женщина с приветливым и в то же время каким-то официальным лицом. Она дала бланки, усадила за широкий стол. Говорила она чинно, торжественно, каким-то металлическим голосом, как диктор радио. От этого тона Николай с Зиной еще сильнее заволновались. Когда женщина ушла в свою комнату, Зина шепнула, поглядывая на дверь:
— Если бы я здесь работала, я бы так радостно всех встречала, что…
Николай коснулся ласково ее руки, и она не договорила, замолчала, улыбнулась нежно, вздохнула и продолжила заполнять анкету.
Из прохладной комнаты Дворца вышли они в жару, присмиревшие, шли по Интернациональной улице к площади Ленина молча, держась за руки. Не сказав друг другу ни слова, добрели до Советской улицы, перешли ее и по переулку мимо музыкального училища и бывшего Казанского монастыря с его кирпичными стенами и соборами двинулись к реке.
Людей на берегу стало еще больше: плеск, шум, смех усилились. Синие лодки на синей реке среди ослепительных искр от играющей воды скользили тихо и важно, как лебеди, туда, где берег порос высокими пенистыми ветлами, где было тихо, безлюдно. Они постояли на берегу, на круче, неподалеку от гостиницы. Далеко было видно. Воздух струился: колебались, плавали дома вдали, трубы завода и темная полоска ельника на горизонте. Они спустились и по берегу побрели к лодочной станции.
Вода чистая, легкая, мягко шлепала о борт тонкий лодки, взвихривалась, журчала под веслами, упруго давила на свесившуюся с борта руку Зины. Поскрипывали уключины. Анохин жмурился на солнце, работал веслами, с удовольствием чувствуя, как вздуваются, шевелятся мышцы на груди и спине, любовался Зиной, ее тонкими белыми руками.
— Ты еще ни разу не загорала, не купалась?
— Нет.
— А я обгорел, когда у матери картошку сажал…
— Ой, поворачивай! — вскрикнула Зина.
Он оглянулся, увидел мчавшуюся навстречу лодку, резко вогнал одно весло в воду, притормаживая, а другим продолжал грести. Лодка развернулась, чиркнула по борту встречной.
К ресторану они пришли за пять минут до открытия. Перелыгин их уже ждал, выделялся среди небольшой очереди: здоровенный, головастый, внушительный. Увидел, расцвел:
— Завидую я вам, отцы. Сияете, как голубки…
— А кто тебе мешает? — весело спросила Зина. — Люба где?
А Анохин сказал, делая тон нравоучительным:
— Это, сынок, неизвестно, завидовать нам надо или сочувствовать. Жизнь покажет — не иллюзиями ли живем.
— Живите иллюзиями, отцы, без них ваша жизнь превратиться в тоскливое существование…
Люба пришла перед самым открытием ресторана. Она была выше, крупнее Зины, но рядом с Перелыгиным выглядела хрупкой. Платье на ней ярче, богаче, элегантней, чем у Зины. Выщелкнуться она любила, шебутная была, прокудливая. Пришла и сразу будто многолюдней стало возле ресторана, хотя кроме нее никто не появился в очереди. Люба и Алеша удивительно подходили друг другу: два сапога пара, как говорится. Оба веселые, подвижные. Время с ними летело незаметно, быстро и долго потом оставалось в душе приятное ощущение от общения с ними. Но спроси у человека через час после проведенного вечера в их компании, о чем говорили, что обсуждали, чем обогатил этот вечер? Пожмет плечами в ответ, скажет -— весело было, а если добросовестно задумается, начнет вспоминать, чему смеялись, над чем шутили? Ничего не вспомнит, кроме пары анекдотов.
И Любе, и Алеше не раз намекали, а то и впрямую говорили, что они и есть те самые две половинки, которые ищут друг друга, чтобы соединиться. Однажды Николай спросил у Перелыгина, когда говорил о своей предстоящей свадьбе с Зиной, почему он не женится на Любе? Девка хоть куда: и хороша, и не глупа.
— Лучше я на козе женюсь! — бросил вдруг быстро и нервно Перелыгин с каким-то непонятным ожесточением и брезгливостью.
Анохин растерялся от такого неожиданного ответа, замолчал надолго, не понимая, почему Перелыгин, думая так о Любе, продолжает встречаться с ней. Хотел спросить напрямик, но что-то удержало, не решился. А Алексей добавил также быстро:
— А на Зине я б давно женился, не тянул…
И эти слова удивили Николая. Он считал, что Перелыгина привлекают яркие, бойкие девчонки, а не скромницы, незаметные молчуньи, которые ни одеться прилично, ни за себя постоять не могут: только краснеют, бледнеют, если подденут их острым словом. Сидят в компаниях в уголочке в своих бледных ширпотребовских платийцах. Чтоб нормально одеться, нужно иметь пробивной характер, а где его взять скромницам. Как-то трудно было представить себе такую рядом с Перелыгиным. Фантазии не хватало.
Люба — это другое дело. Украшение любой компании. Всегда на виду. Наверное, не у каждой дочки дипломата появлялось раньше, чем у нее, платье сверхмодного фасона. Где она его брала? Как доставала? За какие деньги? Узнать было невозможно. Где работала она, никто не знал, даже Алексей. Впрочем, он и не интересовался. Знали, конечно, что она два года назад окончила пединститут. Знакомых по институту много было. Когда у нее спрашивали, где она работает, отвечала: «В фирме рога и копыта». Все, естественно, принимали такой ответ, как ильфопетровскую шутку, переходили на ироничный лад, спрашивали: директором? Нет, управляющим, отвечала она. В шутке ее была доля шутки: работала она в областном управлении «Вторсырье», и, конечно, не управляющим. Сидела в конторе, обобщала сведения, поступающие со всей области: сколько собрано макулатуры, рогов и копыт и другого вторсырья.
Тема сегодняшних шуток Любы и Алексея — будущая супружеская жизнь Николая и Зины. Бесконечная тема: анекдоты, подколки. Зина с Николаем охотно поддерживали шутки. Радостно было говорить, думать о том, что скоро они будут неразлучны.
В начале вечера Анохин наблюдал за Перелыгиным. Поразило его утром, что такой большой, огромной силы человек, казавшийся таким уверенным, и вдруг стал таким беспомощным от страха. Алексей понимал, что крепко опростоволосился перед другом, понимал, что Анохин не мог не заметить его состояния, и старался поскорее выбросить из головы неприятный утренний разговор и держаться, как всегда, естественно и уверенно. Если бы не утренняя встреча, то, вероятно, Перелыгин решил бы взять Анохина в газету своим замом, и рад был бы этому, горд, что помог выбраться другу из глухой провинции, но теперь даже мысль об этом казалась ему глупой.
Днем он снова звонил бывшему редактору, узнавал, нет ли чего нового в его деле. Тот ответил, что все пока на месте, но шансы его, Перелыгина, велики, никто вроде не возражает, иной кандидатуры просто нет. Это успокоило Алексея, прибавило уверенности, что скоро он станет во главе газеты, станет заметным в Тамбове лицом.
После разговора с бывшим редактором, сходил в свой будущий кабинет. Не утерпел, страстно тянуло туда, примериться к креслу. Нашел повод, будто номер телефона ему понадобился, который записан в календаре редактора. Входил в кабинет, а сердце сладко щемило. Вот здесь, в этом кресле, за этим столом он будет сидеть, вести редакционные летучки, руководить, решать. Имя его будет стоять первым в каждом номере газеты. Здорово, ядрена вошь!
После первых тостов стало еще веселей. Ресторан быстро заполнялся табачным дымом. Чадили, казалось, все, кроме Николая и Зины. Хрипло и яростно, возбуждая себя и посетителей, ревел ансамбль.
— Отец, — говорил Перелыгин Анохину, — сегодня я тебя не пущу в Уварово. Ночуешь у меня. Места до черта… Возьмем с собой горючее, посидим и — гулять по ночному городу! Хоть до утра… Тихо, тепло, май… Май жестокий с белыми ночами от страстей моих освободи!
В прошлый раз, в воскресенье, когда они были здесь, сидели только до девяти вечера. Поезд уходил поддесятого. Провожали Анохина пешком до вокзала. Он неподалеку. Интернациональная улица в него упирается.
— Я не еду… Мне с утра в обком комсомола. К первому…
Как ни крутился Анохин от разговора о предложении Климанова, неприятен он будет для Перелыгина, но пришлось заговорить. Хуже будет, если Алеша узнает не от него, а от кого-то другого. Может, подумать, что он действовал за его спиной.
В четыре часа, перед тем, как пойти в загс, Анохин звонил Климанову. Сергей Никифорович поздравил его, сказал, что возражений не было со стороны партии и комсомола.
— Рано, конечно, поздравлять, — гудел довольным голосом Климанов. — В Москву тебе еще ехать утверждаться, но, думаю, и там повода не будет отклонять.
— В Москву ехать? Мне?
— Ну, не мне же…
— А когда?
— Когда подготовят документы. Возможно, на следующей неделе… Ты нашему комсомольскому вождю понравься сначала. Звони ему, он ждет.
Николай позвонил, и первый секретарь обкома ВЛКСМ назначил ему встречу на девять часов утра. Говорить об этом Перелыгину нужно. Ведь вместе работать. Если зам редактора тоже уйдет, то на его место, естественно, сядет Перелыгин. Тут вопроса нет. Говоря о том, что ему завтра в обком к первому, Анохин знал, что Перелыгин непременно спросит, зачем он туда идет. И Алексей спросил:
— А чего тебе от него надо: Он ничего не может. Без команды партии он пальцем не шевельнет.
— Алеша, ты знаешь, они хотят к вам непременно со стороны редактора посадить…
— Откуда ты знаешь? — похолодел, напрягся Перелыгин.
— Климанов предложил мне. За тем и вызывал.
— Тебе?! — ахнул Перелыгин, сразу трезвея, но тут же вспомнил утренний урок и с усилием сделал свое лицо изумленным и радостным: — Ну, ты жох!
— Я еще не согласился… Я сказал, зачем на стороне искать, когда свои кадры есть, назвал тебя…
Но Алексей будто не слышал этих слов, продолжал восклицать, стараясь казаться восхищенным, хотя сердце ныло, ныло. Прощай мечты! Прощай заветное кресло!
— Ну, жох! А дипломат какой хитрющий, — повернулся он к девчатам, словно приглашая восхититься вместе с ним действиями Анохина. — Даже другу не сказал… Зря, мог бы пролететь. Надо было посоветоваться, я лучше знаю расстановку сил. Знаю, кто есть кто, и кто на что способен. Через кого ты действовал? Через Климанова?.. Вообще-то правильно, он человек жесткий, сейчас в силе, с ним считаются…
— Да, не действовал я совсем! Я от тебя только узнал, что ваш редактор ушел…
— Брось, отец! Сейчас-то не темни, — сдерживая раздражение с деревянной улыбкой, перебил Алексей. — Так в наше время не бывает. Ни с того, ни с сего никто ничего не предложит. Подготовочка нужна. Обработка. Давайте выпьем, — поднял он рюмку, — за нового редактора! — Он потянулся через стол к Анохину. Тот быстро поднял навстречу свою рюмку. — Я рад, отец! Ей-Богу, рад. Лучшего варианта придумать трудно. Это здорово! Надеюсь, друга ты не забудешь. Бросишь кусочек от своих щедрот…
Неловко себя чувствовал Анохин. Неудобно было и Зине. Она знала, что Николай ничего не предпринимал, а то бы он с ней непременно поделился. А Люба с интересом переводила взгляд с Перелыгина на Анохина. Алексей хвастался ей, что скоро станет редактором, говорил, что он единственный претендент. Конкурентов нет. А его так лихо обошел друг.
— Я еще не согласился, — твердо повторил Анохин и выпил, подхватил вилкой кусочек помидора и, морщась, добавил: — Не решил, нужно ли мне это…
Зина с тревогой слушала его. Она уже переиначила в мыслях свое будущее, видела себя в Тамбове.
Перелыгин запил водку сухим вином и добродушным голосом заговорил:
— Отец, кто же удачу от себя отталкивает? Нелогично.
— Конечно! — не утерпела, поддержала его Зина. — Откажешься, больше не предложат. Пригласят третьего. И не ты, ни Алексей не получат.
— Верно, мать… Сядет дурак, и мне жизни не будет.
— Уговорили, — засмеялся Анохин. — Соглашаюсь только при условии: ты будешь моим замом.
— Во жизнь, а, девки! — захохотал Перелыгин. — Утром он ко мне в замы набивался, а вечером меня тянет.
— Вот и верь поговорке: утро вечера мудренее, — подхватил Анохин.
— О, это великолепный тост! — воскликнул Перелыгин, хватаясь за бутылку. — Девочки, вперед! Выпьем за то, чтобы утро всегда было вечера мудренее!
— Не гони. Вся ночь впереди, — попыталась удержать его Люба.
— Поехали! — будто не услышал Перелыгин. И снова вином запил.
Хмелел он неожиданно быстро, качался, когда шел танцевать, натыкался на стулья, а танцуя, откровенно дурачился. Зина с тревогой смотрела на него, опасалась скандала.
— Может, пора, — шепнула она Анохину.
— Алеша, — обратился Николай к Перелыгину, когда вернулись за стол. — Зина опасается, как бы нас в общежитие не пустили. Сам знаешь, какие там вахтеры.
— А ко мне? — пьяно пробормотал Алексей. — Мы же договорились…
— В другой раз, — уверенно ответил Анохин, догадавшись, что ни задерживаться в ресторане, ни тянуть к себе Перелыгин не собирается. — У нас еще много дней впереди, — положил он свою руку на широкую ладонь друга.
Вечер теплый, ласковый. Ни ветерка. Матово освещали фонари улицу, сквер напротив ресторана, в конце которого светлела на фоне темного неба освещенная прожекторами высокая фигура Ленина. Прошлись немного мимо памятника, мимо желтых колонн кинотеатра «Родина», попрощались на остановке. Люба неподалеку жила, на улице Сакко и Ванцетти, а общежитие пединститута в другой стороне, ехать нужно.
Зина с Николаем помахали из троллейбуса руками. Алексей стоял на тротуаре позади Любы, держался за ее плечи своими лапищами. Был он какой-то растрепанный, нелепый, как побитый лев, а Люба, бодрая, махала им, вытянув вперед руку, с таким видом, словно прощалась с милыми гостями, которые принесли ей столько радостных минут.
— Быстро он сегодня захмелел, — сказала Зина, когда троллейбус тронулся и покатил по площади Ленина.
— Он же весь вечер водку с вином мешал… Да, и расстроил я его. Если бы точно знать, что его сделают редактором, я бы отказался. Он взял бы меня замом.
— Откажешься, а не ты не станешь, ни он, — горячо повторила, возразила Зина и прижалась щекой к его плечу. — Дует…
— Закрыть? — потянулся Николай к окну.
— Не надо, мне хорошо…
А Перелыгин с Любой молча постояли немного, глядя вслед троллейбусу. Он по-прежнему держал ее за плечи сзади.
— Лихо он тебя бортанул, — усмехнулась Люба.
— Рано радуется. Он еще не обошел меня… Утро вечера мудренее, — совершенно трезво проговорил Перелыгин.
Люба с удивлением подняла голову, взглянула на него через плечо. Она тоже считала, что Алексей пьян.
— Ты молодец… Я думала, ты раскис, тряпка… И помни, он с тобой не считался, плевал на тебя. Станет редактором, непременно выживет из редакции… будешь локти кусать…
— Любисток, — поцеловал ее в затылок Перелыгин, — я о тебе думал хуже.
— Чудак, — засмеялась она нежно, — кто еще о тебе так заботится, а?
— Пошли, — решительно обнял он ее за плечи и повернул в сторону улицы Сакко и Ванцетти. — Утро вечера мудренее, но и вечер терять не стоит.
«Нужно действовать, действовать!» — думал он, вспоминая домашний телефон бывшего редактора газеты. Последние цифры два-двадцать шесть он помнил хорошо, а в первых двух сомневался, то ли тридцать семь, то ли тридцать девять.
Проводил Любу, чмокнул в щеку, буркнул:
— Прости!
— Действуй, действуй, может, такой шанс судьба никогда не подбросит.
Она постояла у ворот своего старого деревянного дома, глядя, как он решительным шагом удаляется, Люба поняла, что сегодня она стала значить для Алексея больше, чем любовница, и почти уверена была: если Алексей сумеет обойти Анохина, он не бросит ее. Ведь честным путем обойти он не сможет, значит, будет искать опору, чтобы оправдывать себя, и она станет ему этой опорой. Как и что будет делать Алексей, она не знала, да и не думала об этом. Его дело. Понимала, что связи с большими людьми Тамбова у него есть. Многим выгодно посадить в кресло главного редактора газеты своего человека, поддержит при случае. Особенно выгодно иметь человека обязанного бывшему редактору, чтобы новый человек не обрубил все концы, которые он завязал. Алексей оглянулся в последний раз, прощаясь, и завернул за угол. Нырнул в первую же телефонную будку, набрал номер и сразу попал к бывшему редактору.
— Я не разбудил?
— Еще одиннадцати нет… А чего ты такой… взъерошенный?
— Точно. Угадал, — нервно засмеялся Перелыгин. — Есть из-за чего взъерошиться! Я узнал, что у меня конкурент появился. Завтра с ним встречается Кузя (так они звали первого секретаря обкома комсомола), даст добро и все!
— Кузя за тебя. Это я точно знаю… А откуда он появился? Молодой?
— Из Уварово. Некий Анохин, — зло усмехнулся Перелыгин.
— Анохин? Дружок твой? — удивился бывший редактор.
— Однокурсник, — буркнул Алексей.
— Он в комсомоле работал?
— Если только в школе.
— Это чепуха. Аргумент в нашу пользу. Еще что?
— Я знаю только одно, газету, которую ты по зернышку собирал, он за месяц развалит.
— Ну и потерпи этот месяц, — пошутил бывший редактор. — Развалит, выгоним, посадим тебя, снова соберешь. Честь тебе и хвала.
— Не жалко газеты?
— Ну ладно, ладно! Позвоню я завтра Кузе. Теперь не я от него, а он от меня зависит.
— И с утра, с утра надо, а то поздно…
— Успеем.
8. Первая ночь
Чтобы попасть в общежитие, Зина и Николай проделали обычный маневр: Зина вошла первой, а Анохин подождал у входа, когда появится кто-нибудь из ребят, живущих здесь, и рядышком с ним с беспечным видом, будто и он студент, прошел мимо старушки вахтера.
Зина жила с двумя студентками. Обе они были в комнате. Зина включила чайник, пошла стаканы мыть, а Анохин направился к своему знакомому, у которого он не раз ночевал, договариваться о ночлеге. Но знакомого студента не оказалось на месте, уехал домой. Парень, живший с ним, указал на свободную кровать: ночуй, не помешаешь. Студент был белобрысый, с узким длинным лицом, губастый, и, видно, невозмутимый, спокойный. Анохин почувствовал к нему доверие и заговорил, смущаясь своей наглости:
— Слушай, друг… Понимаешь, я сегодня заявку в загс подал…
— С Зинкой? — заинтересовался парень.
— Ну да, вот видишь… ты знаешь… пойми правильно…
— Ночевать, что ли, с ней здесь хочешь?
— Ну да.
— Не пойдет она.
— Мы же заявку подали… почти муж-жена…
— Ну, это ваше дело… Бери ключи…
Студент ушел, а Николай с бьющимся сердцем взлетел на третий этаж, к Зине.
— Устроился?
Николай показал ключи.
— Я один в комнате.
Он опасался, что она не пойдет, постесняется подруг. Но она торопливо, с волнением, возбужденно, словно боялась куда-то опоздать, выпила чашку чая и поднялась.
— Девочки, мы пошли…
Анохин отодвинул свою чашку и вскочил.
По коридору она шла впереди. Он, покачиваясь, следом. Перед глазами у него плыло, словно пил он сейчас не чай, а спирт. Сердце радостно и тревожно ныло.
Когда он закрыл дверь на ключ и повернулся к ней, она положила ему руки на плечи и долго вглядывалась в его лицо, удерживая от объятий. Потом неожиданно всхлипнула и ткнулась лбом в его грудь.
— Ты что?
— Я люблю тебя, — прошептала она.
Он легонько поднял ее голову пальцами за подбородок и потянулся губами к ее губам. Она закрыла глаза. Он прижимал к себе Зину, не чувствуя ни ее ни своего тела, не понимал, где находится, что с ним происходит. Он то ли падал с огромной высоты, то ли летел, то ли плыл, взлетая на гребень волны и ухая вниз. Очнулся, когда она отстранилась и тихонько прошептала:
— Мы сейчас упадем.
Он засмеялся:
— Меня ноги не держат.
— Иди сюда, — подвела она его к кровати и села на краешек.
Ночь пролетела мгновенно. Осталось от нее ощущение нестерпимого счастья, да кое-какие подробности: всю ночь виден был в открытое окно фонарь, его выгнутый железный горб — стоял он, отвернувшись, и смотрел вниз, словно потерял что-то под деревьями и теперь внимательно высматривал, искал. И казалось, на всю ночь застряла между пятиэтажными домами напротив, над темной верхушкой дерева бледная половинка луны, похожая на тонкий прозрачный ломоть арбуза.
9. Утро вечера мудренее
Утром Перелыгин сидел в своем кабинете, томился, ждал звонка бывшего редактора. В девять у Кузи будет Анохин, а до этого редактор должен непременно переговорить с Кузей. Стрелка часов еле ползла, будто подкрадывалась к цифре девять. Телефон молчал. Из коридора стали доноситься голоса, начали хлопать двери. Появлялись сотрудники. Девять! Чего он медлит? Неужто не звонил? Перелыгин нерешительно потянулся к телефонному аппарату. Едва он коснулся пальцами трубки, как телефон взорвался, как показалось Алексею. Он дернулся, вздрогнул всем телом, отдернул руку от аппарата, потом сразу же схватил трубку.
— Але, — выдохнул он.
— Ты?
— Я! Как? Звонил?
— Дело швах, — безнадежно вздохнул бывший редактор.
У Перелыгина опустилось все внутри, еле сдержался, чтобы не крикнуть от отчаяния: почему?
— Говорил я с Кузей. Он обеими руками за тебя. Понимает, с тобой ему спокойнее будет… Но здесь, у нас, в большом обкоме заминка вышла, и Климанов подсунул Анохина. Первый поддержал. Кузе предложили встретиться с Анохиным, побеседовать, высказать свое мнение. Но дали понять, какое мнение от него ждут. Кузя уже обе руки поднял…
— А ты! — вскрикнул Перелыгин. — Ты же там, в обкоме! Поговори, убеди!
— Кого? Кого я буду убеждать? Это на самом верху решалось. Все, что мог, я сделал…
— Значит, все? Никакой надежды? — прошептал Перелыгин.
— Пока решения нет, от надежды отказываться не надо.
— Что же делать?
— У нас его материал идет вроде? Никого не задевает он там? Не лезет на рожон? А то поставь его поскорей.
— Этот материал ему только репутации добавит…
— Понятно… Думай, время есть. Будет, что интересное, звони. Смогу — помогу!
Алексей опустил трубку, посидел минуты три, уставившись в перекидной календарь, потом стал решительно набирать номер телефона приемной Кузи.
— Светик, привет. Это Алеша Перелыгин… У себя?
— Соединить?
— Есть у него кто?
— Какой-то Анохин. Из районной газеты.
— Светик, это не какой-то Анохин, а будущий мой шеф.
— Неужели?
— Точно, Светик, точно! Как только он выйдет, скажи, пусть мне сразу от тебя позвонит. Давно он вошел?
Но вместо ответа Перелыгин услышал далекий голос секретарши, которая обращалась к кому-то, вероятно, кто-то вошел в приемную. Вдруг в трубке раздался голос Анохина так, словно он был рядом с Алешей. Перелыгин невольно откачнулся от трубки.
— Алеша, привет.
Сердце у Перелыгина заколотилось так, что он испугался, как бы стук не был слышен в трубке. Он собрал нервы в кулак, закричал:
— Отец, ты! Ну как, поздравлять?
— До поздравлений далеко.
— Не скромничай. Как беседа-то?
— Нормально. Надо документы готовить… Сейчас был просто предварительный разговор.
— Самое главное — предварительный, а потом пустые формальности. Молодец, отец, я рад за тебя! Очень рад! С нетерпением буду ждать… Не тяни! — заставил он себя пошутить и засмеяться. — Как после вчерашнего, головка не болит?
— Нормально.
— А у меня пошаливает… Ты когда в Уварово?
— Сейчас… Отсюда на автовокзал.
— Ну, давай, давай. Ждем.
Перелыгин вылез из-за стола, прошелся по кабинету, сдавливая виски пальцами. Голова, действительно, заныла после этих двух телефонных разговоров. О, Господи! Что делать? Будет ли еще такой шанс в его жизни? Пересидишь, сложится мнение, что достиг потолка, и конец. Не вырвешься из Тамбова до тридцати лет — и никому не нужен. А годы мелькают… Откуда взялся этот Анохин?.. Сам вскормил, сам! Не печатал бы здесь, кто бы его знал? Сидел бы он всю жизнь в своей районке. «Ах, дурак, дурак!» — постучал себе по лбу Перелыгин. Что же делать?
Вспомнился ему вдруг вчерашний утренний разговор с Анохиным об уваровских передрягах. Алексей остановился посреди кабинета, ощущая какую-то смутную надежду, светлый лучик. Ввяжется Анохин и пропадет… нет, он не дурак, отвезет втихаря пленку в Москву и тех прихлопнут. Они не подозревают, что он все знает, что у него пленка. Может, начнут копать, где был тот милиционер перед смертью, и допрут. Папку они должны взять, должны понять, что они на крючке. Неужто не допрут?.. А-а, документы взяли и успокоились теперь… Еще сильнее заныла голова. Господи, что же мне делать? Зачем мне все это?
Он подошел к столу и поднял трубку, оглянулся на дверь и опустил трубку назад. Подошел тихонько к двери, прислушался и осторожно запер ее. Вернулся к столу, сел, полистал, потеребил записную книжку. И решился. Позвонил в обком, узнал номер телефона и имя-отчество первого секретаря Уваровского райкома партии и, уже не думая ни о чем, стал нервно крутить диск.
— Виктора Борисовича, пожалуйста, — сказал он строго и неторопливо секретарше.
— Кто его спрашивает?
— Обком партии, сельскохозяйственный отдел.
Он слышал, как секретарша доложила о нем. Пока удачно идет. Ждал, сжимая колени, чтобы унять дрожь. Когда услышал мягкий и какой-то домашний голос секретаря, спросил сурово:
— Виктор Борисович, вы видели папку с документами изъятую у убитого Ачкасова?
— Какую папку? Простите, кто говорит? — ласково перебил Долгов.
— Какую? Которую вы искали, из-за которой убили сначала начальника милиции, а потом его заместителя…
— Кто вы? Что за дикий бред? Дружочек, вы куда звоните? — голос у секретаря по-прежнему был домашний и ласковый.
Перелыгин не знал, что Долгов быстро ткнул в кнопку, включил магнитофон, подсоединенный к телефону, и теперь отчаянно давит на кнопку вызова секретарши.
— Не пугайтесь, Виктор Борисович, звонит ваш друг. Вы сами видели документы, которая собрала милиция?
Долгов, зажав рукой трубку, крикнул шепотом влетевшей в кабинет секретарше:
— Сарычеву звони срочно! Пусть узнает, откуда звонят. Быстро!
Секретарша исчезла, а Долгов также спокойно сказал в трубку:
— Дорогой мой друг, я так и не понял, какая папка? Какие документы? Что вы хотите? Говорите яснее.
— В той папке, как вам известно, были документы о подпольном цехе на трикотажной фабрике, о продаже квартир и машин, о подпольной деятельности некоторых председателей колхозов. Все это вы хорошо знаете. Но не знаете, что Ачкасов перед тем, как его убил сын председателя колхоза по вашему приказу, побывал в общежитии у Анохина, зама главного редактора вашей газеты, и они каждый документ сфотографировали. Пленка находится в комнате Анохина. Отпечатать он еще не успел. Вы меня поняли?
— Пока ничего не понял. Продолжайте…
— Часа через три Анохин будет в Уварово. Это все, что я вам хотел сказать…
— Послушайте, дружочек, теперь меня. Вот что я вам посоветую: поменьше читайте западных детективов, поменьше смотрите «Фантомасов» и подобный бред не будет приходить вам в голову. А лучше обратитесь сразу в психбольницу…
— Виктор Борисович, смотрите, как бы вы не проморгали на этот раз. Анохин завтра собирается с пленкой в Москву. До свиданья!
Перелыгин кинул трубку на аппарат и долго вытирал платком лоб, виски, шею, долго не мог унять дрожь внутри. «А, хрен с ним! Дело сделано!» — прошептал он, поднимаясь. Подошел к окну и стал с тоской смотреть на деревья городского сада, на красно-желтое неподвижное колесо обозрения, на карусели, качели…
А Виктор Борисович как только из трубки послышались короткие гудки, ткнул пальцем в кнопку, вызвал секретаршу и ласково глянул на нее:
— Ну?
— Выясняет.
— Хорошо. Попросите его, пожалуйста, ко мне. Как придет, пусть входит… и никого не пускайте…
Милиция была через дорогу, Сарычев должен скоро быть. Недолго выяснить откуда звонили. Скорее всего из Тамбова, из автомата не могли. В переговорном народу полно, все слышно. Провокация? Но зачем? Точно описал содержание папки. Знает! Тоже видел документы? Может, ловушка? Заставить нас охотиться за Анохиным? Зачем, зачем? Если пленка существует, материала хватит прокурору, чтоб на всю жизнь законопатить. Если не хуже… А если папку держали в руках, почему не пустили в ход, почему у Ачкасова осталась, Что-то не то? А что? А если не провокация? Если Анохин кому-то мешает? Сейчас он в Тамбове… видимо, возвращается. Съездил удачно, скоро из Уварово уберется… Пораньше надо было его отсюда изъять! Видел же, опасный человек. Недооценил. Можно было раньше присмотреть ему местечко в Тамбове. А теперь, если не наврал этот друг, видел он документы, сфотографировал их, отправит в Москву, дело плохо… За убийство ментов могут к стенке… Нужно обезвредить! А если провокация? Но человек тот знает о документах… А откуда он знает о сыне председателя? Анохин утром уехал в Тамбов, о смерти Ачкасова он не должен знать. А этот уверенно сказал о его убийстве. Откуда узнал?.. Не Сарычев ли ведет двойную игру? Но зачем? Он с нами крепко… Сам организовывал убийство… Но знаем об этом только трое: Сарычев, он да шофер, Зубанов Славик, сын председателя. Да и Зубанов не должен знать о его, Долгове, участии. Он имел дело только с Сарычевым. Только Сарычев знает, по чьей воле умер Ачкасов. Почему его так долго нет? Пора уж…
Долгов позвонил на трикотажную фабрику директору, предупредил, чтоб поскорее приводили в порядок документы, прятали концы, а то дело серьезный оборот принимает, приказал, чтоб подпольные склады, известные милиции, были очищены и заполнены ширпотребовской продукцией быстро, но без суеты, спокойно, чтоб никаких подозрений ни у кого не возникло. Обычная работа. Сейчас со станции придут несколько контейнеров, весь товар в Тамбов.
— Может, как обычно, машинами? — спросил директор. — И быстрее, и удобнее.
— Нет, нет. Контейнеры.
Долгов говорил своим обычным тихим спокойным голосом, таким тоном, каким в ласковые минуты обсуждают с женой, как провести выходной: в гости сходить или в кино. Виктор Борисович, когда был директором трикотажки, узнал однажды, что Климанов, будучи первым секретарем райкома, высказался о нем, что нравится ему, как Долгов руководит: не кричит, не ругается, спокойно, деловито, толково, и дела ладятся. В те времена Виктор Борисович, бывало, и глоткой брал. Но после такого мнения начальства, приказал себе ни в каких случаях не повышать голоса. Строгость нужна в поступках, а не в тоне. Страшнее всего для подчиненных было услышать от него ласковое: ты, дружочек, не дорос, видно, для такого дела, не получается у тебя, я посоветуюсь, мы подыщем тебе другое местечко, по силам. Это значит, что крест на тебе поставлен, уезжай из района, если расти по должности хочешь. Опустит в такую дыру, откуда никогда не выберешься, и забудет навсегда.
Поговорив с директором трикотажки, Виктор Борисович позвонил начальнику станции и сказал, что фабрика срочно просит платформу с контейнерами, затоварились.
— Что же они заявку не делают? По форме. Я сейчас гляну, на какое число они вагоны просили.
— Василий Петрович, дружочек, я не знал, что у вас никаких прорех не бывает. Ей-Богу, не знал… Затоварились люди. Сверх плана произвели, а мы за это казнить их будем. Так? Когда заказывали вагон, тогда и пришлете, а платформу с контейнерами прямо сейчас. Я пообещал, что через час будет. Неужели я не сдержу слова?
— Через час? Я думал раньше, — совсем иным тоном, бодро отозвался начальник станции. — Сделаем. Туда пятнадцать минут ходу.
— Я так и знал, что не откажете.
Не опуская трубки, Виктор Борисович набрал номер Сарычева. Он отозвался сразу.
— Выяснил?
— Я звонил вам, занято было…
— Откуда был звонок? — нетерпеливо перебил Долгов.
— Из Тамбова. Из кабинета ответственного секретаря газеты «Комсомольское знамя» Перелыгина Алексея Андреевича.
— Эге… Кто он? Что ты о нем знаешь?
— Пока ничего. Узнать?
— Не надо… Иди ко мне…
Долгов медленно опустил трубку на аппарат, задумался. Значит, Перелыгин… Ответсек газеты, где редактором будет Анохин. Анохин там печатался часто, значит, знакомы. Он сказал, что Анохин через три часа будет в Уварово. Долгов глянул на часы. Едет автобусом. Но он должен сегодня встречаться с секретарем комсомола. Побеседовал уже, так, что ли? Без четверти десять только. Откуда же ответсек знает? Значит, Анохин доложился ему, звонил! А если звонил, значит, знакомы близко, в таком случае Анохин мог ему рассказать о встрече с Ачкасовым. Ведь об этом знает только Анохин, больше никто. И сам Анохин фотографировал документы, предварительно просмотрев. Были-то они только вдвоем с Ачкасовым. Ачкасов умер сразу после встречи. Остался один Анохин. Только он мог рассказать о содержании папки, о пленке. Так, так, так… Но откуда Анохин узнал, что Ачкасов мертв, и даже убит сыном председателя колхоза. Не вяжется, не вяжется… Что-то иное… А если по дороге в Тамбов Анохину кто-то рассказал о смерти Ачкасова, и он вычислил? Могло быть такое? Нет, не могло. Можно было узнать о столкновении машины с мотоциклом, но кто мотоциклист, жив ли он, и кто вел самосвал, этого узнать было невозможно. Свидетелей не было. Сарычев говорит, свернулись быстро, мгновенно. Останавливалась какая-то машина, но милиция отправила ее сразу. Труп Ачкасова они не видели. Что-то не то здесь? Зачем Перелыгин звонил? Ненавидит Анохина. А если не Перелыгин звонил, а кто-то другой из его кабинета, просто воспользовался его телефоном?
Без стука вошел Сарычев: молодой, счастливый, беспечный, розовощекий. Он не заметил, что Долгов озабочен, непривычно хмур. Виктор Борисович быстро рассказал ему о звонке, о сомнениях.
— Так это я сказал Анохину, что пьяный Ачкасов вмазался в самосвал.
— Ты? — изумился Виктор Борисович. — Ах, ты Господи! Ты же вчера в Тамбове был. А я голову ломаю... Вместе ехали?
— На вокзале встретились, в Тамбове… Так я гляжу, чей-то он с лица сменился, когда я ему про Ачкасова…
— Погоди, — перебил его Долгов, набирая номер телефона: — Как ты, говоришь, ответсека по отчеству… Андреич? — и спросил в трубку: — Алексей Андреевич?
Перелыгин отозвался, и Виктор Борисович с облегчением узнал по голосу, что звонил ему только что именно он.
— Не узнали, Алексей Андреевич? Вы только что звонили мне… Я Виктор Борисович Долгов, из Уварово.
— Кому звонил? — запнулся, растерялся Перелыгин. Спина похолодела у него, а на лбу испарины выступила. — Не знаю я никакого Долгова…
Виктор Борисович почувствовал, как дрогнул его голос, и улыбнулся.
— Дружочек, милый, голоском-то владеть еще не умеете, хотя бы конфету за щеку положили, прежде чем звонить. И сейчас голосок дрожит. Видать, молод еще. Сколько вам лет?
— Двадцать пять, — неожиданно для себя послушно пролепетал Перелыгин.
— Понятно. Хочется редактором стать?
Алексей молчал. Трубка в руке его трепетала. Страстно хотелось ее бросить. Побитым взглядом глянул он на девушку, рабкора с завода «Электоприбор», которая показывала ему свою заметку.
— Станете вы редактором. И месяца не пройдет, как станете. Это я вам обещаю. А вы пообещайте забыть то, что вы мне сообщили, но прежде скажите, откуда вы взяли весь этот бред, в чьем воспаленном мозгу он родился?
— Погодите… сейчас… — Перелыгин опустил трубку и жалко улыбнулся девушке: — Серьезный разговор… подождите за дверью…
Девушка вышла, и Перелыгин поднял трубку.
— Анохин мне рассказал…
— Ясно… Пленочка, значит, существует?
— Зачем ему врать…
— Это да. Он ее в Москву хочет везти… А где она у него? Не сказал…
— В комнате, должно… Он думал, что так…
— Ну, все. Вам надо забыть об этом. Как станете редактором, мы еще встретимся не раз. Меня в обком работать приглашают. Это секрет пока, секрет, как другу говорю, ведь вы так представились… До скорой встречи!
Виктор Борисович усмехнулся, пробормотал задумчиво:
— Ну-ну… — и улыбнулся Сарычеву. — Приятно с толковым человеком познакомиться. Ты узнай о нем побольше. Пресса нам нужна, ох как нужна. Видать, хороший человек, был бы еще умный. Трусоват, жаль, трусоват… А может, и к лучшему…
— Вы от нас действительно собираетесь?..
— Зовут, дружочек. Надо… Тебе только двадцать семь, а мне уже тридцать пять. Надо, пока зовут… но не позвали бы нас в другое место? Часа через два с половиной в Уварово вернется Анохин. Поделился с одним, может, поделиться с другим. Нужно заставить его молчать и немедленно изъять пленку, немедленно. Как все это сделать?
— Как? Просто…
Сарычев с каким-то сладострастным удовлетворением узнал, что Анохин влез в эту историю и нетерпеливо ждал, когда Долгов даст команду убрать его. Уберет с большим удовольствием, чем Ачкасова. Тот был безвредный служака, дубоватый, а этот... этот... Даже в мыслях не хотелось Сарычеву связывать Анохина с Зиной. Этот хищник, рвет все из рук, прошляпишь, проглотит и не облизнется.
— Нет, трупов больше не надо. Шорох пойдет по городу. Как бы боком не вышло?
— Мы быстренько… никаких следов. Был и нету!
— Не подходит… розыск, шум… Думай! Сейчас нужно немедленно найти пленку. Сам поезжай, и тихо, тихо. Идеально, если никто не увидит тебя в общежитии.
— А ключи? Как открыть? Он же один живет.
— Да, — крякнул Виктор Борисович. — Без коменданта не обойтись. Пригрози, чтоб молчал. И действуй так, чтоб сам Анохин следов не заметил…
Сарычев все уголки облазил в комнате Анохина, десятки пленок просмотрел, но той, что нужно, не было. Каждую тряпку ощупал, а пузырек из-под туши открутить не догадался. Хотя держал в руках. Взял, переставил, когда ящик стола выдвинул.
10. Мать
Анохин не собирался заезжать к матери по дороге из Тамбова. Но чем ближе подъезжал автобус к повороту на Ржаксу, тем сильнее становилось желание забежать на часок в деревню, увидеть мать, рассказать, похвастаться, что его переводят в Тамбов, и не просто в областную газету, об этом он еще мог мечтать, а сразу главным редактором. Такое он не мог представить себе даже в самых смелых мечтах. Иногда, по вечерам, думая о будущем, он видел себя в Москве известным журналистом, сотрудником центральной газеты. Как он переберется в столицу, не знал, считал, что проложит туда дорогу пером, своими статьями, очерками, а не через должность.
Анохин понимал, что, чтобы сделать карьеру, нужен человек, который должен тебя толкать, рекомендовать, пробивать дорогу. Таким человеком мог быть в Уварово только первый секретарь райкома партии. Но Анохин не обладал умением подольститься, услужить начальству, каким-то образом войти в доверие и поддерживать это доверие постоянно. Ему не то, чтобы было противно это, просто он никогда не задумывался над этим и не собирался делать, старался хорошо работать, писать много и писать так, чтобы читатель не скользил глазами по строчкам его статьи, а переживал то, что он описывал. Когда так получалось, он с удовольствием слушал похвалы знакомых и коллег. Его уже опасались в Уварово, поговаривали, что лучше не попадаться к нему на перо, пропесочит, выставит на посмешище, потом моргай.
Когда показался поворот на Ржаксу, Анохин окончательно решил забежать к матери, порадовать ее. Она должна быть дома. Два урока сегодняшних уже провела. Теперь, скорее всего, на огороде полет картошку, если, конечно, не задержалась в школе. Анохин выскочил из автобуса, спустился по тропинке с грейдера к придорожной лесопосадке, прошел ее насквозь, вдыхая горьковатый запах листьев и травы и направился по проселочной дороге, тянувшейся по зеленому полю ржи.
Вдали виднелись крыши деревни среди зелени тополей и яблонь. Ветерок теплым дуновением шелестел молодыми стеблями ржи. Невидимый жаворонок сладко, томительно заливался где-то в вышине, и казалось, что сам воздух поет, исходит счастьем, покоем, радостью. Хотелось закричать, запеть, броситься в рожь, упасть на спину. Анохин не сдержался бы, запел, так его распирало, но сзади слышались спокойные голоса знакомых женщин-попутчиц. Подумалось, что они не поймут его, примут за сумасшедшего или пьяного.
На двери веранды висел замок. Анохин прошел мимо порога, двинулся через двор по тропинке на огород. Из-за пышных молодых кустов вишен не видно — там ли мать или нет. Он открыл калитку, прошел сквозь кусты и увидел мать в белом платочке, чтоб голову не напекло, в сиреневом халате, который он привез ей из Москвы. Услышав стук калитки, мать, Ольга Михайловна, подняла голову, оперлась на тяпку, которой полола картошку, взглянула в его сторону и заговорила тревожно и радостно одновременно:
— Ой-ой, Коля! Чтой-то ты среди недели… Случилось что?
— Случилось, случилось! — сиял он, подходя. Обнял, хотя виделись всего три дня назад, в воскресенье. — Я из Тамбова. Заявление с Зиной подали. И еще одна новость…— отстранился он, глядя на мать. — Ни за что не угадаешь!
— Ну, говори, говори!
— Мне предложили стать главным редактором «Комсомольского знамени»! — выпалил он.
— Тебе? Главным! Брось?!
— Да! За этим и ездил в Тамбов. Уже собеседование прошел. Анкеты дали заполнять. В Москве утверждать будут!
— Не сорвется?
— Причин нет.
— Ой, смотри, захотят, найдут… Стукнет кто-нибудь о чем-то!
— Стучать не о чем. Я чист, как ангел! Да и зачем?.. Все неожиданно так произошло. Сразу налетело и закрутилось. Я даже не знал, что главный уходит… Омрачает немного: Алеша рвался на это место, не взяли его. А он, видно, очень хотел…
— А говоришь, некому стучать!
— Ну, мам, мы же с ним друзья! Как ты могла подумать об этом! Я тебе сколько о нем рассказывал. Алеша — замечательный парень!
— Хочешь — не хочешь, а ты ему дорогу перешел. Когда речь о карьере идет, через друзей запросто перешагивают. Сколько таких случаев было…
— Мам, ты же знаешь, никогда я не думал о карьере, о кресле главного. И Алешка знает, что не думал я. Не, мам, не говори мне больше об этом. Не отравляй душу… Я его сразу сделаю своим замом. Я уж сказал ему об этом. Он доволен.
— Ох, и наивный ты у меня. Сколько тебе шишек еще набивать! Ой-ей-ей! Помни только всегда: область это не район. В Уварово все видно, каждый шаг на виду, поэтому и народ чище, побаивается огласки, честь блюдет. А в области народу больше, и люди коварней…. Что же мы тут стоим? Пошли, я тебя покормлю. — Они потихоньку двинулись к меже, переступая через невысокие картофельные кусты. — Тебе ведь еще на работу надо попасть, да? А то, может, ночуешь и утречком с поездом?
— Нет, я через полчасика двину на вокзал. Надо к поезду успеть… Я просто на минутку забежал, тебя обрадовать!
— Ну, смотри.
— Здрасте, Николай Игнатьевич! Мать проведать решил?
Анохин увидел в соседском саду тетю Любаньку, пожилую женщину с круглым сморщенным лицом. С тех пор, как он вернулся из Москвы и стал работать в газете, соседка начала звать его по отчеству. Сначала он смущался. Анохин поздоровался, сказал, что по пути из Тамбова заглянул, а мать не выдержала, похвасталась:
— Его на работу в Тамбов переводят, главным в комсомольскую газету!
— Я всегда говорила, сын у тебя умница. Далеко пойдет. Он еще в Москву на белом коне въедет, увидишь!
— Дожить бы…
Мать была у Николая не старая. В прошлом году пятьдесят лет отметили. Вырастила Ольга Михайловна сына одна, выучила. Отец Николая, Игнат Николаевич, работал в Сибири, строил мосты через таежные реки. Ольга первое время моталась по тайге вместе с молодым мужем, а потом, когда родился Николай, не смогла больше жить кочевой жизнью, вернулась домой, устроилась в школу учительницей. Игнат помогал ей деньгами, но виделись они редко. Из такой дали не наездишься. А года через три Игнат сообщил ей, что собирается жениться на своей секретарше. Больше Оля не видела бывшего мужа, доходили слухи до нее, что Игнат Николаевич стал большим начальником в Сибири. Деньги от него на воспитание сына шли регулярно, пока Коля не окончил университет. Но встречаться они никогда не встречались, и Николай не знал, как выглядит его отец. Подспудная обида на отца за то, что тот кинул их семью, жила в нем всегда. Всю свою жизнь Ольга Михайловна отдала сыну, и теперь надеялась, что он будет покоить ее старость.
В доме мать сказала с сожалением, имея в виду соседку:
— Ляпнула я ей, а зря… Через час вся деревня знать будет.
— Ну и пусть говорят, не о плохом же…
— Как бы не сглазили… Надо было дождаться утвержденья…
11. Арест
Сарычев придумал, как быть с Анохиным. Придумал, обрадовался своей изобретательности. Да, после такой истории Зина будет вспоминать об Анохине только с отвращением. Выкинет из головы навсегда.
Секретарь райкома Долгов выслушал его, улыбнулся, кивнул одобрительно: хороший план, дерзкий. Вдвоем они обсудили детали, обговорили, кого привлечь, чтоб было шито-крыто.
И вот на конечной остановке в центре Уварово ждет автобус из Тамбова Юрка Кулешов, шофер Долгова. Секретарская «Волга» стоит за углом. Неподалеку от нее крутятся с разных сторон машины Зубанов Славик, то самый шофер-пьяница, сын председателя Ждановского колхоза, который убил Ачкасова, и Мишка Семенцов, по кличке Сын вселенной. Их задача, как только Анохин сядет в секретарскую «Волгу» на заднее сиденье, быстро прыгнуть к нему с двух сторон и зажать. Чтобы Николай не сел спереди, на сиденье поставили большую сумку.
Показался, покачиваясь на ухабах тамбовский автобус. Юрка Кулешов заволновался, вытер лоб, стал вглядываться в открытые окна автобуса. Тот остановился, обдал пылью Юрку. Двери пискнули, и на землю в пыль, стали выходить по ступеням, выпрыгивать люди. Анохина не видно. Где же он?
Последняя женщина, осторожно вытягивая ногу к земле, задом спустилась на землю, вытащила одну за другой из салона две сумки. А Анохина нет! Куда он делся? Может, на другом автобусе едет. Задержался в Тамбове?.. Следующий автобус придет только через два часа.
Юрка мотнулся в райком, доложил Долгову, который с нетерпением ждал вестей, торчал у окна. Договорились, что Юрка Кулешов проедет с Анохиным мимо райкома, чтобы Долгов увидел, что все в порядке.
Сарычев для контроля наблюдал за ходом операции издали, нервничал. Он видел, что Юрка подошел к «Волге» один, сказал что-то своим ребятам и один на машине помчался в райком. Сарычев следом. Возбужденный ворвался в кабинет секретаря.
— Спокойно, — глянул на него Долгов. — Никуда он от нас не уйдет… Ждите следующий автобус.
— А если он поездом? — спросил Сарычев.
Долгов глянул на часы, крякнул, выругался.
— Твою мать!.. Никого еще из милиции подключить нельзя! Слушок пойдет… Ладно. Ребята пусть ждут автобус, а ты следи за редакцией. Если он приедет поездом, то непременно заглянет в редакцию, чтобы похвастаться…
До прихода автобуса было еще полтора часа. Чтобы не торчать не жаре все это время, Мишка Сын вселенной уговорил Юрку мотнуться на полчасика на Ворону, поплавать. Они захватили пивка и рванули к реке.
Возвращались с реки заблаговременно, катили потихоньку разомлевшие. Теплый ветер влетал в открытое окно машины, трепал волосы.
— Смотри, Анохин! — ахнул Сын вселенной.
И действительно, мимо гастронома по направлению к редакции шел Анохин, шел весело, помахивая портфелем.
— Подъедем, выскакивайте из машины и стойте спокойно. Не спугните! — выдохнул Юрка и газанул, догнал Анохина, остановился.
— Николай Игнатьевич, — высунулся Кулешов из окна, — вас Виктор Борисович зовет к себе!
Мишка со Славиком спокойно вылезли из «Волги», как бы уступая место Анохину.
— Передай ему, на секундочку загляну в редакцию и тут же приду! — весело ответил Анохин.
— Нет, он сейчас ждет. Меня послал… Редакция никуда не денется. Ему некогда ждать…
Анохин секунду подумал и подошел к машине, взялся за ручку передней двери. Но увидел сумку на сиденье, открыл заднюю дверь и влез в салон. Тотчас же в «Волгу» с двух сторон ринулись Славик с Мишкой. Они грубо стиснули, придавили Анохина. Мишка сунул ему на колени портфель. Анохин недовольно взглянул на него, не понимая, зачем они садятся, почему так грубы и наглы?
— Сиди! Не трепыхайся! — ткнул кулаком в бок Анохина Мишка Сын вселенной.
«Волга» рванулась, развернулась и запылила вниз к Вороне, к лесу.
— Вы куда? — растерялся, недоуменно спросил Анохин.
— Туда!.. Сиди, не пекай! — сжал его локоть Мишка.
Николай дернулся, попытался освободиться, оттолкнуть Мишку, заорал Юрке:
— А ну, остановись!
Мишка изо всей силы больно врезал ему в бок:
— Не дергайся!
Славик вытащил финку, придавил к животу Анохина и спокойно сказал:
— Будешь дергаться, будет дырка!
Анохин взглянул на него и похолодел, узнал сына председателя Ждановского колхоза, который убил Ачкасова.
«Зарежут! Сейчас увезут в лес и зарежут! — мелькнуло в голове. — Как они узнали, что Ачкасов был у меня?».
На мгновенье Анохин онемел, парализован был этой мыслью, не знал, что делать, как выпутаться? «Волга» неслась по бетонному мосту через Ворону. Два бандита крепко сжимали его с двух сторон: не шелохнуться. Из машины не вырваться, как ни бейся. Если понадобиться, они не дрогнут, прикончат тут же в машине. «Волга» свернула в лес и мягко покатила по песчаной дороге вглубь.
На берегу реки лежали люди, загорали. Несколько человек играли в волейбол, встав в круг. Плескались в реке ребятишки. Анохин вдруг заорал в сторону реки что есть сил, чтобы привлечь внимание, но Мишка сразу врезал ему ребром ладони по горлу. Анохин захлебнулся, заикал, открыв рот. Никто у реки не обратил внимания на его крик. Шумно было там.
Дорога отдалилась от Вороны, стало безлюдно. Одни деревья мелькали. Машина шла неспешно. Не разгонишься по колдобинам и ямам. Забирались все глубже и глубже в лес. Проехали мимо забора пионерского лагеря и минуты через три остановились около ворот в высоком сплошном заборе из почерневших досок. Ворота быстро открыл худой парень в майке. Анохин узнал его. Это был Васька Ледовских, официант, отравивший, по словам Ачкасова, начальника милиции. Неподалеку от ворот виднелся деревянный дом.
Славик взял портфель с колен Анохина и кольнул его ножом в бок:
— Вылазь!
Мишка ухватил его за руку, выволок из машины, швырнул на землю и дважды с размаху ударил ногой по ребрам, приговаривая:
— Не ори! Не ори!
Анохин скрючился от боли. Мишка ухватил его за руку, вывернул ее назад, приподнял, поставил на ноги и повел впереди себя к дому. Николай, согнувшись, быстро перебирал ногами, семенил, чтоб не упасть. В глазах у него было темно от боли. Он задыхался, захлебывался, хватал ртом воздух, хотел и не мог закричать, горло сжала спазма, бок ныл так, словно в него всадили нож. У порога дома он упал. Мишка снова пнул его так, что Анохин на мгновенье потерял сознание. И ему стало все безразлично. Пусть убивают здесь, на пороге. Он лежал, не шевелился. Дышал тяжело, не глядел на своих мучителей, слышал, как кто-то из них повернул ключ в двери, открыл дверь, услышал окрик:
— Вставай, гад!
Николай не шевелился, думал: убивайте, сволочи, здесь! Но бить его не стали. Ухватили вдвоем за руки и потащили волоком по ступеням на крыльцо, потом втянули в какую-то полутемную комнату, бросили, оставили на полу.
— Свяжем? — спросил Мишка.
— На хрена. Куда он отсюда денется…
— Орать начнет…
— Пусть орет, кто его здесь услышит.
Они закрыли дверь, стало темно. Щелкнул замок. Значит, убивать пока не собираются, решил Анохин. Должно быть, кого-то ждут. Кого? Может, самого Долгова? То, что именно секретарь организовал его похищение, не было сомнения. Привезли-то на его машине. Без участия Долгова Юрка Кулешов никогда бы не решился использовать секретарскую машину для такого дела. Может, не сам Долгов, а кто-нибудь из его сотрапов приедет, будет требовать отдать пленку. Откуда же они о ней узнали? Может быть, Ачкасова не сразу убили? Может быть, сначала наиздевались над ним, выпытали и убрали, инсценировав столкновение с машиной. Не могли они больше никак узнать, что документы сфотографированы. Знали ведь только они вдвоем… Как же вдвоем? А Алешка? Ведь он же рассказал Алешке!..
Анохин обрадовался этой мысли. Как здорово он сделал, что рассказал. «Если я вдруг исчезну, Алешка сразу поймет — чьих рук дело и забьет тревогу. Ах, негодяи, просчитались вы на этот раз!» — ликовал Николай.
Вдруг вспомнилось, как Перелыгин воспринял его рассказ, но успокоил себя: ничего, он, конечно, испугался тогда, но не до такой же степени, чтоб молчать, когда исчезнет друг. Он непременно заявит в милицию, непременно…
Если они знают о пленке и будут требовать отдать им, что тогда делать? Молчать? Прикинуться, что не знает ничего о пленке? Начнут пытать, истязать, выдержит ли?.. Анохин шевельнулся, чтобы удобнее было лежать на прохладном полу, застонал от боли, стал ощупывать бок. Прикоснуться к нему было ужасно больно… Зверь! — подумал Анохин о Мишке. Как же его зовут алкаши? Ах да, Сын вселенной… Так он же сын директора трикотажной фабрики! Вот у кого я в руках… Дача, должно быть, директора… Почему-то от этой мысли стало легче. Убить не должны. Если пленку требовать будут, отдам, черт с ней, я и так помню о чем документы. Перееду в Тамбов, раскопаю, пересажаю всех. Ответят и за Ачкасова, и за пинки. За все, сволочи, ответят!.. А нельзя ли отсюда удрать?..
Анохин приподнялся, охая тихонько, сел, нащупал деревянную стену. Придерживаясь за нее, поднялся и начал шарить руками по стене, искать щели, дверь. Стены были из досок, подогнаны плотно, ни щелочки. Свет нигде не пробивается. Он медленно ходил вдоль стен, водил ладонями по доскам, давил на них, пробуя на прочность. Комнатка была небольшой. Дверь крепкая, не шелохнется, и замок надежный. Доски стен, видно, двойные, потому и щелей нет. Потолок высокий, рукой не достать. Комната была совершенно пустая. Ни гвоздика, ни клочка бумаги на полу.
Обследовав ее, Анохин остановился у двери, замер, прислушиваясь. Тишина, как в гробу. Аж в ушах звенит. Он навалился на дверь, пробуя ее на прочность. Она даже не шевельнулась… Уехали они или на улице? Почему так тихо? Анохин ударил плечом в дверь. Показалось, что во всем теле отдалась боль. В доме тихо по-прежнему. Никто не откликнулся на удар в дверь. Может, уехали, и дом совершенно пуст. Выбить дверь, выбраться в окно и удрать, затеплилась надежда. Анохин отступил от двери и ударил в нее ногой, целясь в середину, туда, где должен быть замок. Дверь загудела. Он ударил еще раз, еще. Бил, бил, бил. Дверь гудела, раскачивалась. Вдруг он услышал злобный крик, скрежет ключа. Дверь распахнулась, появился Мишка с короткой дубинкой в руке. Сзади него стоял Славик со своей финкой.
— Успокоить? — показал дубинку Мишка. — Я быстро… Сиди смирно! Если б хотели тебя пришить, давно б уж в Вороне плавал. Сиди смирно, если хочешь, чтоб ребра были целы! Понял?
Он захлопнул дверь и снова запер на замок. Анохин сел в темноте на пол, привалился спиной к стене. Значит, убивать не собираются. Что же они задумали? Это точно кого-то из главарей ждут. Что они требовать будут? Чтоб молчал? Запугивать будут? Хорошо, дам я обещание молчать, разве они успокоятся тогда, поверят? Какую гарантию будут требовать, чтоб я молчал?
Так Анохин сидел, размышлял долго, казалось вечность. Его не беспокоили, было тихо, и он задремал неожиданно для себя.
12. Насилие
Проснулся от шума, стука двери, зажмурился от яркого света. На него светили фонариком.
— Вставай, выходи! — голос Мишки.
Анохин сидел, прикрывал ладонью глаза от света, не шевелился. Тогда кто-то ухватил его за шиворот, рванул вверх, поставил на ноги, развернул и, пиная коленом под зад, вытолкал из комнаты, выволок на улицу и потащил по песчаной дорожке меж деревьев к воротам, за которыми серела в темноте райкомовская «Волга». Анохин, увидев ее, перестал сопротивляться, пошел сам. На улице было темно, звездно. Его не отпускали, держали за шиворот и за локоть. Возле машины вдруг швырнули на землю, выкрутили руки назад, связали веревкой и заткнули рот трепкой. И только потом втолкнули в машину на заднее сиденье, снова сжали с двух сторон, как в прошлый раз. Анохин понял, что действующие лица те же. За рулем Юрка, а рядом Мишка со Славиком.
Ехали по лесу назад, в город. Значит, где-то там будут допрашивать. Почему не здесь, ведь в лесу удобней, никто не помешает. Чего они задумали? Проехали бетонный мост через Ворону, быстро поднялись в гору. Центр был почти безлюден, значит, уже заполночь. Быстро проскочили через весь город к железнодорожной станции, проехали переезд, постукивая, покачиваясь на рельсах, свернули к вокзалу, но не остановились, покатили дальше, запетляли по узким улочкам меж заборов частных домов, остановились возле дороги, которая вела к общежитию сахарного завода, где жил Анохин. Узкая дорога шла через сад вдоль густой лесопосадки.
Мишка со Славиком, опустив стекла у машины, с минуту прислушивались к чему-то. Было тихо. Они потихоньку вылезли из машины, стараясь не шуметь, вытащили Анохина и, подхватив его под руки, повели по дороге вдоль лесопосадки. Шли, прислушиваясь, видимо, опасались встречных людей.
Анохин знал, что скоро закончится вторая смена на маслозаводе, где работали почти одни женщины. Они пойдут в общежитие, которое только считалось сахзаводским, жили в нем рабочие разных предприятий… «Зачем они тащат меня в общежитие? — мучился Анохин. — Что им там надо? Хотят, чтоб я показал им, где пленку спрятал? Почему же ни разу не спросили о ней?».
Посреди пути бандиты сдернули Анохина с дороги, затащили в кусты, положили на землю и придавили к траве…». Зарежут сейчас, чтоб все думали, что убили его по дороге домой!» — ужасом пронзило голову, и Анохин дернул руками, пытаясь вырваться, забился в траве. Его придавили коленом, вдавили рукой в лицо в землю. Он задохнулся.
— Лежи! — злобно зашипел Мишка. — Держи его, не выпускай! — буркнул он Славику. — А я буду смотреть.
Они теперь держали Николая вдвоем. Юрка Кулешов, видно, остался в машине.
Значит, и здесь убивать не собираются! Что же они затеяли? Может, кто-то идет, хотят пропустить, а потом…
Слышно было, как Мишка трещит сухими сучьями, отходит в сторону. Заговорил с кем-то шепотом. Значит, тут еще кто-то. Что же они затеяли? — трепыхалось, рвалось в груди сердце. Анохин затих, стал прислушиваться, надеясь понять, о чем они шепчутся. Комар нудно зудел над ухом. Славик по-прежнему давил ему в спину коленом, а рукой держал за волосы, прижимал голову к земле. Связанные руки начали болеть, щипать, видно, он содрал кожу веревкой, когда рванулся, попытался освободиться. Мишка Сын вселенной и незнакомец замолчали, притихли, и потом донесся непонятный шепот:
— Два раза!
И опять тишина. Потом громкий шепот Мишки в их сторону:
— Славик, держи его крепче, чтоб не трепыхался! Идут!
Издалека донесся негромкий разговор. Кто-то шел по дороге. Голоса приближались. Можно было различить, что идут, по крайней мере, две женщины и один мужчина. Чем ближе они подходили, тем сильнее Славик вдавливал Анохина в землю. Николай задыхался. Когда голоса поравнялись с ними, Анохин попытался рвануться, дернул ногой, зашелестел, но Славик скрутил его так, что он чуть не потерял сознание. Голоса замерли на мгновенье.
— Кто-то там есть! — сказала женщина тревожно.
— Крыса, должно, — успокоил ее мужчина. — Их развелось — страсть!
Голоса стали удаляться.
— Если еще раз дернешься, я те горло перережу! — прошипел Славик.
И затих, прислушиваясь.
— Один! — донесся взволнованный шепот Мишки. — Приготовься, действуй!
— В случае чего, подстрахуй!
— Не дрейф, я на посту!.. Смотри не увлекись, не кончь!
Анохин ничего не понимал, не догадывался, что они хотят сделать. Донеслись шаги, потрескивание сучьев и все замерло. Снова издали послышались негромкие женские голоса. Должно быть девчата возвращались с маслозавода. И снова по мере приближения голосов Славик сильнее вдавливал Николая в землю. Голоса ближе, ближе, и вдруг в тишине резкий треск сучьев, вскрик, визг! Кто-то быстро пронесся мимо по дороге, а из кустов неподалеку слышался шум борьбы, вскрики, хрипы, треск одежды, злобное рычание:
— Лежи, сука!
Совсем рядом раздались шаги и громкий шепот Мишки:
— Давай, развязывай! Быстрей!
Славик отпустил Анохина и начал, суетясь, развязывать узел веревки на его руках.
— Быстрее, быстрее!
— Затянул, гад!.. Все, поддался…
— Эй, кто там! — заорал вдруг Мишка во все горло. — В чем дело?
— Помо… могите! — раздался тонкий писк оттуда, где слышалась борьба.
— Славик, окружай! — снова заорал Мишка и бросился сквозь кусты лесопосадки на голос девушки.
Кто-то треща сучьями пролетел мимо.
— Вот он! — заорал над ухом Анохина Славик. — Сюда! Сюда! Попался, гад! Я держу его, сюда!..
— Бей его, сволочь! Бей! Держи! — шумел, бесновался Мишка.
Он подлетел к Анохину, приподнял его за грудки и ударил кулаком в нос, потом в глаз. Кровь из носа брызнула на сорочку, на галстук.
Вдвоем они подтащили Николая к рыдавшей в кустах девчонке. Она успела встать и придерживала рукой разорванное платье, прикрывала ноги. Мишка держал Анохина за руки. Николай, отупевший от боли, чувствовал, как кровь текла из носа на кляп, торчащий из его рта. Дышать было почти нельзя расплющенным носом. Он задыхался, еле сдерживался, чтобы не потерять сознание. Он смутно слышал, как Славик говорил девчонке.
— Не реви! Попался он, гад! Сейчас мы его, падлу, на части разорвем!.. Не бойся теперь… Сейчас мы его в милицию…
— Я не… не хочу в милицию… домой… — всхлипывала, рыдала девушка.
— Нет, этот, гад, пусть ответит! Ишь, повадился, тварь, девок портить!
— Домой… домой…
— Как ты себя чувствуешь? Может, в больницу?
— Нет, нет… домой…
— Что случилось? — подлетел Васька Ледовских.
— Девку изнасиловал, гад!.. Мы вовремя подоспели, схватили прямо на ней!
— В милицию его, чего канителиться! — быстро проговорил Васька Ледовских и подхватил под руку Анохина.
Мишка вцепился с другой стороны. Кляп изо рта не вынимали, видно, боялись, что Анохин при девчонке станет отпираться. Славик вел следом за ними всхлипывающую девчонку. Вышли на узкую улицу со сплошными заборами частных домов.
— Смотрите, машина! — воскликнул Васька.
Анохин догадался, что это он насиловал девчонку.
Тускло горевшие фары машины приближались к ним. У Анохина затеплилась надежда: вдруг милиция. Васька замахал рукой, останавливая машину, а Мишка вырвал изо рта у Анохина кляп и отшвырнул в сторону. Николай шевельнул языком. Он был, как деревянный, совсем не слушался. Машина остановилась. Это была та же самая «Волга» с Юркой Кулешовым.
— Насильника поймали! — весело крикнул ему Васька.
Анохина втолкнули на заднее сиденье, а девушку Славик усадил возле водителя. Васька Ледовских весело и бойко проговорил:
— А мне места нету… Да, вы и сами справитесь. Я ж ничего не видел!
«Волга» рванула, запетляла по узеньким переулкам, пробираясь к шоссе. Девушка молча всхлипывала изредка. Анохин отдышался и хрипло и быстро заговорил:
— Девушка, не верьте им… Это… — Он не договорил.
Мишка резко врезал ему локтем в бок и зажал рукой рот.
— Молчи, тварь, а то разорвем на части!
Анохин мычал, давился, а девушка перестала всхлипывать. Голова ее, склоненная на грудь, чернела впереди при свете мелькающих мимо фонарей.
13. Убийство
Сарычев ждал звонка из милиции, с нетерпением ждал, измучился, измаялся: вдруг сорвется, вдруг что-то помешает, ведь может такое случиться, что девки в эту ночь будут возвращаться только большими группами. Тогда что делать? Сарычев стоял в темноте у открытого окна, слушал, как надрываются лягушки в небольшом озерке неподалеку, как щелкает, тренькает соловей, как смеются на улице за забором подростки. Телефонный звонок разорвал тишину. Сарычев впотьмах бросился к тумбочке с телефоном, опрокинул стул. Нашарил телефон, схватил трубку, услышал:
— Товарищ капитан, сексуального маньяка поймали!
— Еду! — вскрикнул он и кинул трубку.
Анохина и девушку привели в милицию в одну комнату. В голове у Николая вертелось одно: как объяснить девушке, что не он насиловал, чтобы она поверила? Как улучить момент, чтобы его сразу не вырубили? Конопатая рыжеволосая девушка не поднимала головы, придерживала рукой порванное платье, закрывала выпачканные в земле колени. Едва их усадили на стулья вдали друг от друга, объяснив дежурному, что насильника поймали, надо срочно вызвать начальника милиции, как Анохин заговорил громко и быстро:
— Девушка, я из газеты, я узнал о махинациях директора фабрики и секретаря райкома. Меня хотят посадить…
— Заткнись, гад! — ударил его кулаком под дых Мишка, но промахнулся, попал чуть ниже, в живот, и Анохин закричал, показал девушке свои руки.
— Я был связан в кустах… Видишь, руки… И галстук, галстук… На насильнике галстука не было!
Кожа на кистях рук Николая была сорвана веревкой, окровавлена.
— Заткнись! — снова ударил Мишка Анохина.
К нему на помощь бросился Славик. Они пытались вырубить Николая, били его, хватали за лицо руками.
Но он мотал головой, кричал:
— Это они! Они!
Дежурный милиционер, крупный, полноватый и мешковатый парень, ничего не понимал, пытался остановить избиение. Мишка со Славиком вытащили Анохина в коридор, попинали на полу. Милиционер еле отбил у них Николая, который совершенно перестал сопротивляться, лежал на полу трупом, еле дышал. Боли он уже почти не ощущал. Все тело было сплошная боль.
— Оставьте его, убьете! — кричал милиционер, отталкивая их от неподвижного Анохина.
Он помог Николаю подняться, усадил в обшарпанное деревянное кресло у стены.
— Его убить мало! — выкрикнул Мишка и вытер пот.
Дежурный вызвал двух милиционеров и указал на Анохина:
— Отведите его в изолятор!
Анохина увели, а дежурный вместе с Мишкой и Славиком вернулись в комнату, где сидела, дрожа, испуганная насмерть, изнасилованная девушка, сидела она с одним желанием: поскорее бы все кончилось и домой. Больше всего ее мучило то, что теперь все Уварово узнает о ее позоре. Не скроешь, если будет суд. И до деревни сразу дойдет. Стыдно, как стыдно! На улицу не выйдешь, на глаза никому не покажешься! Как только дежурный милиционер вернулся в комнату, она, жалобно всхлипывая, заговорила, забормотала:
— Отпустите меня… я пойду… отпустите…
— Куда же ты пойдешь? Автобусы давно не ходят. Мы тебя отвезем, — с сочувствием ответил дежурный.
— Отвезите, дяденька… мне больше ничего не надо… дяденька…
— Какой я тебе дяденька, — улыбнулся дежурный. Ему на вид тридцати лет не было. — Сейчас оформим заявление…
— Не надо заявлений… я не заявляю… — по-прежнему жалобно бормотала девушка.
— Как это ты не заявляешь! — громко сказал, входя в комнату, Сарычев. — Если мы будем бандитам все прощать, то их столько разведется… Нет, прощать мы не будем!
Девушка быстро вскинула на него голову, взглянула и тут же снова опустила. Сарычев сразу определил, что она из деревни, забитая, перепуганная. Такой что угодно внушить можно. Он решил, что повезло ребятам, что нарвались на такую.
— Успокойся, успокойся, — продолжил он, стараясь говорить доброжелательно. — Идем ко мне в кабинет, сейчас все запишем…
На Мишку со Славиком он не обращал внимания, и они молчали.
— Я не хочу заявления, — упрямо повторила девушка.
— Почему так? — сделал удивленное лицо Сарычев. — Совершено преступление!
— Не хочу, — тихо, но твердо, прошептала девушка.
— Как тебя зовут? — совсем ласково спросил Сарычев, начиная понимать, что ошибся, решив, что им повезло с девчонкой. Забитая, но упрямая. Упрется, не напишет заявления, и все сорвется.
— Валя…
— Ты, Валюша, не бойся. Он теперь не достанет тебя. Решетки у нас крепкие… А вы кто такие? — Сарычев сделал вид, что только что обратил внимание на Мишку и Славика. — Это вы задержали преступника?
— Да, да, мы! — дружно закивали бандиты.
— Ну что, товарищ лейтенант, — обратился Сарычев к дежурному, — совершено преступление, опросите свидетелей, потерпевшую, оформите все, как положено. А Валя завтра успокоится и решит — писать ей или не писать заявления. Правильно, Валюша?
Девушка не ответила, только всхлипнула.
— Так, что произошло и как? — спросил Сарычев.
Валя молчала, опустив голову. Ее рыжие волосы закрывали лицо. Сидела она, сжав колени, натянув на них грязное порванное платье, скукожившись, маленькая, жалкая. Сарычев, глядя на нее, почувствовал раздражение. «Дура недоделанная! Ее изнасиловали, а она, сука, молчит!». Он перевел взгляд на Мишку, и тот заговорил:
— Идем мы, эта, со Славиком по лесопосадке, слышим шум, крик, а там этот хмырь, — показал он рукой на дверь. — Мы туда, а он, эта, на ней… услышал и удирать! Ну, мы его, эта, скрутили! И вот привезли, — указал он рукой на девчонку. — Жалко ее!
— Конечно, жалко! А кому не жалко! Уничтожать бы таких сволочей на месте без суда и следствия, — выругался Сарычев. — Ладно, вы все запишите подробно, в деталях… Валя, а ты откуда возвращалась? Или с ним была?
— Мы с работы шли, — буркнула Валя, не поднимая головы.
— Значит, ты не одна была? Кто еще с тобой был? Куда он делся? Или ты с ним шла с работы?
— Мы с Ленкой шли, с маслозавода… С Ленкой Лагиной…
— Понятно. Ты и Елена Лагина возвращались с работы с маслозавода. Записывайте, товарищ лейтенант!
— Отчество твоё как и фамилия? — спросил дежурный.
— Покровская Валентина Николаевна…
— Итак, шли вы с работы… Дальше?
— Идем… А тут из кустов кто-то… как прыгнет… схватил меня… — Девушка снова зарыдала.
Сарычев подошел к ней, похлопал по спине ладонью, успокаивая.
— Ладно, ладно, все позади, не реви!.. А Ленка куда делась?
— Убежала…
— Понятно… Записывай, — кивнул он дежурному. — Он схватил тебя, повалил, платье порвал? Так?
Девушка рыдала и кивала, всхлипывала:
— Ду-шил… и-и… насиль… ничал...
— Душил?! — воскликнул радостно Сарычев. — Это важная деталь! — повернулся он к лейтенанту. — Отметьте это непременно. Важнейшая деталь!.. Ты у него не первая жертва… Слышала, наверно, как какой-то подонок месяц назад также девчонку изнасиловал и задушил. Все Уварово шумело… Тоже так выскочил из кустов, схватил, изнасиловал и задушил! Ах, сволочь, попался, наконец!
— Он говорит… не он… подстроили… — всхлипнула Валя. — И он с галстуком, а у того не было. Я видела…
— Кто не он? Кто подстроил?
— Ну, тот…
— Товарищ капитан, — пояснил дежурный лейтенант, — насильник-то зам редактора нашей газеты Анохин. Вы знать его должны…
— Да-а! Анохин! — воскликнул Сарычев, стараясь показаться пораженным. — Не верю! В такое поверить невозможно!
— Он говорил… тут… чего-то он раскопал на фабрике, вот его и хотят посадить! — Дежурный выразительно показал глазами Сарычеву в сторону Мишки, намекая, что тот сынок директора фабрики.
«Накладочка! — похолодел Сарычев. — Надо было на насилие Мишку направить, а Васька здесь бы справился. Ай-яй-яй!.. Болваны! — выругался он про себя. — Зачем же они его в дежурку тащили? Надо было сразу в изолятор!».
— Ничего, завтра разберемся! — бодро ответил он лейтенанту. — Ты видел хоть одного преступника, который бы сразу признался, а не валил на других? Все они крутиться начинают, ходы искать, версии придумывать… А этот не дурак, еще поводит нас за нос… Ты записал все? Как появились эти ребята, как он убегал, как поймали… Ну-ка, дай-ка я прочитаю… — Сарычев взял лист у дежурного, пробежал глазами. — Все вроде так… Валюша, посмотри и подпиши! Происшествие мы обязаны зафиксировать, ничего не поделаешь… Подписывай, и мы тебя домой отвезем…
Девушка взяла листок дрожащими руками. Он затрясся в ее руке, зашелестел в наступившей тишине. Сарычев напрягся: подпишет — не подпишет?
Видела ли строчки Валя, понимала ли их в своем состоянии? Смотрела, смотрела на шелестящий листок, медленно положила его на стол. Неужели не подпишет? Силой не заставишь!.. Валя потянулась за ручкой, подержала ее над листком… и подписала. Сарычеву хотелось схватить лист со стола, спрятать. Он еле сдержался, чтобы не выдохнуть с облегчением.
— Возьмите, — кивнул Сарычев лейтенанту, указывая на лист. — Я сейчас…
Он вышел из дежурки и направился в свой кабинет на второй этаж, чтобы позвонить Долгову. Понимал, что секретарь райкома теперь измучился в ожидании, да и посоветоваться надо, как быть с девчонкой? Во-первых, неизвестно напишет ли она заявление, скорее всего, не напишет. Это усложнит дело, как судить, если потерпевшая не имеет претензий. Но все же это полбеды! Главное, во-вторых, даже если напишет, то брякнет на суде, что не уверена, что именно Анохин ее изнасиловал, расскажет, что он говорил, что его подставили из-за директора фабрики. Все шито белыми нитками! Все не просто! Вся придуманная интрига трещит по швам.
Все это Сарычев рассказал Долгову.
— Что ты думаешь делать? — спросил секретарь райкома сердито. — Завязал узелок, развязывай!
— Один выход… — вздохнул Сарычев.
— Какой?
— И девчонку, и его…
— А завтра и тебя, и меня…Так?
— Девчонка потрясена… от позора она покончить с собой готова… Так бывает! Ну, а он… Такие перспективы перед ним открывались, и вдруг все рушиться… Тоже нервы могут не выдержать. И он повесится… в камере…
— Погоди, думаю, — сказал Долгов.
Помолчал.
— Девка может… Это достоверно… Но чтоб свидетели были…
— Будут.
— И правдоподобно… А он нет… Он же в камере, без шума не сделаешь… Лишние свидетели!.. Нам не поверят… В Тамбове возможно, а у нас нет… Завтра его затребуют в Тамбов… И пленка нам нужна, пленка… Надо узнать, не передал ли он ее кому?
— Если будет суд, он и на суде будет гнуть свое… Все расскажет!
— До суда надо дожить!.. Впрочем, и не такие ломались… Зиновьев с Бухариным покрепче были, а что подписывали. Это уж не твоя забота… Действуй!
Ободренный Сарычев вернулся в дежурку. Выход хороший найден! Если девчонки не будет, то подруга ее Елена Лагина все достоверно распишет на суде, даже Анохина узнает. Когда его из камеры привезут на суд, у него видок будет еще тот, ничего интеллигентного не останется. Такая бандитская рожа будет! Чтобы он ни вякал на суде, кто ему поверит.
— Так, — сказал он в дежурке, — давайте сначала Валюшку домой отвезем, чего ей здесь томиться? А потом уж вы собственноручно опишите, как дело было…
— Позвать сержанта Новикова? — спросил дежурный. — Он отвезет?
— Я сам… На своей… Вдруг вызов срочный, а дежурной машины нет. Я с ними отвезу, — указал Сарычев на Мишку со Славиком. — Пошли!
В машине всю дорогу была тишина. Все молчали. Возле пешеходного моста через железнодорожные линии неподалеку от вокзала Сарычев вильнул, сделал вид, что объезжает яму на дороге, переключил скорость, быстро и незаметно выключил зажигание и тормознул. «Москвичок» его дернулся и заглох.
— Что это с ним? — пробормотал Сарычев, вылез из машины и поднял капот. Сделал вид, будто осматривает, а сам снял провода с двух свечей. Закрыл капот, вернулся в машину и начал крутить стартер. Машина чхала, но не заводилась.
— Ну, зараза! — выругался Сарычев, снова вылезая из кабины. Он покопался немного в капоте и крикнул: — Ремень потеряли!.. Славик, помоги поискать. Он где-то рядом слетел… Славик вылез из машины. Они отошли немного назад, и Сарычев шепотом быстро объяснил, что нужно делать. Вернулись, снова покопались в моторе.
— Нет, без ремня не обойтись, — с горечью сказал Сарычев и выругался, пнул колесо. — Зараза!.. Ребята, тут недалеко осталось, минут двадцать. Проводите Валюшу, а завтра я жду вас в милиции… Не в службу, а в дружбу…
— Я не пойду с ними! — вскрикнула девушка испуганно. — Только с вами! Или я здесь ночую, в машине.
— Чего ты боишься? — притворно удивился Сарычев. — Они же тебя спасли! — А про себя выругался: «Ну и капризная, стерва!.. Еще чуть и я своими руками ее задавлю!».
— Нет, нет, без вас я никуда не пойду!
— Раскурочат машину, — вздохнул Сарычев, принимая решение.
«Приказывать-то легко, — подумал он. — А вот как самому… Назад пути нет!».
— Хорошо, я пойду с вами!
Он запер машину, и они стали подниматься по бетонным ступеням на высокий мост.
«Хорошо, что в Уварово железная дорога не электрофицирована, — подумал Сарычев. — За провода не зацепится!.. Да, приказывать легче!». Сердце его, чем выше они поднимались, тем сильнее билось. Он смотрел вниз, не приближается ли поезд, нет ли движущихся вагонов, чтобы сбросить не на голые рельсы, а под поезд. И еще смотрел, нет ли пешеходов? Было пустынно. Сопел неподалеку тепловоз, фыркал, скрипели лениво где-то вдали железные колеса, стукали важно, но в полутьме не видно было поблизости движущихся вагонов. Под мостом на крайних дальних путях стояли два грузовых состава. Поднялись наверх, двинулись по широкому бетонному мосту с высокими железными перилами. Сарычев взглянул на Славика: пора. Тот приотстал, и вдруг сзади изо всех сил ударил девушку по голове, оглушил, обхватил руками, приподнял. Мишка растерялся, не понял, стоял, разинув рот.
— Помогай! — крикнул ему тихо Сарычев.
Мишка не знал, что делать, а у Славика не хватало сил одному перекинуть девушку через перила. Тогда Сарычев сам схватил ее за ноги и кинул их на перила. Славик толчком сбросил девушку вниз. Они стояли, смотрели, как удаляется, летит вниз, развевается рваное серенькое платье. Им показалось, что падала девушка вечность. Удар о рельсы был глухой, почти не слышный здесь, наверху. Они кинулись по мосту, по ступеням вниз. Бежали молча. Гулко стучали ногами по бетону. Мост гудел, дрожал под ними. Слетели, спрыгнули с платформы на пути, бросились, прыгая через рельсы, к неподвижному серому бугорку. Издали казалось, что на рельсах лежит куча рваного тряпья.
Девушка не шевелилась, лежала на боку. Крови в полутьме не видно. Сарычев взял ее за кисть, стал щупать пульс. И с ужасом нащупал. Палец явственно ощущал слабые толчки.
— Жива! — шепнул он и ногой подтолкнул к Мишке камень. Их много валялось меж путями. — Бей! — указал он на висок девушки. — Быстрей!
Мишка медленно поднял камень, растерянно глядел на капитана: не отменит ли он приказ.
— Давай! — яростно крикнул шепотом Сарычев.
Мишка взмахнул рукой, опустил на висок девушки камень. Потом ударил еще раз изо всех сил.
— Довольно! Понесли в машину!
— Куда теперь ее… — прошептал Мишка. Он не понимал, зачем нужно было убивать девку.
— В больницу… видишь, не выдержала позора, прыгнула с моста, — сердито сказал Сарычев. — А мы не углядели! Откуда мы знали, что у нее на уме… Шла спокойно, и вдруг…
14. Долгов
Рано утром Долгов позвонил в Тамбов Климанову и быстро рассказал о происшедшем за последние сутки. Климанов только крякал, когда слушал очередной поворот событий.
— Не надо бы по телефону… — выговорил он наконец.
— Понимаю, но дело срочнейшее. Как быть с Анохиным? Он первому же следователю все расскажет… Здесь он не пешка. Поверит — не поверит следователь, а бумагу составит и в дело пришьет. Не один читатель найдется…
— Срочно его сюда, сию минуту отправьте с серьезным сопровождением. Комнату его опечатайте! Нам нужна пленка. Здесь он скажет, где прячет!
— Мы всю комнату обшарили…
— Видно, плохо шарили… Везите его в Тамбов. Слишком серьезное дело для районной прокуратуры… Постарайтесь не афишировать насилие и самоубийство девушки…
Долгов положил трубку и тут же набрал номер телефона Сарычева.
— Сейчас же, срочно отправь Анохина в Тамбов. Усиленный наряд в «воронок» и сам на машине следом! Всю дорогу глаз не спускай, понял? Пока своими глазами не увидишь, что он попал по назначению, у меня покоя не будет. Вопросы есть? Действуй!
Сарычев немедленно собрался, и через полчаса «воронок» с Анохиным выезжал из ворот милиции. Его сопровождала черная «Волга» молодого начальника милиции.
В это время секретарь райкома принимал в своем кабинете редактора районной газеты Василия Филипповича Кирюшина. Пришел тот по своим делам. Сидели, разговаривали.
— Твой заместитель меня ошеломил утром, — горько качнул головой Долгов. — Оглушил прямо! Ты в курсе?
— Звонил он мне вчера из Тамбова, обрадовал, — улыбнулся Василий Филиппович. — Я посчитал, что это вы его рекомендовали… Он парень способный, большая дорога…
— Какая дорога! — воскликнул, перебил Долгов. — Кончилась его дорога! Мне из отдела милиции только что позвонили: изнасиловал он девку ночью, арестован!
— Коля! Изнасиловал?! — откинулся в кресле, побледнел Кирюшин. — Какую девку? Зину? Так он жениться на ней собрался. В Тамбов в загс документы с ней подавать возил…
— Она его невеста? — теперь поразился Долгов. «Неужели эти скоты с его невестой расправились? Ну, скоты, все запутали!» — мелькнуло в его голове, обдало жаром. — Почему же тогда она с собой покончила?
— Зинка? Покончила? Мать моя! Как? — воскликнул потрясенный Василий Филиппович. — Тут не то что-то… Я хочу с ним встретиться! Тут что-то не то!
— Сам толком ничего не знаю, — буркнул растерянный Долгов. — Сейчас выясню!
Секретарь набрал номер милиции.
— Сарычева! — попросил он в трубку. — В Тамбове? Когда уехал?… Какого преступника? Анохина… В Тамбов, значит, увез, а как зовут ту… девчонку, которую он… изнасиловал… Да, да, узнайте… Сейчас узнают, — опустил Долгов трубку и глянул на редактора. — Анохина уже в Тамбов увезли. Утром Сарычев доложил туда, приказали привезти. Дело слишком серьезное для района… Как, как? — спросил он в трубку. — Валентина? Спасибо!.. — и вымолвил с облегчением. — Валентина ее зовут… Дело вот еще чем осложняется. Нападение по почерку совпадает с апрельским. Помните, маньяк изнасиловал в лесопосадке и задушил свою жертву. Как мне объяснили, нападение однотипное. Но на этот раз случайно ребята неподалеку оказались. Шли мимо, услышали, схватили, говорят, прямо на девке. Вместе в милицию привезли... Протокол составили...
— Как же она покончила с собой?
— Раздолбаи! — выругался Долгов. — Домой повезли из милиции, трое было… Она у них на глазах через перила железнодорожного моста сиганула. Рты разинули… Раздолбаи!
15. Камера
Николай Анохин догадался, что его везут в Тамбов сразу после выезда из Уварово. Понял это и обрадовался, решив, что там его не достанет Долгов. Там следователи поответственней. Он все расскажет им. Они быстро разберутся и отпустят его. Николая поташнивало, в животе было неспокойно, крутило, временами схватывало. Наверно, от утренней баланды.
По частым поворотам машины понял, что въехали в Тамбов, и подумал, что где-то совсем рядом находится Зина, может быть, идет сейчас мимо по улице и не догадывается в какой он беде. От мысли о Зине сильнее защемило сердце, снова навалилась тоска, такая тоска, словно он узнал, что больше никогда не увидит Зину, не обнимет ее.
В следственном изоляторе Анохина ждали, поэтому приняли без проволочек, быстро. Сарычев не был официальным сопровождающим, поэтому в тюрьме в дела не вмешивался, вообще не входил в здание, старался не попасть на глаза Анохину, своему сопернику. Когда ему доложили, что преступника приняли и отправили в камеру, он сел в машину и быстро кинул водителю:
— В Уварово!
Шофер удивился, глянул на него, проверяя, не ослышался ли он. Прежний начальник милиции никогда так скоро не покидал Тамбов, обязательно места в три заедет показаться, поговорить, пожать руку.
Анохина вначале отправили в одиночку. Шел он по коридору тюрьмы медленно, осторожно, горбился, все тело болело. Под глазом синяк, нос распух. Сорочка в темных кровавых пятнах. Галстук отобрали в Уварово и не вернули. В камере он лег на топчан на спину, стал смотреть на тусклую лампочку под потолком и думать, стараться понять, что они будут делать с ним дальше. Он не мог найти объяснения тому, почему его не убили в лесу? Почему не спросили ни разу о пленке? И знают ли они вообще о ней? Если не знают, считают, что Ачкасов просто познакомил его с документами, тогда логичней убить его, чтобы он не поделился ни с кем информацией. Зачем такая сложная операция с насилием? Неужели они не понимают, что на суде он все расскажет? И кто насиловал, и за что его подставили. В поведении Долгова Анохин не находил логики, не понимал его. И не мог предугадать, что он предпримет дальше. Вряд ли он решиться убить его в тамбовской тюрьме. Значительно проще это было сделать в Уварово, а еще проще, конечно, на даче, в лесу. Убили, камень на шею и в воду или закопали в лесу. Быстро и незаметно. Значит, что-то еще придумали. Но что?
В таких раздумьях и тоске по Зине, по матери, в мучениях от мысли — каково им будет узнать о его беде! — Николай Анохин провел вторую ночь в тюрьме, вторую ночь без сна. Утром после жидкой кормежки услышал он лязг засовов. Дверь распахнулась.
— Выходи! С вещами! — Надзирателей было двое. — Скатывай матрас.
В коридоре Анохин снова почувствовал резь в животе и попросил:
— Мне бы в туалет…
— Потерпишь, там есть, — буркнул один надзиратель, запирая камеру.
Когда открылась дверь, Анохин подумал, что его поведут на допрос. Он решил сразу написать все на бумаге и потребовать расследования. Но с постелью на допрос не водят, значит, всего лишь в другую камеру перебрасывают. По коридору вдоль железных дверей вели недолго. Остановились возле одной, и тот же надзиратель, что открывал его камеру, загремел ключами, засовами, а другой сказал с сочувствием:
— Ну, парень, тебе не позавидуешь!
Тот, который открывал, постарше и пожестче, быстро глянул на своего напарника:
— Помалкивай, не твое дело!
Анохин понял, что его ожидает что-то страшное. Сердитый надзиратель открыл дверь?
— Заходи!
За дверью была большая камера, и видно было несколько человек заключенных. Анохин, съежившись, шагнул через порог и остановился. Жесткий надзиратель толкнул его в спину и прикрикнул громко:
— Иди-и! Помял крылышки — неси ответ! — и захлопнул дверь.
Анохин не знал, что на воровском жаргоне выражение «помять крылышки» означало изнасиловать девушку. Надзирателю велено было донести до обитателей камеры, что новенький арестован за изнасилование. Анохин стоял у двери, не зная, что делать, куда идти, молча прижимал к себе скатанный матрас с постелью. Он видел, что все обитатели камеры смотрят на него, смотрят недружелюбно, не понимал, что это недружелюбие возникло у всех в глазах после слов надзирателя, на которые он не обратил внимания, просто не услышал их. Анохин увидел свободное место неподалеку от двери и шагнул к нему, но его остановил резкий голос:
— Там занято! Твое место вон там, в углу, у параши, вместе с петушками!
Анохин остановился в нерешительности, посмотрел на узколицего, который указал ему место у параши. Все молчали, и молчание было враждебным. Николай решил не идти наперекор с первой минуты, не ссориться, и двинулся к нарам, на которые ему указали, кинул на них матрас, раскатал его и сел, не зная, как вести себя, как растопить лед. Запах в камере был тяжелый, спертый, а здесь, в углу, особенно неприятный. Вонь. Камера начала разговаривать, двигаться, шелестеть.
— Как он на маню похож, — услышал Анохин голос того, кто указывал ему место у параши.
— Не, — возразили от стола. — На Клашку.
— Почему на Клашку?
— Не знаю… Похож и все.
— Сейчас узнаем… Маня, Манюша! — громко позвал первый, узколицый.
Анохин слышал разговор, но не думал, что он идет о нем, что это его зовут, и не оглядывался, не смотрел ни на кого, сидел на краю нар, сгорбившись, сжимая голову руками. Боль, боль, боль терзала душу. И ужасно тянуло в туалет. Но не хотелось с первой минуты в камере садиться на парашу. И Николай терпел.
— Я говорю, Клаша. Такой розовощекой и кудрявой Маня не бывает. Смотри!.. Клаша, Клашутка! Ау!.. Не откликается. Жаль! Пошли знакомиться. Может, она глуховата, не слышит…
Двое подошли к Анохину. Узколицый толкнул его в плечо.
— Петушок, о тебе речь ведем, а ты не слышишь, обижаешь…
Анохин поднял голову, увидел перед собой узколицего, худого с большими жилистыми руками, в наколках. Второй был чуть сбоку, плотный, стриженный, беловолосый. Николай молча поднялся, не понимая, что от него хотят, глядел на их игривые лица.
— Знакомиться пришли.
— Николай, Коля, — хрипло ответил Анохин.
— Ах, Поля! — обернулся узколицый к стриженному. — Видишь, не угадали! Ее зовут Поля!
— Николай, — громче повторил Анохин.
— Был Коля, стала Поля, — засмеялся, ощерился зловеще узколицый и потрепал по щеке Анохина жесткими пальцами. — Ты помял крылышки, а мы тебе наденем юбку! Понаслаждался, дай другим… — Он снова протянул руку к лицу Николая, но Анохин резко отстранился, стукнулся затылком о верхние нары. Он догадался, о чем идет речь, испугался и быстро заговорил:
— Я не мял крылышки… не наслаждался… ме… ик…
Узколицый сильно ткнул кулаком ему под дых, не размахиваясь. Анохин икнул, согнулся, умолк, а узколицый толкнул его на нары, говоря своему напарнику?
— Поля меня возбуждает… Очень хочется!
— А кто тебе мешает?
— Штаны ее мешают.
— Снимем…
— Слышь, Полюня, не томи, — потрогал узколицый за плечо Анохина, который сидел, скрючившись, прижимая руки к животу, тяжело дышал. От удара перехватило дыхание. Уходила, отпускала боль медленно, зато все мучительней и мучительней било в голову: изнасилуют сейчас! Как быть? Как быть?! Как быть?!!
— Покажи попочку, спусти штанишки! — подпевал, подхихикивал второй, стриженный.
Узколицый больно сжал плечо жесткими пальцами, рванул вверх Николая, попытался развернуть его задом к себе. Анохин вцепился руками в нары, и тот не сумел оторвать его с первого раза. А когда узколицый еще сильнее дернул за плечо, Анохин отцепился от нар, подскочил и врезал головой ему в живот. Тот отлетел от него, ударился спиной о соседние нары. Николай в ярости кинулся на стриженого, но не ударил его, а схвати за горло. Оба они упали на пол. Все смешалось, завертелось. Его били, пинали, тащили, кричали, хрипели. Чуть ли не полкамеры навалилось на него, помогало узколицему. Он бил, махал руками, катался по полу, хватался за ноги, валил на пол, пытался схватить за горло, бил, кричал, хрипел, не чувствовал боли. Наконец его скрутили, распяли, прижали руки и ноги к полу, стянули штаны. Он дергался, выл, кричал:
— Я журналист!.. Я не наси…
Ему зажали рот и стали поднимать с пола.
Он еще яростней, из последних сил, задергал руками и ногами. Вдруг его отпустили, бросили на пол. Раздался хохот.
— Обосрался, гад! Вонючка!
Он не чувствовал, как это с ним произошло. Он лежал на полу, видел перед самым лицом ноги. Попытался подняться, натянуть штаны, но не смог. Рук не чувствовал. Они его совершенно не слушались, как отнялись. И он заплакал.
Яростная свора, которая минуту назад с веселым азартом топтала его, распинала, тащила на нары насиловать, затихла, увидев, что на полу перед ней лежит в крови и дерьме жалкий, раздавленный человек, дергается от рыданий, размазывает слезы с кровью по лицу и бормочет:
— Я не насиловал… Я журналист… Я нашел… подпольный цех… на фабрике… секретарь райкома… посадил…
— Что он бормочет? — услышал в тишине Анохин. Чьи-то ботинки появились возле его лица. Кто-то присел на корточки и спросил: — Что за подпольный цех?
— На трикотажной фабрике… Его открыли секретарь райкома и директор…
— Где?
— В Уварово…
— А ты кто?
— Я зам редактора газеты… Нашел цех…
— Понято… Шакал! И ты Мурло, помогите человеку помыться!
— Я сам, — бормотнул Анохин, вновь пытаясь подняться.
— Помогите, сказал! — жестко сказал тот, кто расспрашивал.
Анохина ухватили под мышки, потащили к умывальнику.
16. Следователь Макеев
Следователь Тамбовской прокуратуры Макеев Андрей Алексеевич тоже провел бессонную ночь в одиночной камере. Он тоже всю ночь мучился, страдал, ломал голову, искал пути своего спасения. Несколько раз принимался плакать от бессилия.
В том, что завтра его вышибут из прокуратуры, он не сомневался. С этим он смирился, к этому он готов, и это будет самое легкое наказание. Счастливый исход! Худшим — был срок, тюрьма, лагерь, где он тут же станет петухом, изгоем. Скорее всего, даже до лагеря не дотянет! Как узнают в камере, что он следователь, придушат в первую же ночь. Биться об стену хотелось Макееву от этих мыслей, от бессилия.
Дернул черт его вчера вечером потащиться в городской парк! Пивка захотелось. Можно было в другом месте спокойно попить. Нет, в парк потянуло, на природу.
В павильоне многолюдно было, шум. Макеев допивал вторую кружку, когда к столу от автоматов подошел парень, узкоплечий, кучерявый, розовощекий. Пена стекала по кружке, которую он держал в руке, и капала на грязный бетонный пол с рассыпанными по нему блестками рыбьей чешуи. Парень поглядел на Макеева долгим взглядом, ставя мокрую кружку с пивом на стол, и улыбнулся. Макеев понял, кто перед ним, заволновался, чувствуя приятную дрожь, и не удержался, невольно растянул губы в улыбке. Чтобы скрыть волнение, поднял свою кружку и допил остатки пива.
Он хотел быстро поставить кружку на стол и сразу уйти. Тем более, что сзади него стоял мужик, нетерпеливо ожидал, когда он допьет и освободит кружку. Их не хватало всем желающим освежиться в этот теплый вечер. Макеев поставил кружку, мужик схватил ее и ринулся к автоматам. Следователь, поворачиваясь уходить, услышал быстрый голос парня:
— Не торопись!
Макеев заколебался: уйти, остаться! Желание пересилило. Он остановился, решив пригласить парня к себе. Парень большими глотками опорожнил кружку и со стуком поставил ее на стол.
— Больше не будешь? — подскочили к нему сразу два человека.
— Не, — мотнул головой парень и шагнул к Макееву.
Кружку сразу слизнули со стола.
— Пошли ко мне, — тихо сказал Макеев.
— Зачем? — уверенно отклонил предложение кучерявый парень. — И тут удобно! — кивнул он в сторону туалета и взял за локоть Макеева, который послушно пошел рядом с ним в мужской туалет, хотя не хотелось туда идти. Комната у него в общежитии свободная. Никто не помешает. Можно спокойно наслаждаться. Не торопясь кайфовать. Но Макееву парень понравился, и он надеялся, что познакомится с ним, и между ними завяжется долгая дружба.
За два года в Тамбове Макеев не нашел постоянного друга. Встречи бывали, но редко, да и партнеры намного старше Макеева, спившиеся или спивающиеся.
В туалете многолюдно, вонь. Толпились мужики в основном у стены. Макеев заколебался: не надо в таких условиях, снова сказал парню тихонько:
— Пошли ко мне, тут близко…
Но кучерявый парень молча и уверенно втолкнул его в свободную кабину, накинул крючок на дверь. Потом развернул Макеева спиной к себе и похлопал по плечу, мол, наклоняйся. Следователь быстро, суетясь, расстегнул штаны, спустил их и, придерживая одной рукой, чтобы они не свалились на мокрый пол, наклонился, расставил ноги.
Через минуту, а может, через две, дверь кабины неожиданно резко громыхнула, крючок вылетел из фанерного полотна с корнем. Раздался шум, вскрики, какие-то яркие вспышки. Парень вмиг отлип от Макеева. Следователь еле успел лихорадочно натянуть брюки, не оборачиваясь, вжикнуть молнией, как кто-то сзади жестко схватил его за ворот сорочки, рванул из кабины, выволок. Ошеломленного Макеева подхватили с двух сторон под руки и повели из туалета, расталкивая хохочущих мужиков.
— Гомики!.. Дружинники пидоров замели! — слышались веселые возгласы, гогот. Кто-то больно пнул Макеева под задницу.
Один из дружинников был с фотоаппаратом.
Все это вспоминалось, мелькало в голове Макеева в тысячный раз со жгучим стыдом, тоской. Хотелось от отчаяния покончить разом со всем, уйти из жизни. Будущего нет, все рухнуло…
Макеев еле дождался утра. В девять его помертвевшего, осунувшегося ввели в кабинет начальника следственного отдела. И без того жесткое лицо начальника было особенно хмурым и злым. Только на миг взглянул на него Макеев и опустил глаза. Начальник не предложил сесть, сидел, молчал. Слышно было, как за милиционером, приведшим следователя, захлопнулась дверь кабинета, и стало совершенно тихо.
В открытое окно доносился шелест листьев тополя и слитный гул машин за домом, на улице. Наконец начальник швырнул на стол в сторону Макеева две фотокарточки. Следователь увидел на одной свою голую задницу, наполовину закрытую таким же голым телом вчерашнего партнера. На другой был остановлен момент, когда Макеев уже выпрямился и натягивал брюки, стоя задом к фотографу. Следователь с некоторым облегчением отметил, что лица его на фотокарточках не видно. Можно будет на суде крутиться, что это не он. Бессмысленно это, конечно, мелькнуло в голове, парень признается, с кем был! И дружинников было четверо. Свидетелей достаточно.
— Какая статья за это? — спросил жестко начальник.
Следователь молчал, опустив голову.
— Я спрашиваю, какая статья? Знаешь?
— Знаю… — прошептал Макеев.
— Что будем делать?
— Я весь… ваш… только не губите… — вырвалось жалко и жалобно у Макеева.
И снова молчание.
— Я только вчера хвалил вас прокурору, — совсем другим каким-то грустным тоном проговорил начальник. Макееву показалось, что он вздохнул. — Хотел… да, надеялся важное дело поручить…
— Я выполню… я все… — запнулся, захлебнулся Макеев, быстро и преданно глянул на начальника и снова опустил глаза.
Начальник молчал, думал.
— Хорошо, — буркнул он, наконец. — Я могу забыть об этом, — указал он вяло пальцем на фотокарточки, — если ты сегодня же добьешься признания у матерого преступника… Бери дело, — кинул он Макееву на стол тонкую папку, — вернешь сегодня с его подписями, и я порву их, потянулся он за фотокарточками.
Макеев жадно схватил папку-спасительницу. «Своими руками задушу, а выбью признание!» — пронеслось в его воспаленном мозгу.
— Иди, работай!
Следователь быстро повернулся и кинулся к двери. Услышал вслед:
— Погоди!.. Постарайся узнать у преступника, куда он спрятал пленку… И советую заранее написать протокол допроса…
17. Левитан
— Идем, пошепчемся, — подошел к Анохину плечистый, но с такой короткой шеей человек, что казалось, что ее совсем нет, что неподвижная голова посажена прямо на плечи.
Николай впервые взглянул на своего спасителя, если так можно было его назвать. Ведь он не вмешался, когда Анохина пытались изнасиловать. Николай к этому времени немного привел себя в порядок, умылся, сидел на нарах в мокрых брюках. Лицо у него продолжало кровоточить, жгло, горело. Один глаз совсем заплыл. Ничего им не видно. Но Анохин почти не обращал внимания на физическую боль. Душевная была мучительней.
Он был раздавлен, уничтожен, хотелось одного — умереть. Он не соображал ничего, не понимал ничего. При новой попытке насилия он, видимо, не оказал бы ни малейшего сопротивления. Не было ни сил, ни воли. Он уже не жил.
Когда к нему подошел этот плечистый и пригласил с собой, Анохин послушно поднялся. Ребра у него болели, ноги болели и дрожали, шагнуть нельзя. В это время лязгнули засовы, дверь открылась, показался надзиратель.
— Анохин, на выход!
Николай стоял на месте, глядел на дверь. Кровь из заплывшего глаза текла по щеке. Ухо надорвано, с запекшейся черной кровью. Разбитые губы вспухли. Ноги дрожат, не шевельнуться.
— Поторапливайся! — прикрикнул надзиратель.
Сколько времени прошло с того момента, когда его привели в камеру? Полчаса? Час? Пять часов? Вечность? Что сейчас? День, вечер или ночь? Куда его вызывают?
— Иди, иди, зовут, — подтолкнул его плечистый.
Анохин шагнул, пошел, прихрамывая, волоча ногу, к двери. Надзиратель ухватил его за рукав, выдернул из камеры. Шевелись! Руки назад! Николай не реагировал на его слова, на толчки в спину, вяло брел, не видел ни стен, ни дверей, не слышал покрикиваний надзирателя. Привели его в кабинет. Там был какой-то безликий человек, растрепанный и небритый.
Увидев Анохина, Макеев вскочил со стула, искренне ужаснулся. Не таким он ожидал увидеть сексуального маньяка. Ждал с дрожью, с волнением готовился к борьбе. Взглянув на Анохина, он сразу понял, как нужно вести себя с ним.
— Эк, как тебя разделали! — воскликнул он сочувственно и выхватил платок из кармана. Следователь стал осторожно, чтобы не причинить боль, вытирать кровь с лица Анохина, приговаривая:
— Звери! Звери!.. Ты садись, садись… Сейчас мы тебя к врачу… Мигом подпишем бумаги и — к врачу… И из этой камеры уберем… Ох, звери!
Николай сел. От сочувственного голоса непонятного человека вновь захотелось заплакать. Слезы защекотали ресницы, ослепили его.
— Сейчас мигом, мы мигом… Держи! — сунул ему ласковый человек в руку авторучку и придвинул какие-то листки. — Подписывай здесь! И к врачу!
Анохин послушно расписался.
— Теперь здесь… здесь… здесь… — Николай подписывал, подписывал. — Вот и хорошо! — радостно выдохнул безликий человек и крикнул: — Иванов, в медпункт его!.. — И снова Анохину. — Ты молодец! Я не ожидал, честно скажу, никак не ожидал… Камень с плеч… Держи! — всунул в руку Николаю свой окровавленный платочек. — В медпункт его!.. Не, погоди… Может, ты скажешь, где пленочка, а? Шепни, только шепни!
— Ка… кхе… Какая пленочка? — еле выговорил Анохин.
— Ну, та, та!
Сознание медленно прояснялось, очищалось. Анохин смотрел на безликого человека, который придвинулся к нему так, словно действительно ожидал, что Николай шепнет, и боялся, что не услышит. И Анохин шепнул:
— Что я подписал?
— Да, протокол, — отмахнулся скользкий человек. — Забудь о нем. Это прошлое… Как насчет пленочки?
— Покажите, что я подписал…
— Ладно, ладно, до завтра! В медпункт! Ты его заслужил… А с камерой погодим… Вспомнишь о пленочке, постучи, переведем в другую…. Хэ-хэ-хэ! — засмеялся радостно Макеев. — А мне говорили — крепкий орешек!.. Не таких раскалывали…
Из медпункта привели Анохина в камеру — все лицо в зеленке. Встретили его сокамерники молча, настороженно. Боялись, что он рассказал, кто учинил над ним расправу, и зачинщики окажутся в штрафном изоляторе. Надзиратель спокойно захлопнул за Анохиным дверь, не потревожив никого. Николай побрел в свой угол, но спокойный бас остановил его:
— Канай ко мне, журналюга! — позвал его плечистый к столу, поднимаясь.
В дальнем от параши углу под окном они присели на нары напротив друг друга. Плечистый взглянул на лежавшего через нары от них парня в майке, и тот молча вскочил и ушел к столу, где начали громко перемешивать домино, продолжать игру.
— Левитан, кликуха моя! — вполголоса представился плечистый. — Голос у меня такой… Не слыхал ничего о Левитане?
— Диктор был…
— О дикторе все слыхали… Я говорю о себе. Обо мне многие знают… Вижу, далек ты от нашего мира… А ты значит, Николай…
— Анохин.
— Тоже ничего не слышно было о тебе в нашем мире, — усмехнулся Левитан.
Сидел он неподвижно, разглядывая Анохина острыми глазами. Лицо у него спокойное, мертвое. Только губы шевелились. Страшный человек! В другое время Анохин постарался бы поскорее уйти от него, держался бы подальше, но теперь понимал, что жизнь его, по крайней мере, в ближайшие дни в руках этого страшного человека. Он может стать его защитником, а может палачом. Здесь его мир, здесь он полноправный хозяин.
— Расскажи-ка, свою историю… и поподробней, ничего не упускай. В мелочах главное. Не торопись, у нас времени много. Я слушаю…
Анохин начал рассказывать с того момента, как к нему приехал Ачкасов.
— Погоди! — остановил его Левитан. — Начни с того, как ты попал в газету, как работалось, какие у тебя отношения были со всеми действующими лицами раньше… Поехали…
Сидели часа два. Анохин рассказывал, а Левитан бесстрастно уточнял, выспрашивал, особенно заинтересовала его поездка в Тамбов.
— Интересная история, интересная, — приговаривал тихим басом Левитан. — Приключенческий роман… Пленка тебе спасла. Пока ее нет у них в руках, ты жив. Найдут, через час умрешь… Загадка: как они о ней пронюхали?.. Ачкасов подружке проговорился? Сомнительно! Знал, что за ним охотятся… Сомнительно…
Рассказывая, Анохин заново пережил все свои радости и страдания за последние два дня. Теперь они были отдалены от него на многие десятилетия, которые отодвинули всю прошлую жизнь далеко-далеко, сделали ее невозвратной, далекой, счастливой мечтой. Главное, рассказывая, он успокоился, голова снова стала ясной, снова пришли силы, желание бороться за свою жизнь.
— Что я подписал сейчас? — спросил он.
— Смертный приговор, — ответил Левитан. — Как я понимаю, ты подписал протокол с признанием в изнасиловании двух чувих и в убийстве одной. На суде свидетели и потерпевшая подтвердят твои показания. Смертный приговор обеспечен!
По мере рассказа Анохина в голове Левитана зрел план. Он услышал много интересного для себя и крутил, крутил в мозгах, продумывал свои действия. План хорош был при быстром молниеносном исполнении. Какая счастливая случайность, что этот лох оказался в одной с ним камере! Не случайность это, не простое стечение обстоятельств. Послан журналист к нему Богом, либо дьяволом! Не важно кем, главное, послан! Может быть, главное назначение этого парня на земле было вот эта встреча с ним, Левитаном, здесь, в камере, его сообщение Левитану, что все подготовлено для решительных действий. Пленка готовилась для него, Левитана. Парень сделал свое дело и должен уйти, умереть, исчезнуть. В планах Левитана для Анохина не было места. Он не стал советовать ему, как вести себя с обманувшим его следователем. Только сказал:
— В Уварово тобой занимались не очень умные люди. Тебя вытащил в Тамбов кто-то поумней, помощней. Я не знаю, как ты можешь с ним справиться. Твое счастье, что пленку не нашли. Найдут, и суда не понадобиться… Забьют до кобздеца, — повел глазами Левитан в сторону стучащих в домино обитателей камеры, — по приказу, а запишут, загнулся от сердечной недостаточности. И тишина!.. Раз уж ты мне доверился, колись до конца. Может, я тебя смогу спасти. Это твой единственный шанец… В ином любом случае — карачун: либо зеленкой лоб намажут, либо здесь, в камере… Базлай, где пленка?
— Как же вы ее отсюда достанете?
— Это мое дело! Я врубаюсь…
Анохин рассказал.
— Иди, отдыхай… Можешь спать спокойно. Тебя не тронут… К следаку, как я понимаю, тебя теперь не скоро позовут. Если вообще позовут. Иди, дыши спокойно, жизнь хороша даже в камере. Это ты скоро поймешь!
Николай добрел до своих нар, опустился на них, осторожно прилег на одеяло, но глаза не закрыл, стал смотреть, как Левитан что-то быстро пишет на клочке бумаги. Написал, поднялся и пошел к двери. Постучал. «Сейчас выдаст следователю, где пленка!» — подумал Анохин, но подумал бесстрастно, равнодушно, словно это его не касается, словно ему все равно. Будь, что будет. Он видел, как приоткрылась кормушка, как на мгновенье появилось лицо надзирателя, но Левитан заслонил собой кормушку, видно, что-то говорил надзирателю. Говорил недолго. Кормушка захлопнулась. Левитан с каменным лицом побрел к столу. Анохин закрыл глаза.
Утром и днем Анохина никто не беспокоил. Он лежал на своих нарах, постанывал про себя: болело все; и душа, и тело. Ему казалось, что год прошел, как он был в Тамбове.
Не верилось, что всего четыре дня назад он, счастливый, держал за руку Зину, подписывал заявление на регистрацию брака с ней в Тамбовском загсе, обнимал ее вечером. Непонятно, что было безумным сном, тот счастливый день или эти ужасные три дня. Слезы непрерывно текли из его глаз. Он отворачивался ото всех, утыкался в подушку, чтобы не показывать уголовникам своей слабости.
В камере было душно, несло вонью от параши, рядом с которой лежал Анохин. Обитатели камеры разговаривали громко, шумели, смеялись, когда проигравшие в домино начинали приседания или лезли под стол.
Вечером к Анохину подошел бугор, староста камеры, легонько толкнул в бок, сказал повелительно:
— Перейди к окну! Там свежее!
Один из сокамерников скатывал матрас на нижних нарах у окна, освобождал место. Бугор, видя, что Анохин колеблется, бросил твердо:
— Иди! Потом к Левитану… Зовет!
Анохин послушно скатал матрас вместе с простыней, одеялом и подушкой и перенес к окну. Подальше от параши, поближе к Левитану. Здесь, действительно, было свежее, не так воняло. И светлее.
Левитан ждал его, сидя на своих нарах.
— Садись, — указал он напротив. — Не наклеил ты мне нос, не одурачил!
— Нашли?
— На месте была… Не пойму я, как о ней узнали в райкоме? Как? Мент спалить не мог, его сразу заглушили… Может, ты упустил что-то в своей байке? Может, ты невесте базарил о ней?
— Нет, нет! — воскликнул Анохин, качая головой. — Только Перелыгину и все, а он не мог…
— Кому, кому? Давай-ка, пробазарь мне весь тамбовский день по секундочке. Я весь большое ухо…
Анохин начал вновь вспоминать, рассказывать, что произошло с ним в Тамбове с того момента, как он вышел из пригородного поезда. Левитан кивал, подбадривал, коротко спрашивал, уточняя. Особенно почему-то заинтересовался встречей с Сарычевым и Зиной на пляже под деревом, которая казалась Анохину незначительной, неважной, не имеющей отношения к последующим событиям. В первый раз он вообще о ней умолчал. Не говорил и о том, что Перелыгин очень хотел стать главным редактором газеты.
— Суду все ясно! — сказал, довольный услышанным, Левитан. — Теперь огласи поподробней Долгова, Перелыгина, Сарычева. Что за люди? Чем дышат? Чем живут? Чего хотят?
Слушал активно, задавал вопросы, уточнял.
— Мощный пахан стоит за ними! Сила!.. Он тебя, как муху сонную прищелкнул бы, да пленка мешала… Золотая пленочка!.. А байка твоя проста и стара… Финал известен… А дальше начнется другая пьеса…
— Откуда они узнали?
— Дружок твой Перелыгин стукнул, чтоб с дороги тебя убрать!
— Не может быть! — воскликнул Анохин.
— Откинешь копыта простодырым, — вздохнул Левитан. — Загнешься, и невеста твоя станет женой мента Сарычева!
— Почему? — Анохин был ошеломлен этими словами.
— Жизнь, — хмыкнул Левитан. — Уверен я, последний акт твоей жизни идет по чертежу Сарычева… Иди, думай… Если выживешь, попадешь в зону, сразу иди к пахану, скажи ему: Левитан кланяется, и непременно скажи, что ты оказал мне большую услугу. А я завтра же буду на воле… Здесь будь спокоен, к тебе больше никто не прикоснется, даже если прикажут приглушить тебя. Но они не прикажут, я их знаю, не тронут, уже не тронут… Судить будут!.. Ступай!
Левитан угадал, на другой день его выпустили.
18. Зина
Зина приехала в Уварово ночью, с последним поездом. Сидела в вагоне, представляла, как встретиться сейчас с Николашей, как обнимет его, как прижмется к милому телу мужа. Да, он теперь ее муж, ее половина, сильная половина. Ее надежда и опора. Она все время вспоминала ночь с ним, счастливую, безумную, нежную ночь, вспоминала и со стыдом, и со счастьем. Она не ожидала, что так хорошо прижиматься к мужчине, что так хорошо лежать на плече Николаши. И стыдилась, и желала быть у него в комнате наедине. Это неизбежно! И завтра же они будут у него в комнате вдвоем. Хорошо, что у него своя комната! В Тамбове им, наверно, сразу дадут однокомнатную квартиру. Должность у Николаши довольно высокая, номенклатурный работник. Не будут маяться по квартирам.
На вокзале ее никто не встретил. Стояла на условленном месте, ждала, разглядывала быстро пустеющий зал ожидания. Нету! Опоздал, что ли? Ну, я ему покажу! Хорош, жених! Не буду больше ждать… Зина еле успела втиснуться в последний переполненный автобус.
А дома удар!
— Доченька, беда-то какая! — бросилась к ней мать.
— Что, что?! С папой… — Но отец вышел из комнаты, вышел понурый.
— Колю арестовали!!
— За что?!
— Ой, позор какой! — причитала мать. — Говорят, девку изнасиловал… Ой, позор!
— Николаша изнасиловал?! Ты что! Ты кому поверила? А я подумала, правда беда! Завтра же Сашка Сарычев отпустит…
— Ой, ой, глупая… и убил! Убил!
— Ты чему веришь? Ты что? Ты представляешь, что ты говоришь!? — рассердилась на мать Зина.
— Ой, дура? Ну, дура?
— Хватить ныть, я есть хочу! Завтра Николаша будет сидеть за этим столом!
— Его уже в Тамбов увезли! Сам Сашка, Александр Кириллович нам говорил… Уж два дня назад!
— Ни за что я не поверю, чтоб Николаша кого-то изнасиловал, убил! Глупость! Мы ведь с ним… только заявление подали! Понимаешь!
— На другой день он и изнасиловал…
— Мам, ты понимаешь, что говоришь! Мы… мы заявление подали, и он от радости изнасиловал и убил. Вот так… Все просто…
— Девка с моста прыгнула… насмерть… — глупо проговорил отец.
Он до этого тихонько стоял в двери, слушал, как громко говорят, кричат нервно жена с дочерью. Тяжко ему было думать, что почувствует дочка, когда узнает, что ее жених изнасиловал девку. Ой, тяжко! А теперь, слушая дочь, он вдруг начал успокаиваться, спрашивать себя: действительно, почему они поверили безоговорочно, что Николаша мог кого-то изнасиловать? Разве он похож на насильника, маньяка, как теперь представляет его народная молва? В Тамбове не дураки, разберутся скорей, чем здесь. Николаша тоже не теленок, за себя постоит.
— Так, что же? — спросила сердито Зина. — Убил или сама прыгнула? Или сначала он ее убил, а потом она прыгнула с моста?
— Ты не шути, не шути! — сердилась мать. — Свидетели есть. Прямо на месте его схватили! А девка потом уж, от позора… Ой, позор какой!
— Ты мне хоть сто свидетелей представь, все равно не поверю!
— Ладно, верь — не верь, утром узнаешь! — проворчала мать, направляясь за посудой.
— А может, и правда эта… не он… А мы поверили! — произнес отец.
— Ага, неправда… И ты туда жа. Сашка врать будет… Он сам девку домой возил, когда она сиганула с моста! Чего же ей, эта, прыгать!
— Так, может, не он… Было, да не он!
— Дак, его жа на месте поймали… И она признала его… Вот беда!
Ночь Зина не спала, мучилась: неужели Николаша смог изнасиловать? Был с ней, было так хорошо обоим! И он был счастлив! Ведь был же, она видела, чувствовала! Не мог он, не мог! Это какое-то недоразумение! Одно и тож крутилось в голове всю ночь. И слезы, слезы…
19. Сарычев
Рано утром Зина ждала в палисаднике, когда появится машина Сарычева, начальника милиции. Мать сказала, что и в воскресенье за ним приезжают. Ждала с дрожью во всем теле, верила — он скажет, что вранье все, что Николашу просто подозревают, разберутся и отпустят. Зина пыталась полоть цветы, дергала траву, а сама вся превратилась в одно большое ухо. Не шумит ли машина? Услышала, выскочила на улицу, увидела, как машина остановилась. Водитель посигналил, давая знать начальнику, что прибыл за ним. Забор у Сарычева высокий, сплошной. Машины не видно. Зина с бьющимся сердцем слышала, как хлопнула дверь за забором. Шаги, скрип калитки. Как к нему обращаться? Саша или Александр Кириллович?
— Александр Кириллович, доброе утро!
Улыбки у нее не получилось.
— А-а, приехала! — радостно повернулся к ней Сарычев. — Здравствуй!.. Чего это тебе не спиться?.. А-а-а! — сразу помрачнел он, будто вспомнив, и развел руками. — Вот такие дела!
— Александр Кириллович, расскажите мне все! Все-все!
— Что ты меня на вы и по батюшке, Саша я для тебя, Саша!.. Как тебе рассказать это?.. Ночью было, дома я был… Звонок из милиции, насильника привезли — выезжай! Сама понимаешь, дело необычное для Уварово: драки, поножовщина — это есть, а такое… Приехал, смотрю: Николай, девчонка с маслозавода и два парня. Девка в слезах, вся дрожит… Парни говорят, он насиловал, поймали прямо на месте…
— А девчонка?
— Подтвердила… Говорит, шла с работы домой. Он из кустов выскочил, затащил в лесопосадку, стал душить и насиловать. Она билась, кричала. Ребята услышали и схватили его…
— А он, он что говорил?
— Молчал… Голову опустил и молчал… Что тут скажешь? Не подозрение ведь, а на месте… Не открутишься…
— Ой, не верю, не верю я!
— Да и я не поверил сразу… Озадачен был. Коля и такое! Поверить невозможно… Если б не на месте взяли, я б ни за что не поверил… Как это все?.. Почему? Ума не хватает понять… Что ему надо было?.. Слышал я, будто бы в Тамбове он сразу признался. Сам написал, как было… Тут уж, верь — не верь…
— Я хочу его видеть! — страстно прошептала Зина.
Она совершенно побелела, слушая Сарычева. Он боялся, как бы она не упала в обморок.
— Пока нельзя, — ответил он мягко. — Следствие…
— Я хочу видеть его до суда… Непременно до суда! Он нуждается в помощи! Помоги мне, Саша! Помоги! Ведь ты начальник милиции, тебе не откажут!.. Я хочу его видеть! Понимаешь?
— Нельзя… Закон…
— Можно! Закон не преграда!.. Помоги! Хочешь, я на колени встану? Сейчас? Хочешь, я твои ботинки поцелую!
Зина сделала движение, чтобы встать на колени, но Сарычев подхватил ее, удержал.
— Ты что? Ну, ты что… Я постараюсь… — отпустил он ее. — Я попробую помочь… Ты когда в Тамбов уезжаешь?
— Сегодня же… Я тут не могу быть… Постарайся, Саша! Я этого не забуду. Никогда!
— Я все для тебя сделаю! — Сарычев подчеркнул слова «для тебя» и шагнул к машине, но, взявшись за ручку, оглянулся, спросил: — Неужели ты его так любишь?
— Я готова сейчас руку отдать, глаз свой отдать, жизнь, лишь бы ему помочь!
В Тамбове Зина не жила, не училась после этой поездки в Уварово, была, как в бреду, как в тумане. Не слышала, когда к ней обращались. Нужно было несколько раз повторить, чтоб она поняла, о чем идет речь. Каждый вечер она гуляла возле городской тюрьмы, ходила вдоль кирпичного забора с колючей проволокой по верху, старалась представить, где сидит Коля, как он себя чувствует, что думает. Не верила она, что он насильник. Не верила! Звонила каждый день Сарычеву в Уварово. Он не разочаровывал ее, обещал. И в конце недели сказал, обрадовал, что уговорил прокурора, получил разрешение на свидание в субботу. Но только при нем, при Сарычеве, и при следователе.
— Пусть! Пусть!! — вскрикнула Зина, чувствуя необыкновенную радость, подъем, словно она уже помогла вызволить Николашу из тюрьмы. — Пусть хоть сто человек будет! Ты — молодец! Ты — хороший!
Они договорились, где встретятся в субботу. Встретились. Сарычев удивился, как она исхудала.
— Ты ничего не ела в эти дни? — воскликнул он.
— Не могу.
— Ну, дурочка! Изведешь себя!
Приехали в тюрьму, пришли в комнату для свиданий. Там был уже следователь Макеев. Сидел молчаливый, делал вид, что хмуриться. Он договорился с Сарычевым, как вести себя с Зиной, что говорить. Они, конечно, и не помышляли устроить свидание Зины с Анохиным.
— Где Коля? — спросила Зина.
Макеев только руками развел.
— Напрочь отказался… Говорит, зачем мне нужна эта встреча, только лишние страдания… Просил вам передать, чтоб вы считали, что он умер… просил забыть…
— Нет! Нет! Нет! — вскричала Зина, зарыдала, забилась в истерике, упала на стол. — Я хочу его видеть! Я хочу его видеть! Проведите в камеру!
Макеев с Сарычевым бросились успокаивать ее, совали стакан с водой. Она отталкивала его, кричала:
— Проведите в камеру! В камеру!
Еле успокоили, еле уговорили: в камеру нельзя, в камеру никому нельзя!
Сарычев долго возил ее по городу на машине, успокаивал, говорил ласковые слова, а она плакала, молчала, смотрела на улицы пустыми глазами. Слезы безостановочно текли по ее щекам. Чуть ли не силой затащил он ее в ресторан, заставил глотнуть водки, немного поесть. Потом привез в общежитие, уложил в постель, сидел рядом, держал ее руку в своей, пока она не уснула. Оставил на столе записку, что не поедет в Уварово, ночует в Тамбове, и утром придет к ней.
И действительно пришел. Опять чуть ли не силой вытащил на улицу, увез в лес, ходил рядом с ней, пытался развлечь, говорил, говорил, говорил. А она молчала, потом сказала:
— Все кончено! Зачем жить? Зачем? Нет смысла… Надо уходить…
— Ты только жить начала! Первое горе и ты сразу крылья опустила! Посмотри вокруг, чего только в этом мире не делается? Оглянись!.. У последних подлецов таких мыслей нет… Ты-то при чем? Что ты сделала? За что ты мучаешься?
Сарычев снова завелся, говорил, говорил о людях, которые ее любят, которым она дорога беспредельно. Говорил, пока она не вздохнула тяжко:
— Брошу я институт, уеду отсюда…
— Погоди, не спеши, все уладится, увидишь… Это он сейчас тебе все небо заслонил, а завтра по иному увидишь мир. Поверь!
— Не знала, что ты такой мудрый, — буркнула она.
«Значит, слушает!» — обрадовался он.
— Ты меня вообще не знаешь!.. Давай уедем с тобой на недельку на юг, на север. Всего на недельку! Я буду твоим рабом, я буду сдувать с тебя пылинки! Я не коснусь тебя пальцем! Я хочу, чтоб ты выздоровела! Только этого и хочу!
Зина зарыдала снова. Он не успокаивал ее, покорно шел рядом меж деревьев, понимал, что это иные слезы, не тяжкие, а очистительные.
— Давай уедем, давай, — прошептала она. — Я не могу здесь!
Они прямо из лесу поехали в аэропорт. По дороге Сарычев соображал, куда лететь? Хватит ли денег на билеты? Потом пришлют, конечно. Юг, море успокоит ее, решил он и купил билеты в Крым. Позвонил своему начальству, уговорил дать отпуск на недельку, а своего зама попросил выслать деньги в Ялту, в Главпочтампт до востребования.
Полет немного развлек Зину. Она впервые летела на самолете, смотрела на редкие облака, на землю, на зеленые поля, на серые нитки дорог, по которым навстречу друг другу ползли маленькие точки машин, и вдруг засмеялась, сказала громко:
— Хоть бы мы сейчас упали! Как хорошо было бы!
Седая женщина, сидевшая впереди, оглянулась на нее с недоумением и страхом. Зина показала ей язык. Она отвернулась, покачала головой и спряталась за высокую спинку сиденья. Сарычев подмигнул Зине и пожал ей руку.
Море было теплое. Зина первые два дня не входила в воду, сидела на теплой гальке, брала ее в руку и сыпала себе на ноги. Много гуляли по набережной, по переулкам Ялты, по парку. Зина по-прежнему молчала, но уже не была такой безучастной, смотрела по сторонам, слушала болтавню Сарычева, изредка улыбалась. Она была в первый раз в Ялте, первый раз видела море, а он уже хорошо знал город и предместья.
Жили они в одной доме, но в разных комнатах. Сарычев до поздней ночи бывал у Зины, сидел на краешке ее кровати, как в больнице у больной, держал ее руку в своей, пока она не засыпала. Тихонько касался губами ее лба и уходил. Он был ее другом, ласковым другом. И видел, чувствовал, что она начинает ценить его нежную дружбу.
20. Судья
Судья Анна Романовна Чеглакова получила новое дело, необычно тонкую папку, сидела в кабинете своего начальника, полноватой, седой женщины, слушала ее, разглядывая папку у себя на коленях, и искала повод открутиться от поездки на совещание в облисполком. В стране начиналась очередная компания по борьбе с хулиганством в быту и сквернословием. Судья понимала, что совещание проводится для галочки, чтобы отметить, что ведется работа. Если бы совещание было в рабочее время, то Анна Романовна спокойно поехала бы на нее. Но после работы ей нужно было забирать девочку из детского сада. Не будет же сидеть с ней нянечка, ждать, когда совещание закончится. А муж назло ей не пойдет за девочкой, было уж такое. Надо опять упрашивать сестру, у которой со своими детьми забот полон рот. Но и отказаться неудобно. Только вчера был доверительный разговор с начальницей, и она обещала помочь Анне Романовне с квартирой. Услышав, что председатель облисполкома Климанов желает видеть на совещании именно ее, Анну Романовну, судья подняла голову и спросила с надеждой:
— Вы… ему говорили?
— Был разговор, — ответила начальница, сдвигая кресло на колесиках вправо, и потянулась за пачкой сигарет в дальний угол стола.
Кресло тонко и жалобно скрипнуло под ее грузным телом.
— И что он? — быстро спросила судья.
— Кто же сразу ответит, — достала начальница сигарету. — Не отказал и то хорошо… Воспользуйся случаем… поговори, — шепелявя, держа сигарету в зубах, проговорила она.
Анна Романовна не была знакома с Климановым. Видела его много раз, но познакомиться не довелось. Разные уровни. Сидя на совещании, которое он вел, судья придумывала, как подойти к нему, как заговорить. Человек он занятой, сразу уйдет в комнату президиума, и к себе. В кабинет к нему не пробьешься. Записываться надо на прием. Да и пожелает ли он сам принять. Замов много. К ним направят, когда узнают, что она по жилищному вопросу. А жить дальше так, как живет она, невмоготу. Дочь истеричкой вырастет, глядя на бесконечные ссоры родителей, на постоянную злобу, ненависть друг к другу. Анна Романовна неожиданно поняла, что нужно делать, достала бумагу, черкнула на ней нервно: прошу слова! Подписалась и передала записку в президиум. Нервно следила, не зная еще, что говорить будет, как записка шла по рядам зала из рук в руки, как из первого ряда ее передали прямо Климанову. Он развернул, прочитал и, как показалось Анне Романовне, одобрительно кивнул. Потом, когда очередной оратор покинул трибуну, сразу дал ей слово.
Говорила она о том, что всем опостылело сквернословие на улицах, в общественных местах, в семье, что сквернословы потенциальные преступники, что люди, избегающие похабщину, никогда не совершат преступления. Говорила, что пусть матерщинники не ждут снисхождения от них, судей. Говорила, а самой казалось, что это не она говорит, а кто-то другой, а она сидит в зале, позевывает, не вслушиваясь в эти пустые газетные слова.
Ей недружно похлопали, как, впрочем, и другим. Все понимали, что ничего их слова не изменят. Как матерились люди, так и будут материться. Чтобы что-то изменить, надо прежде изменить условия их жизни.
Анна Романовна с нетерпением ожидала конца совещания, мечтая перехватить Климанова в приемной, попросить у него минутки две, чтобы выслушать ее. Надо успеть раньше других выскочить из зала и подняться на второй этаж. Смущало одно: вдруг он прямо из зала совещания уедет куда-нибудь, не заходя в кабинет.
Люди бодро захлопали откидными сиденьями кресел, поднимались довольные, что наконец трепотня закончилась, можно заняться своими делами. Анна Романовна впилась глазами в Климанова, который не торопился уходить со сцены. Его сразу окружили люди, стали расспрашивать о чем-то, задавать вопросы. И судья тоже рванулась на сцену, поднялась по ступеням, встала в сторонке, там, где был выход, чтобы Климанов, уходя, шел мимо нее, и она могла обратиться к нему. Анна Романовна, волнуясь, ждала, не спускала глаз с председателя облисполкома, смотрела, как рассасываются люди вокруг него. Она видела, как Климанов глянул в ее сторону. Глаза их встретились и — о, чудо! — он улыбнулся ей доброжелательно и тут же отвернулся к своему собеседнику. Анна Романовна машинально поправила рукой прическу, чувствуя, как загорелось лицо. Вспомнилось, что, по слухам, Климанов жизнелюб, не чурается женщин. Мелькнуло в глубине сознания, что, может, она приглянулась ему, собой она неплоха, довольно свежа еще в свои тридцать лет, худощава, стройна, кожа на лице нежная, без морщинок. Климанов мужчина видный, крепкий, крупный. Седина только украшает его. Лицо немного грубовато, нос широковат, но это ерунда. За квартиру Анна Романовна черту лысому отдаться была готова. Улыбка Климанова, как бы приглашала дождаться его, давала надежду.
Председатель облисполкома наконец-то пожал поочередно руки своим собеседникам и двинулся к ней, чуть улыбаясь своими толстоватыми губами.
— Вы молодец, Анна Романовна, — коснулся он легонько ее руки чуть ниже локтя, — хорошо сказали… Идемте… Верно, надо всем миром навалиться на сквернословов, не давать им покоя ни дома, ни на работе, сделать наконец жизнь нашу чище, светлее. Особая роль тут у вас, у народных судей. Мы что, мы можем только словами воздействовать. — Они вышли в коридор и направились по мягкой красной ковровой дорожке к его кабинету. — А у вас в руках кнут, вы можете и физически воздействовать. Хватит нашим женщинам терпеть. Натерпелись… Жизнь одна…
— Верно, верно, — вставила Анна Романовна. — Ох, как я натерпелась! Врагу не пожелаю!
— Слышал я немного… Что же вы не поделили?
— Пойми теперь что?.. Женились по любви… По горячей любви! А через девять месяцев, когда мне рожать надо было, он любовницу завел… И сам же признался… Честный! Вот и пошло… Может, и я себя не так повела, может, молчать надо было, терпеть! Да разве утерпишь… Нервы, ребенок… Скандалы каждый день… Трезвым он перестал домой приходить… Гадко все. А живем в одной комнате… Деться некуда… Придешь с работы, приведешь девочку, а у него либо дружки пьяные, либо девица. Хорошо, если за столом… бывает и в постели… Да еще норовит на мою кровать уложить. Нарочно делает, чтоб позлить… Понятно, какой концерт бывает… И так почти каждый день…
— А квартира чья? — остановились они возле двери в приемную.
— Его… Не выгонишь… И мне идти некуда.
— Ну да, ну да… Это не жизнь, — сочувственно проговорил Климанов, открыл дверь, вошел в свой кабинет, сказав секретарше: — Кофейку нам!
Анна Романовна вошла следом. Сели.
— Вы видели, верно, на Интернациональной улице кирпичный дом вырос. Сейчас отделка идет. Через месяц распределять будем. Я надеюсь, вам тоже там двухкомнатная квартирка найдется…
— Сергей Никифорович! Сергей… — вскочила ошеломленная Анна Романовна. — Да я… я…
— Сиди, сиди! — засмеялся, замахал обеими руками Климанов, успокаивая. — Я не при чем. Вы заслуживаете… Отзывы о вас самые хорошие…
Секретарша внесла на подносе две дымящиеся чашечки кофе, сахарницу с сахаром и конфеты на блюдечке, расставила все на столе, отметив, что руки у судьи подрагивают от волнения и ужасно возбужденное лицо.
— Не сегодня это решать будем, еще целый месяц впереди… Всяко может случиться, — говорил Климанов, поглядывая то на секретаршу, лицо которой выражало саму любезность, то на ярко алое лицо судьи, довольно милое и симпатичное. «Бедная женщина! Как она теперь соскучилась по мужской ласке! Видно, темпераментная!».
Когда секретарша вышла, Климанов поднялся, достал из холодильника начатую бутылку коньяка, из шкафа — две рюмки, поставил их на столик возле кофе и сел напротив Анны Романовны, налил в рюмки, говоря:
— Понемногу за знакомство… и поговорим о грустном…
Анна Романовна посчитала неудобным отказаться от коньяка, выпила, взяла конфету.
— Как мне известно, вы будете вести дело моего земляка? — спросил Климанов.
Судья вспомнила дело насильника Анохина, которое, получив сегодня утром, она успела бегло перелистать, вспомнила, что преступник, как и Климанов, из Уварово. Она поняла, что они знакомы, ведь насильник журналист, зам редактора районной газеты: это ее больше всего поразило. Неужто он при таком положении девку себе найти не мог? Непременно надо насиловать? И все дело было какое-то сомнительное. Следственного эксперимента не провели. Показания свидетелей, да протокол допроса насильника, в котором он признавал свою вину. Видно, Климанов будет сейчас просить быть помилосердней к преступнику. Она с удовольствием вернет дело на доследование, а там откроется масса новых обстоятельств, при которых, если надо председателю, она сможет легко замять дело. Все, что угодно сделает, лишь бы вырваться из дома мужа, лишь бы квартиру на Интернациональной не упустить. Это же два шага от работы. О таком подарке она мечтать не смела. Любой комнатушке на краю Тамбова рада бы была. Все это в один миг пронеслось в голове судьи, и она переспросила:
— Вы имеете в виду дело Анохина?
— Ну да… Опозорил, гад, мой район! — вздохнул горько Климанов. — Да и во всей области такого маньяка за свою жизнь я не припомню… Вот сволочь, что ему надо было? А?.. Выродок, настоящий выродок! Врачи говорят, такие неисправимы… Отсидит свои пятнадцать лет, если его в живых оставить, вернется и опять за свое. Такое уж не раз бывало! Это вы и без меня знаете. Примеров полно… — говорил горестно Климанов, держа чашку с кофе в руке и изредка отпивая глоток. — Вы пейте, пейте кофе! Стынет!.. Ой, как представлю свою дочь в руках такого садиста, дрожь берет, мурашки… Сколько вашей дочурке?
— Третий годок, — подняла Анна Романовна чашку с блюдечка. Она еще не понимала, к чему клонит председатель облисполкома.
— Вот-вот, представьте себе… Через пятнадцать лет ей будет восемнадцать. Вернется этот гад, по-другому я его назвать не могу, из тюрьмы, выследит вашу дочку… — Климанов замолчал. — Ну да, — качнул он головой, — страшная картина!.. Нет, нет, безжалостно надо очищать землю от садистов, маньяков… Правильно вы выступали сегодня… безжалостно надо выжигать! Милосердие может только навредить невинным людям… Хочется побыстрее покончить с этим делом, чтоб шум до столицы не дошел. Скажут, напишут, вот какие дела в Тамбове творятся, маньяков развели… Позор на весь Союз. Не хочется, чтоб имя наше трепали даром из-за каких-то садистов… Надеюсь, вы меня понимаете?
Анна Романовна кивнула. Она действительно поняла, что Климанов хочет поскорее отделаться от этого скользкого дела, опасается за свою карьеру. И от секретаря обкома удар решил отвести. Всем им хочется, чтоб сор в избе оставался, чтоб ничто не мешало спокойной работе, спокойной жизни.
— Месяца вам хватит разобраться?
— Там все ясно, — быстро ответила судья, ставя чашку на блюдечко. — Две недели хватит на подготовку суда.
— Ну вот и ладненько… И пожестче, пожестче! Ваш настрой мне нравится… В Уварово народ грозит райком партии разнести, если этот сексуальный маньяк в живых останется. Мол, райком своего не осудит, всегда выручит… Имейте в виду, Анохин хитер, умен, изворотлив, может, что угодно наплести, выдумать, чтоб суд затянуть, запутать, в живых остаться. В фантазии ему не откажешь… — Климанов поднялся, прощаясь, и улыбнулся, заговорив о другом: — А на новоселье меня не забудьте пригласить! Непременно приду… Приятно посидеть за одним столом с такой красавицей!.. Дурак у вас муж! Ох, дурак! Ничуть в женщинах не разбирается…
21. Суд
Левитан оказался прав. К следователю Анохина не вызывали долго. Подбитый глаз начал открываться, не мешал читать. Синяки на теле почернели, потом стали светлеть, исчезать. На ногу уже не больно наступать. А его все не звали. В камере Анохина больше не беспокоили, не обращали на него внимания. Он не принимал никакого участия в жизни камеры: не играл ни в какие игры, хотя умел и любил играть и в шашки, и в шахматы. Если предлагали, отказывался, говорил, что не умеет. Обида за позор первого дня не отступали. Когда подсаживались к нему поговорить, отвечал односложно: да — нет! Сам ничем не интересовался, никого ни о чем не спрашивал. Только читал; газеты, книги, что попадалось под руку. Если долго не меняли книги, перечитывал заново уже знакомое.
Однажды к нему подсел стриженый, тот, что вместе с узкомордым пытался его изнасиловать. Кликуха у него была Игрок. Азартный человек, играл во все игры, встревал во все дела, во все камерные свары.
— Ты, это самое, не дуйся слишком, — начал Игрок. — Знаю, обидели… Но пойми, таков закон, не нами придуман: помял крылышки — надевай юбку… Мы не знали, что тебя, это самое, подставили… А закон, понимать должен, справедливый. Ведь так?
Анохин молчал, не отвечал ничего.
— Вот так… Ты парень безобидный… В общем, так… Договорились! — Игрок хлопнул по плечу молчаливого Анохина и ушел к столу.
А узкомордый, по кликухе Мерин, не замечал Анохина. Не замечал Мерина и Николай.
Дождался все-таки вызова к следователю Анохин. Шел по коридору собранный, думал, что сейчас он все расскажет, напишет собственноручно обо всем, что знает. Лишь бы ручку с бумагой получить. Сел напротив следователя Макеева, этого скользкого человека, ожидая допроса. Стол перед следователем был совершенно пуст: ни ручки, ни бланка протокола допроса, ни клочка бумаги. Следователь Макеев молчком рассматривал его с некоторым любопытством. Теперь это был любопытный человек с грустноватыми глазами. Насмотрелся, спросил лениво, без интереса:
— Вспомнил, где пленочка?
— О какой пленочке вы спрашиваете, поясните? — приготовился к бою Анохин.
— Ух ты, сколько слов сразу! А говорят, немногословный… Не нужна нам твоя пленочка, — вздохнул устало грустный следователь. — Пусть гниет… Не хочешь вспоминать, не надо. Тебе она никогда не понадобится… Вызвал я тебя не затем. — Макеев сделал скорбное лицо. — Печальную весть я тебе принес… Вынужден, так сказать, сообщить тебе, что твоя мать умерла…
— Как?! — вскочил ошеломленный Анохин, схватился за край стола.
— Вот так… — развел руками скорбный следователь. — Сердечный приступ… Инфаркт.
— Это вы ее убили! — выкрикнул Анохин. — Вы! Как вы мне ответите за это! Как вы ответите!
— Не брызгай слюной, присядь! — сказал печальный следователь. — Кому мешала бедная старушка? Никому… Присядь, присядь! Не горячись, видишь, всем сердцем разделяю твое горе. Будь моя воля, я бы тебя на похороны отпустил… Но сам знаешь, закон… Да, закон…
Макееву действительно было жаль Анохина. Видно, этот парень прикоснулся к тайнам больших людей, хозяев жизни. Ничто теперь его спасти не может. Судьба Анохина все время напоминала Макееву, что он тоже маленький человек, ничтожный клоп, которого сразу раздавят, если он даже не укусит, а только покажется из своей щели на глаза хозяевам.
Николай сел, с ненавистью глядя на сытое грустное лицо Макеева. Он понял свое полное бессилие, беспомощность, понял, что чтобы он ни говорил сейчас, следователь его не услышит.
— У тебя еще есть родственники?
Анохин подумал о своей сводной старшей сестре, дочери отца, в далекой деревне Масловке, о детях ее, своих племянниках, брате и сестре, и ответил:
— Нету… Есть невеста… Мне надо написать ей письмо.
— Зачем? Забудь о ней, зачем ее тревожить, ранить. Не думаю, что ты ее обрадуешь своим посланием, не думаю, что ты ее когда-нибудь увидишь. Это уже не в твоей власти… Дело твое оформлено и передано в суд…
— А как же допрос?
— Какой допрос? Все уже опрошены. Всем все ясно… Ни одного вопроса ни у кого нет. Жди суда!
Оглушенного и вновь раздавленного смертью матери Николая Анохина привели назад, в камеру. Он понимал, что умерла мать от горя из-за него. Конечно, она ни на секунду не верила, что он насильник. Ждала, надеялась, что его вот-вот выпустят, страдала, и сердце не выдержало. Николай вновь не спал несколько дней, думал о матери, представлял, как она металась от прокурора к адвокату и обратно. Искала правду. И всюду ее уверяли, что она вырастила маньяка.
В эти дни Анохин стал быстро седеть. Постепенно приходил в себя, все чаще думал о суде, стал готовиться к нему, продумывать ответы на вопросы, свою речь. Долго решал: отказаться от адвоката или принять. Все равно он будет работать против него. Как жалел теперь Анохин, что никогда не интересовался, как проходит суд. Ни разу не был в суде. Знал только, что слово подсудимому дают, что бывают на суде зрители. Даже если судья будет подкуплен, Анохин все расскажет слушателям, а они передадут своим знакомым. Пойдет слух о нем, и может быть, кто-то из знакомых журналистов заинтересуется его делом, пожелает встретиться с ним.
Не верилось Анохину, что Перелыгин предал его. Ошибается Левитан. Не может такого быть! Перелыгин должен ему помочь. Как только он услышит о его беде, он прибежит к нему. Он напишет обо всем. Он-то знает причину его ареста. Он теперь бьет во все колокола. Неужели Перелыгин ни разу не был у прокурора, в исполкоме? Не может такого быть! Случись что с Перелыгиным, он, Анохин, немедленно ринулся бы помогать другу. А если Перелыгин поверил, что он смог изнасиловать? Неужто поверил? Тогда какой он друг?..
А Зина, что делает Зина? Неужели она поверила, что он убийца, насильник? Неужели поверила, что он сразу после ночи с ней, такой прекрасной ночи, мог думать о другой, мог изнасиловать? Если так, то зачем тогда жить, кому нужен такой мир! Нет, она не могла поверить! Что она теперь думает, что делает?
А мама, что она перенесла, как она жила эти дни после его ареста? Как смотрела в глаза соседям, когда прошел слух о его злодействе? Она, конечно, не поверила! Они убили ее этим известием. Они убийцы! Мстить, мстить! Смести нечисть с русской земли!
Анохин стал думать о мести, о жестокой мести! Вся его жизнь разрушена. Чтобы теперь ни случилось, даже при самом счастливом стечении обстоятельств, он уже не сможет жить так, как жил прежде. Не сможет! Не забыть того, что было! Не забыть! Не говоря уж о том, что он все потерял. Даже если его оправдает суд и накажет его мучителей, разве возьмут его главным редактором в газету? Разве сможет он по-прежнему работать в Уварово? Разве сможет он по-прежнему служить этой власти, сможет не подозревать каждого партийного работника в мошенничестве? Разве сможет писать по-прежнему? А если не сможет, то как будет жить? Что делать? В таких мучительных размышлениях прошли дни до суда.
О том, что суд будет закрытый, Анохин не знал, не догадывался. Что такое закрытый суд он узнал только тогда, когда его привели в зал. Он был пуст. Сидели за своими столами прокурор и адвокат. Сразу же после того, как два конвоира ввели Анохина в зал, вошла женщина и строгим голосом объявила:
— Встать! Суд идет!
Прокурор с адвокатом встали, а Анохин еще не успел сесть, стоял за барьером, смотрел, как друг за другом, гуськом, входят три женщины с серьезными лицами. «Сказать, сказать им все! — вертелось в голове Анохина. — Они поймут, они вернут дело на доследование!.. Следователя заменят, другой все узнает, расследует, и преступникам не уйти!».
Слушал он обвинительное заключение с тоскливой дрожью во всем теле, хотелось перебить, крикнуть, что не так это! Вранье! Состряпано! Но он сдерживался, дадут слово, тогда все скажет. По обвинительному заключению получалось, что он весной изнасиловал и убил одну девушку, потом повторил свои действия. Но во время насилия ему помешали парни, схватили на месте преступления, поймали и доставили в милицию. Когда Анохин услышал, что он признался в совершенном преступлении, он не выдержал, воскликнул:
— Неправда!
— Что неправда? — строго и недоброжелательно спросила судья Анна Романовна. — Ваши показания имеются в суде… Не мешайте работе! Вам дадут слово!
Анна Романовна помнила предупреждение Климанова, что Анохин не дурак, изворотлив, может, что угодно придумать, чтобы затянуть суд или попытаться вернуть дело на доследование. Готовясь к судебному процессу, она решила, как можно меньше давать слов обвиняемому, а если понадобиться, то вывести его из зала. Взглянув впервые на Николая Анохина, она, действительно, увидела бандитскую рожу и поняла, что он решил играть роль невинного или раскаивающегося ягненка, лишь бы сохранить жизнь. Бить на жалость! Нет, нельзя расслабляться, подставлять дочь таким извергам, чем меньше их на земле, тем легче жить, спокойнее. Климанов ждет самое суровое наказание. И оно будет!
Судьба обвиняемого была решена. Опасения Анны Романовны оправдывались. Анохин даже обвинительного заключения не дослушал, начал перебивать.
А Анохин потрясен был, когда услышал, что девушка, которую изнасиловали, покончила с собой, бросилась с пешеходного моста на рельсы на глазах у тех самых парней, теперешних свидетелей, и нового начальника милиции. «Убили! Сбросили! — мелькнуло в голове. — Они способны на все!». Поразило и то, что Сарычев был с ними. «Неужели прав Левитан? Неужели Сарычев с ними? Не может быть, обманули его как-то?».
Опрос свидетелей начали с подруги потерпевшей. Она рассказала, как возвращалась с Валей домой с работы, как кто-то выскочил из кустов, схватил ее подругу, а она испугалась и убежала. Кто схватил, и сколько их было, она не успела заметить. Вроде бы один.
Потом по очереди вызвали Мишку и Славика. Они слово в слово повторили, как шли ночью мимо лесопосадки и услышали в кустах какую-то возню, сдавленные крики, хрипенье, бросились туда и захватили вот его, указывали они на Анохина, прямо на месте преступления. Он насиловал девчонку.
— Неправда! — вскричал Анохин, вскакивая со своей скамьи, когда Мишка первым рассказывал эту версию. — Я лежал в кустах связанный! Это они насиловали, они!
— Что за бред! — воскликнула Анна Романовна. — Успокойтесь, а то попрошу вывести! Вам дадут слово!
«Начинается! — подумала она. — Только что-то ума большого не видно. Мог бы что-то посущественней, потолковей придумать, чем обвинять в насилии свидетелей».
Анохина начало трясти. Он видел, что суд идет не так, как ему хотелось бы, что слушать его не хотят. Как быть? Как потолковее рассказать? Как сделать, чтобы выслушали. Адвокат задавал вопросы свидетелям, но все они, по мнению Анохина, были не по существу, а только уточняли, утверждали версию свидетелей и следствия.
Адвокат, познакомившись с делом, поверил, что Анохин действительно насильник и убийца. Это, по его мнению, доказано. Он решил побороться за жизнь Анохина. Он хотел встретиться с Николаем перед судом, чтобы поподробнее узнать о его жизни, чтобы на суде напирать на его неопасность для общества, но адвокату передали, что обвиняемый отказался от встречи с ним. Адвокат решил, что Анохин совсем опустил руки, кается и хочет понести самую суровую кару. На этом и хотел он построить свою защиту, разжалобить судей и чуточку смягчить приговор. Но обвиняемый вдруг повел себя не по придуманному адвокатом сценарию, зачем-то стал отпираться, кричать — неправда! — потом вообще сделал глупость: обвинил свидетеля, спасителя девчонки, что это он изнасиловал. Идиот, защищай такого, когда он сам в петлю лезет!
Наконец-то дали слово обвиняемому. Анохин встал, страшно волнуясь. Его трясло, руки дрожали. Он сжимал пальцы в кулак, чтобы не видно было, что руки ходят ходуном. Надо все рассказать, все!
— Я — журналист. Работаю в районной газете заместителем редактора… По некоторым фактам я стал догадываться, что на нашей Уваровской трикотажной фабрике что-то нечисто. Я поехал туда, но не к директору, а в цех…
— Это было в день преступления? — перебила, решила уточнить Анна Романовна.
Для нее было ясно, что Анохин придумал какую-то историю, чтобы запутать дело. На этот раз, видно, решил действовать умнее.
— Нет, недели три назад…
— Какое это имеет отношение к делу? То, что вы журналист, мы знаем, и чем занимаются журналисты, тоже знаем. Переходите к делу, давайте по существу. Вы признаете себя виновным в совершенном преступлении?
— Нет.
— Ясно… — Судья обратилась к секретарю суда. — Так и запишите: обвиняемый вину свою не признал. — И вновь обратилась к Анохину. — Почему же вы следователю признались в совершенном преступлении?
— Меня вынудили, заставили! — воскликнул Анохин, начиная нервничать. Он почувствовал, что дело его опять уходит в сторону, что не дадут ему все рассказать. — Меня били!
— Следователь бил?
— Нет. В камере!
— В камере били, а вы следователю признались, что изнасиловали и убили двух девушек? Хороша логика!.. Садитесь, суду все ясно!
— Я не все рассказал! — воскликнул Анохин.
— Садитесь! — жестче повторила Анна Романовна. — У суда к вам вопросов нет. Не мешайте работать!
Анохин не садился, губы его дрожали.
— Вас что, вывести из зала?!
Николай медленно опустился на скамью и обхватил голову руками. Все!
Прокурор потребовал высшей меры наказания.
Адвокат бойко, но не искренне, просил не применять к его подзащитному высшей меры, просил учесть молодость, высказал уверенность, что пятнадцати лет достаточно, чтобы осознать всю степень своей вины и исправиться.
Суд удалился совещаться.
— Кажется, тут все ясно… вопросы не возникают, — сказала Анна Романовна. Она была довольна, что суд прошел гладко, без эксцессов. Климанов будет доволен. Вероятно, он поинтересуется, как прошел суд над его земляком. — Нельзя его оставлять в живых!
— Может, пятнадцать лет? — засомневалась одна из народных заседательниц, маленькая, круглолицая, с тремя глубокими морщинами на лбу.
— Нет! — уверенно ответила судья. — Я не хочу рисковать своей дочерью. Через пятнадцать лет ему будет сорок… Вернется, опять кого-нибудь непременно задушит и изнасилует. Врачи говорят, такое неизлечимо. Таких либо пожизненно надо изолировать от общества, либо высшая мера… Пожизненного у нас нет… Его дело на контроле в обкоме… Валентина Петровна, заполните протокол решения суда…
— Ну что? — уставились на Анохина сокамерники, когда его привели.
— Вышка! — выдохнул Анохин и жалко улыбнулся. Внутри его было мертво.
— Шутишь?
— Отшутился… Хана мне…
Анохин лег на нары лицом вниз. Лежал неподвижно.
В камере было необычно тихо, словно в ней был покойник.
22. Адвокат
Решение скорого суда было так неожиданно для Николая Анохина, что он не сразу осознал, что приговорен к смерти. Он слышал слова судьи, понимал, что значит высшая мера наказания, но сердце и разум отказывались принять, осознать это. После суда, по дороге в тюрьму нашло какое-то отупение, омертвение всего. Было только чувство общей катастрофы, полного обвала всей жизни. Анохин верил в суд, был убежден, что он решит все по справедливости. Не мог думать, что кто-то действительно искренне считает, что он преступник, что он насильник. Неужели трудно понять, что это абсурд? Николай был уверен, что суд его оправдает, освободит из-под стражи и отпустит.
Лежа на нарах, он часто представлял, как вернется домой, как встретится с Зиной. Она, конечно, ни разу не засомневалась в нем, ни секунду не верила, что он насильник! Как она теперь переживает, страдает, мучается из-за него! И как сладка будет встреча! О том, как он будет себя вести с Перелыгиным, Анохин не думал, не верилось, что он предал. С ним надо по-мужски поговорить, без виляний, глядя в глаза друг другу. Тогда станет все ясно. А как быть с Долговым, с Сарычевым? Верно ли, что именно Сарычев организовал ловушку для него, арест? Изнасилование девчонки? Ничего, с этим он разберется потом, а сейчас главное суд. Оправдание. Главное выкарабкаться из тюрьмы.
И вот суд позади. Анохин лежит на нарах. Ни мыслей, ни чувств. Полное отупение. Тела он тоже не чувствует. Пустота. Только ощущение тошноты. Смутно кажется, что тело парализовано, невозможно шевельнуть ни рукой, ни ногой.
Шума в камере он не слышит.
Ничего нет вокруг.
Время остановилось.
Мир умер.
Ужинать Анохин не стал. Просто не услышал, когда его позвали. Не шевельнулся.
Ночь пролежал с открытыми глазами неподвижно, на спине. Утром его растормошили. Он долго не мог понять, что пришел адвокат. Вызывает.
Равнодушно брел по коридору. Конвоир, поругиваясь, подгонял его, подталкивал в спину, но он не чувствовал толчков, не реагировал на них. Адвокат увидел его состояние, усадил на табуретку, сказал, что написал Председателю Верховного Совета СССР Леониду Ильичу Брежневу прошение о помиловании, что без согласия главы государства к нему не имеют права применить высшую меру наказания.
— Подписывай, — адвокат протянул ручку Анохину и пододвинул по столу листы бумаги. — Читать будешь?
Анохин взял ручку, но она выскользнула из его вялых пальцев на стол.
— Что ты как кукла тряпичная! — рассердился адвокат. — Соберись! Тебя еще не расстреливают. Будь мужчиной!
— Я не насиловал, я не убивал, — выдавил из себя хрипло и еле слышно Анохин.
— Так ли? — насмешливо спросил адвокат. — Суд позади! Чего теперь юлить. Я не следователь и не судья.
Адвокат был уверен, что Анохин маньяк и приговор получил по заслугам. Но он обязан был писать прошение о помиловании. Это была его работа. И он выполнил ее добросовестно, как и полагалось. Адвокат не верил, что Председатель Верховного Совета СССР будет читать прошение. Дел, что ли, у него нет других. Подмахнет, утвердит, и нет человека. Ни разу не слышал адвокат, чтобы кого-то помиловали.
— Я не насиловал, — вновь прошептал Анохин, пытаясь уцепить непослушными пальцами ручку на столе. — У меня невеста… мы только подали заявление в загс…
— Тебя же с девки сняли, — усмехнулся адвокат.
— Они держали меня в кустах связанным и с заткнутым ртом, а сами насиловали…
— И зачем же это? Не проще было бы пристукнуть тебя в этих кустах, чем так изощряться? — не верил адвокат.
— Они отравили начальника милиции… Они убили зам начальника милиции через три минуты, как он вышел из моей комнаты. И меня б убили давно, если б не пленка, — вяло выговаривал Анохин. Он не оправдывался, просто говорил, как было.
— Какая пленка? — вырвалось у адвоката совсем другим тоном.
Он слышал, что в Уварово неожиданно умер сорокалетний начальник райотдела милиции, а потом почти сразу же погиб в автокатастрофе его заместитель. Странный случай! В три дня районная милиция лишилась своего руководства. Но никаких слухов в Тамбове по этому поводу не возникло. Бывает. Совпадение. Никто не соединял эти две неожиданные смерти с делом Анохина. А он ведь был не только из Уварово, но видным в районе лицом. Не только знал руководителей милиции, но часто виделся с ними. А если Анохин, действительно, никого не убивал и не насиловал, его просто убирают. Он встал на пути у кого-то очень сильного. Это быстро промелькнуло в голове адвоката, и он понял, что находится на пороге какой-то тайны, из-за которой гибнут люди. Тревога и чувство опасности сжало грудь, и он быстро перебил Анохина, который заговорил, отвечая на его вопрос.
— С документами… Мы с зам начальника милиции пересняли…
— Не надо! Эти байки ты на суде пытался гнуть… Молчи! — испуганно крикнул адвокат.
Николай говорил до этого в стол, не поднимал головы, не смотрел на адвоката, но теперь поднял глаза, увидел, ощетинившегося, готового к защите человека, и вместе с тем бледного, растерянного, жалкого… Что с ним? Вспомнился Перелыгин после рассказа о пленке. Он был таким же. Вот как меняет людей эта чудодейственная пленочка!
Они смотрели друг на друга. В полном молчании. Не отрываясь. Анохин почувствовал, что кролик не он, а адвокат, и улыбнулся, оживая.
— Я не буду… обременять вас, — теперь усмехнулся он, но пока еще криво. — Живите спокойно, если можете… Где подписывать?
Адвокат молча указал пальцем на лист внизу текста, быстро вытащил из кармана платок и начал промокать лоб с большими внезапно вспотевшими залысинами. Анохин подписал, поставил дату, положил ручку на лист.
— Отправите? Не забудете? — посмотрел он на адвоката.
— Об этом не беспокойтесь, — буркнул адвокат, забирая ручку и лист и укладывая их в папку. — Это мой долг! — добавил он, пытаясь говорить с достоинством.
Не попрощался, быстро пошел к двери.
23. Зачем жить?
Анохин считал, что теперь его долго беспокоить не будут. Пока не придет ответ из Москвы. При Сталине расправа после суда была скорой. Расстреливали в двадцать четыре часа. Теперь исполнение приговора, как ему объяснили в камере, может затянуться на год, а то и на два. Всяко бывает.
Подписав прошение о помиловании, Анохин вернулся в камеру в ином состоянии. Шел по коридору уверенно, быстро, держа руки за спиной. Конвоир едва поспевал за ним, стучал сапогами по каменным плитам, громко чиркал железными подковками. «Надо не раскисать! Хорошенько обдумать свое положение!» — решил Анохин. В камере он не направился, как обычно, к своим нарам, а подошел к столу, где четверо играли в домино, а двое наблюдали за игрой, ждали, когда кто-то проиграет и можно будет их заменить.
— Будешь? — глянул на Анохина один из игроков, скуластый, добродушный парень, когда, закончив партию, начали перемешивать костяшки.
— Давай! — неожиданно для всех ответил Николай.
Скуластый парень отодвинулся в сторону, уступая место Анохину, и тот перешагнул через скамейку, сел за стол. Он заметил, что напарник скуластого, лысоватый с серым бескровным лицом, не доволен, что он сел с ним играть. Николай до этого не участвовал в жизни камеры, не знал, как кого зовут. Лишь позже, во время игры, он узнает, что его лысоватого партнера зовут Банан.
— Играл когда-нибудь? — буркнул Банан, кинув взгляд на Анохина исподлобья.
— Приходилось, — ответил Николай.
Внутри его все сидела боль и тягостная тоска.
— Следи за игрой, — оживился Банан и резко врезал костяшкой по столу, выдохнув: — Ебс!
— Клево! — стукнул по столу другой.
Анохин увлекся игрой, стучал вместе со всеми по столу, но тоска не отпускала, гнездилась глубоко в душе. Ему приятно было, что Банан оценил его игру. Они высаживали соперников одного за другим. Банан шутил, ерничал, подкалывал проигравших, сыпал матерными прибаутками и уголовным жаргоном. Он, видимо, не первый раз ждал суда. Давно освоился. Но шутки его и подколки были необидными. Вокруг смеялись, проигравшие отвечали ему так же беззлобно и, кряхтя, лезли под стол, по которому с хохотом, азартно начинали бить кулаками. Анохин улыбался, но не стучал кулаком, не шутил. Он заметил, что к нему обращались как-то бережно и необычно деликатно. Николай во время игры услышал позади себя разговор.
— Во, бля, за ночь белый стал! — восхищенно произнес кто-то.
— Хотел бы я глянуть на тебя на его месте: не только поседел бы, но и облез, — грубовато ответили говорившему.
— Я не о том… Первый раз вижу такое: вечером русый, утром белый…
Анохин догадался, что говорили о нем, и машинально провел рукой по волосам. На ощупь они были по-прежнему мягкие. Отдалившиеся боль и тоска приблизились снова, подступили к горлу, стали мешать игре. Он вылез из-за стола и подошел к мутному зеркалу над умывальником. Отшатнулся, не узнал себя. Старик! И окончательно поверил, что прошлого не вернуть. Все потеряно. Ничего восстановить нельзя. Матери нет, невесты нет, работы нет! Осталась только жизнь, да и ту отнять должны. И не жалко ее! Зачем жить? Что его удерживает на земле? Нет ему места в мире! Нет… Не лучше ли уйти сейчас, самому, не дожидаясь, когда другие отнимут? Как здесь это сделать, чтобы не помешали? Ночью?
Анохин вспомнил, что читал где-то, кажется, Леонид Андреев писал, как в тюрьме заключенный покончил с собой. Он прыгнул со стола головой в каменный пол. Если прыгнуть со второго яруса нар, то голова непременно расколется, разлетится, как лампочка.
Об этом он думал и ночью. Нары у него теперь были внизу. Но прежние, у параши, пустовали. Можно было потихоньку взобраться на них и нырнуть сверху головой в каменный пол. Анохин представил, как от грохота вскинется камера, как шарахнуться от его окровавленного тела, с размазанными по полу мозгами.
Николай потихоньку стал подниматься. Нары хрустнули тихо, скрипнули под ним. Но в общем храпе, сиплом дыханье, постанывании многих мужчин этот слабый шум был слышен только ему. Тускло светила лампочка под потолком. Рядом, на соседних нарах, шумно дышал пожилой мужик, ожидавший суда за то, что по пьянке сильно избил жену. Соседка вызвала милицию. Жена со злости и обиды написала заявление. Анохин потихоньку направился к пустующим нарам. Шел, крадучись, затаив дыхание, представлял, как будет осторожно взбираться на нары и нырять вниз.
— Не спиться? — как неожиданный удар, раздался шепот.
Анохин вздрогнул и остановился. Глянул в ту сторону, откуда раздался шепот. Узнал в полутьме Банана. Ничего не ответил Анохин и пошел к умывальнику. Исполнение приговора себе откладывалось.
«Почему я должен убить себя? — с прежней тоской подумал Анохин, укрываясь одеялом на своей шконке. — Разве я подло жил? Или я поступал мерзко? Разве я делал гадости кому-нибудь? Нет же… Я чисто жил, по-Божески… Да, я не ходил в церковь (надо бы Библию почитать), я не верил в Бога, не думал о нем. Нет, я никогда никому не говорил, что не верю в Бога, не доказывал никому, что он не существует. Просто не задумывался я серьезно, есть он или нет его. Учили с детских лет, что нет Бога. Ну, нет и нет… Но ведь с детства учили, что власть советская самая справедливая, что коммунист честнейший и справедливейший человек на земле, что партия — ум, честь и совесть нашей эпохи. Разве не коммунист Долгов, представляющий партию и власть в Уварово, загнал его в ловушку и теперь отнимает у него жизнь. Значит, нет совести и чести у партии, нет справедливости у Советской власти. Вранье, все вранье! Может быть, и с Богом так? Отменили, чтоб совесть не мучила, чтобы было все позволено… Надо попросить Библию! Завтра же… Напрасно не прочитал раньше… Где ее было взять. В Уварово все церкви давно разрушены… Если есть Бог, почему он допускает такую несправедливость, ведь он знает, что я чист? Зачем ему надо убить меня, убрать с лица земли? Я уйду, а эти мерзавцы, пролившие столько крови, будут жить, лить кровь дальше, будут наслаждаться жизнью, возьмут его невесту в жены! Зина будет ласкать Сарычева, забудет обо мне, о моем существовании. Сарычев внушит ей, что я садист, маньяк, убийца, что я получил по заслугам. Она проклянет ту ночь, нашу первую ночь, свою первую ночь! Неужели этого хочет справедливый Бог?.. Господи, разве я грешил? В чем мой грех? Я не почитал тебя, да, это грех, но я не нарушал твои заповеди! Я не убивал, не желал чужих жен, почитал отца и мать, не грабил! За что же Ты меня наказуешь? Почему негодяи должны радоваться жизни, радоваться своим мерзостям, а я умирать! Разве это справедливо? Если Ты милосердный, если Ты всевидящий и всемогущий, почему Ты закрыл глаза на мою жизнь? Почему Ты хочешь, чтобы я умер?.. Но Он не допустил сейчас моей смерти! — молнией пронеслось в воспаленной голове Анохина. — Я шел убить себя, а Он не допустил!.. Может быть, Он разбудил Банана, заставил его обратиться ко мне? Если так, то зачем? В чем Его тайный умысел? Ведь все равно меня убьют чуть позже. А если не убьют? Если Он знает, что расстрела не будет… Тогда зачем, зачем? Какова цель Его, и что я должен делать на земле, жалкий раздавленный червь? Страдать, смотреть, как наслаждаются жизнью гонители мои? Так? Нет, нет… Для чего тогда?.. Мстить? А если Он избрал меня ангелом мести? Может, Он хочет, чтобы именно я покарал их, наказал зло, очистил землю от этой мерзости? — Эта мысль мелькнула, резанула по сердцу болью, и легче стало, словно в груди нарыв прорвался, словно была решена судьба его. — Жить, жить, вот для чего стоит жить! Вот она цель! Жить, чтобы мстить!! Выжить, стать сильным и отомстить! Всем негодяям большим и малым! Ради этого стоит жить! Они изощренно убивали меня, они никого не жалеют. И он будет безжалостен с ними… Главное, выжить! Выжить…
24. В камере смертника
— Анохин, с вещами! — повелительно крикнул надзиратель в открытую дверь камеры.
Николай не поверил своим ушам. Зачем? Куда его? Неужто на казнь? — обожгло грудь. Прошение о помиловании только ушло в Москву. Вспомнились ночные мысли о Боге, о вновь обретенной цели. Неужели адвокат что-то предпринял? Или Левитан? И теперь его отпускают.
Но оказалось все жестче и проще. Его увезли в Орел, где в местной тюрьме приводили в исполнение смертные приговоры. В Тамбове этого не делали. Там, в Орле, в одиночной камере он должен был ждать решения своей судьбы.
Везли его в машине одного. Два конвоира сидели в кузове по другую сторону решетки напротив друг друга, искоса посматривали на него. Вскоре решили, что Николай Анохин не представляет для них опасности, стали подремывать, клевать носом. Когда дорога шла лесом или вдоль лесопосадки, Николай видел сквозь высокое зарешеченное окно мелькающие зеленые верхушки деревьев. Но чаще всего в окошке стояло белесое небо или медленно движущееся облачко. Было жарко. Июль. Прошло всего полтора месяца, а кажется целая жизнь позади.
В Орле его привели в маленькую одиночную камеру с темнозелеными грязными стенами. Были в ней кровать, стол, табуретки, тумбочка и маленькое пыльное окошко с толстыми решетками высоко под потолком. Свет едва пробивался в камеру даже в солнечный день. Угрюмая комната пять шагов в длину и три в ширину с никогда не выветривавшейся предсмертной тоской ее одиноких, постоянно меняющихся обитателей. Сколько человек провело в ней свои последние дни за сто шестьдесят лет существования тюрьмы? Кто считал.
Анохин бросил вещи на шконку, сел рядом и огляделся. Здесь ему суждено провести последние денечки. «Тоскливо как здесь! — отметил он. — И тишина! Как могильная тишина! Дают ли здесь книги? Не должны отказывать… Надо попросить Библию… И не надо раскисать. Смерть все равно придет ко всем. Рано или поздно. Все умрем! — попытался он унять боль и подкатывающую к горлу тошноту, которая всегда возникала, когда он вспоминал о предстоящей казни. — Надо жить, пока дышится, готовиться мужественно или к смерти или к новой жизни. Надо быть бодрым, бодрым, бодрым! — уговаривал он себя. — Так, нужно пройтись, погулять, размяться. Физические упражнения притупляют душевную боль». Он встал и начал энергично ходить по диагонали из угла в угол. Шесть шагов туда, шесть — обратно. Устал, взмок. Но стало легче на душе. Не так давила тоска.
Он деловито разобрал вещи, разложил в тумбочке по ящичкам. Потом постучал в дверь. Открылась форточка в двери. Показались усы, нос и равнодушные глаза надзирателя.
— Чего тебе?
— Книги здесь дают?
— Книги можно…
— Мне, пожалуйста, Библию.
— Надеешься на встречу с Богом? — усмехнулись усы.
— Надеюсь, что Он милосерднее и справедливее советского суда.
— Ну-ну.
— А бумагу с ручкой?
— Может быть, еще винца с колбаской?
— Непременно, — не удержался Анохин. — Только сухого, виноградного. Крепкое я не пью.
Надзиратель сощурился, посмотрел внимательно на Николая и захлопнул форточку. Но Библию принес. Не сразу, часа через три, вместе с ужином.
Николай хлебал баланду и смотрел на толстую книгу, предвкушая общение с Книгой книг, как называли ее.
Он много раз читал и слышал, что Библия начинается со слов: «В начале было слово, и слово было у Бога. И слово было Бог». Но оказалось, что Библия начинается совсем не так:
— В начале сотворил Бог небо и землю, — прочитал Анохин вслух. — Земля ж была безвидна и пуста… — На слове «безвидна» он запнулся, подумал: — Что такое? Опечатка? Скорее всего безводна! — и стал читать дальше вслух: — …и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою… «Как хорошо! — подумал он останавливаясь. — Как просто, легко и светло сказано! И как хорошо это слово «безвидна»! — Земля ж была безвидна и пуста… и тьма над бездною! — повторил Анохин вслух, и слезы, светлые слезы потекли по его щекам. — Тьма над бездною! — прошептал он и начал читать дальше, наслаждаясь простыми емкими словами, повторял их: — И был вечер, и было утро!
Читал, наслаждался. Но вскоре, после того как прочитал о рождении сыновей Евы, Анохин перестал понимать события, описываемые в Библии, стали возникать вопросы. Почему Бог не принял дар плодов земли крестьянина Каина, ведь он первым от чистого сердца принес свой дар Ему, а брат Каина пастух Авель следом за ним? Почему Господь призрел Авеля, а не Каина? Огорчение старшего брата понятно. Он трудился в поте лица своего, обрабатывал землю, почитал Бога, и, стараясь отблагодарить Его, принес дар, а Господь ни за что, ни про что обидел его, отверг дар, но брата Авеля призрел. Почему? Может быть, Он уже видел в Каине убийцу брата своего? Но почему тогда не предотвратил убийство?.. Больше всего поразило Николая Анохина открытие, что первый же человек, рожденный женщиной, стал убийцей, братоубийцей. Господь наказал его за это, сказав:
— Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.
Так Господь наказал Каина. Но Он ошибся. Каин поселился в земле Нод, у него родился сын Енох. «И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох». Каин не стал скитальцем, крепко осел в земле Нод, даже город построил, нашел силы и средства. Значит, земля давала ему свои силы. И стал Каин отцом многочисленного семейства.
Еще одно не понимал Анохин: где взял себе жену Каин? Ведь у Адама с Евой было только три сына: Каин, Авель, Сиф. Каин даже не мог жениться на родной сестре. Ни одной дочери не было у Адама с Евой. Может, просто не сказано об этом в Библии?
Чем дальше читал Николай, тем больше встречал непонятных несправедливостей. Невинные отвечали за виноватых. Ной напился вина, валялся в шатре пьяный и голый, увидел его таким родной сын Хам, посмеялся над отцом. А когда Ной протрезвел, то наказал не Хама, а его сына Ханаана, своего внука, сказав: «проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Причем здесь Ханаан? Почему он наказан, когда насмехался над пьяным отцом Хам? Какое отношение к этому имел Ханаан? Почему он должен стать рабом? Страдать невинным. Почему?
Николай Анохин сидел над Библией, мучился над этими вопросами до отбоя. Он не прислушивался к осторожным шагам за дверью камеры, которые часто замирали возле его двери, у глазка. Ему было плевать на то, что за ним наблюдают. Он не мог понять, почему Господь не только прощал эти несправедливости, но часто поощрял их. Николай пытался соотнести судьбу свою с судьбой других несправедливо обиженных.
По утрам Анохин стал подолгу заниматься гимнастикой. Дух должен быть бодр, а тело крепко. Он не смирился с тем, что его должны казнить, что он должен умереть. Притупился первоначальный ужас перед близкой смертью, но тоска, томление в груди остались. Когда он занимался чем-то, тоска отдалялась, затушевывалась, уходила в туман. Но когда вновь приходила мысль о предстоящей казни, томление, жуткая тоска, снова волной накрывали его, поднимали с постели или табуретки, и он начинал ходить по камере, сжимая грудь с левой стороны пальцами. В бессонные ночи, бывало, представлял себе жизнь после смерти. Если есть рай и ад, то, вероятней всего, душу его должны пустить в рай. Он не совершал больших грехов. Анохин перебирал в памяти свои грешки, и все они не тянули на ад. В школе он, бывало, обманывал учителей. Когда хотелось уйти с уроков, он отпрашивался у дежурного учителя, говорил, что у него болит голова. Его всегда отпускали, ни разу не заподозрив обмана. Учился он хорошо, не был шалуном. Раза два вместе с мальчишками забирался в сад за яблоками к одинокой женщине, когда ее не было дома. Один раз ночью забрались в чужой огород, нарвали огурцов. Грех, конечно, но детский грех. Никогда чужое добро не привлекало его, никогда не было желания присвоить чужое, как бы оно плохо не лежало.
А можно ли назвать большим грехом его отношения с женщинами? — спрашивал он себя, вспоминал свое первое падение. Было это в Москве, в университете, с однокурсницей. Кто кого соблазнил? Непонятно. Она была опытной, раскрепощенной. Играючи, учила его премудростям физической любви. Связь была легкой, легкомысленной и недолгой. Началась играючи, и кончилась также. Когда Николай узнал, что он у нее не единственный любовник, взволновался, затеял серьезный разговор. Она легко засмеялась на его слова, не отводя глаз и ничуть не смущаясь, спросила:
— Птенчик (она так звала его), неужели ты на мне жениться собираешься? Не рано ли? Разве тебе плохо со мной? Скучно?
— Наоборот! — воскликнул он, краснея.
— Так в чем же дело?
— Я не могу так…
— Ах ты, прелесть моя! — засмеялась она. — Не знала я, что ты такой собственник! Раз не можешь, не буду я тебя мучить… Больше всего ненавижу страдания. Надо жить легко!
И все. На этом связь прервалась. Он сидел с ней каждый день в одной аудитории, смущался вначале, а она вела себя с ним, как прежде, будто ничего между ними не было, ничего не менялось. Однажды он не выдержал, предложил снова встретиться. Она засмеялась, чмокнула в щеку:
— Соскучился, милый птенчик? Глупыш, зачем тебе это, чтобы страдать потом? Это глупость! Поверь, я права…
И пошла, зацокала каблуками по паркету коридора университета, обернулась, помахала ласково пальчиками. Он понял: она права. Через год он начал жить с другой студенткой, серьезной, деловитой и скучноватой. Она не понимала, почему он после окончания университета собирается вернуться на свою родину, в Уварово, в глушь, в грязь, где никакой культурной жизни нет. О чем он писать там будет? О надоях молока? За полгода до защиты диплома, она своим обычным серьезным тоном сказала ему:
— Извини, ты мне нравишься, но пути наши в разные стороны ведут. Я хочу остаться в Москве, у меня появился шанс выйти замуж. Он старше, разведен, не так красив, как ты, но москвич. Мне надо жить здесь… Останемся друзьями!
Воспоминания о второй женщине у Анохина были менее приятны, чем о первой. Он мог бы жениться, как на той, так и на другой. Но не было желания с их стороны. Он их не устраивал по разным причинам. Любовь с ними была не такой, какой он представлял себе. Такой поэтической любовью стала для него Зина. Все у них было так, как ему мечталось в отрочестве, когда он читал книги Вальтер Скотта, Бунина, Тургенева. Романтическая нежная любовь, с томительными поцелуями под луной под трели соловьев, ласковое поглаживание и пожимание пальцев ее руки, ветхая скамейка на берегу Вороны, прогулки рука в руке, и стихи, стихи. В каком бы ни был он бреду от ее мягких губ, как бы не бросало его в жар у нее в объятьях, он ни разу не пытался овладеть ею. Верил, что она его, что они предназначены друг для друга, что у них впереди долгая совместная жизнь, будут и дети, и внуки. Лишь после того, как подали заявление в загс, они отдались друг другу. В ту первую и последнюю ночь все было не так, как с однокурсницами. Он вновь был неопытен, чист. Они с Зиной были половинками одного существа, наконец-то обретшими друг друга.
Может ли усмотреть Господь грех в его отношениях с женщинами? Может ли назвать его сладострастником? Страсть к Зине была сладка! Прикосновения ее рук сводили с ума! Сладки были ее поцелуи! Но она же его… его половина, предназначенная ему Богом…
А если нет ни рая, ни ада, а души умерших витают в небе, пока вновь не воплощаться в новорожденном человеке, как утверждают другие религии, то, значит, его душа уже не один раз была на земле в другом человеке. Почему тогда он ничего не помнит из прежней жизни? Запомнит ли он что-нибудь из этого своего воплощения в Николая Анохина?
25. Жених умер
Сарычев в Ялте каждый день выгадывал минутку, чтобы позвонить в Уварово Долгову, узнать, как идут дела? Нет ли чего нового? Он знал, что суд состоится в эти дни. И наконец, он услышал долгожданное: суд прошел успешно, Анохин приговорен к высшей мере наказания! Слава Богу, все препятствия устранены. За такие преступления у нас не милуют. Осталось окончательно приручить Зину, сделать так, чтобы она привыкла всегда видеть его рядом с собой, не представляла свою жизнь без него. Нужно сейчас преодолеть еще одно препятствие, сообщить о суде и приговоре так, чтобы не вызвать нового потрясения. Как это сделать потоньше? Об этом думал Сарычев, выходя из телефонной будки, делал лицо удрученным.
Зина ждала его на набережной. Стояла, прислонясь к парапету. Позади нее равномерно и успокаивающе шумело море, накатывало волной на берег, шелестело галькой. Зина смотрела на него внимательно, а он, подходя к ней, хмурился, отводил взгляд. Подошел, встал рядом у парапета и стал смотреть на море с поблескивающими на солнце волнами, на большой белый пароход слева у причала, у которого из широкой черной трубы шел дым, на лежащих на гальке людей. Молчал. Зина тоже повернулась к морю, тоже молчала. Молчание было тяжелым. Не выдержала Зина, спросила:
— Был суд?
Сарычев мрачно кивнул, не глядя на нее, и взял ее руку в свою.
— И что?
— Высшая мера! — хрипло проговорил он и быстро обнял Зину, впервые обнял, прижал к себе.
Она задрожала, забилась в рыданиях у него на плече. Он бемолвно гладил ее рукой по спине. Молчал. Не успокаивал. Слезы — хорошо, пусть льются. Хуже было бы, если бы она вновь окаменела, ушла в себя. Проплачется.
Мимо по набережной шли люди, оглядывались на них.
Зина повисла на нем, устала плакать. Он усадил ее на парапет, сам сел рядом, обнимая за плечи.
— Он имеет право подать Брежневу прошение о помиловании, — хрипло и негромко проговорил Сарычев.
— Я должна была быть там, на суде… должна…
— Суд был закрытым. Никого не пускали.
— А теперь?.. Я могу его видеть?
— Теперь тем более не пустят, — вздохнул Сарычев. — Но я попробую!
— Сделай, помоги! — простонала Зина.
— Я для тебя все сделаю, — как-то обреченно, страдальчески выговорил Сарычев. — Но захочет ли он?
— Мне непременно надо его видеть! Надо… надо…
— Я все сделаю! — убежденно воскликнул Сарычев, и Зина благодарно прижалась к нему и заговорила.
— Нам нужно сейчас же лететь назад… сейчас же! Не терять времени!
— Сегодня опоздали. Завтра… Через полчаса самолет из Симферополя вылетает, а до аэропорта три часа пути. Завтра непременно вылетим.
Они помолчали.
— Когда… после суда приводят… — Зина запнулась, подбирая слово. Сарычев понял, о чем она хочет спросить.
— Всяко бывает… раньше тут же… — Он хотел сказать: расстреливали, но остановился, чтобы не травмировать Зину этим словом. — А теперь Председатель Верховного Совета СССР должен утвердить приговор…
— И долго это?
— Когда как…
Сарычев надеялся, что вечером отговорить Зину лететь в Тамбов. Они останутся в Ялте еще дня на два. Но Зина твердо стояла на своем. И к вечеру на другой день они были в Тамбове.
Утром вместе отправились к начальнику тюрьмы. Он сказал им, что Анохина перевели в Орел, где содержаться в тюрьме смертники в ожидании помилования или исполнения приговора.
Зина с Сарычевым приехали в Уварово поездом. Перед калиткой палисадника у своего дома Зина сказала твердым голосом:
— Я поеду в Орел!
Сарычев возражать не стал, ответил, что завтра непременно узнает на работе можно ли ей встретиться с Анохиным и что нужно для этого сделать.
Он сдержал слово, пришел к Сушковым вечером прямо с работы в милицейской форме, принес образец текста обращения в Тамбовскую прокуратуру с просьбой разрешить свидание с осужденным Анохиным. Был у родителей Зины недолго, разговор не клеился. В доме Сушковых была такая тишина, словно в нем находился смертельно больной человек, которому нужен покой. Зина поблагодарила Сарычева, тут же написала заявление в прокуратуру и отдала ему. Он обещал быстро доставить письмо в прокуратуру по своим служебным каналам и проследить, чтобы не было проволочки с ответом.
Через две недели по почте пришел официальный ответ. Зина выхватила из рук матери конверт со штампом прокуратуры, дрожащими пальцами вскрыла его, вытащила сложенный вчетверо бланк областной прокуратуры, и напечатанные слова запрыгали у нее перед глазами.
— Уважаемая Зинаида Федоровна!
В ответ на Вашу просьбу о свидании с Анохиным Николаем Игнатьевичем сообщаем, что гр. Анохин Н.И. приговорен Тамбовским областным судом к высшей мере наказания.
22 июля 1972 года в г. Орле приговор приведен в исполнение.
Справку о смерти гр. Анохина Н.И. будет выслана по просьбе родителей или членов его семьи.
И неразборчивая подпись.
Это письмо на бланке прокуратуры Сашка Сарычев собственноручно отстучал на машинке и сам опустил в ящик в Тамбове.
26. Леонид Ильич Брежнев
Председатель Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев был в то утро бодр, энергичен, весел, был еще под впечатлением вчерашней охоты на кабана. В машине, по дороге на работу, разговаривал, похохатывая, с охранником о кабане, которого он так удачно завалил, а ситуация была опасной. Промахнись он, и черт знает, чем дело бы кончилось. Но он всадил кабану пулю точно в глаз. Попал, конечно, случайно. Стрелял наугад. Но охранники так долго и искренне восхищались его выстрелом, что он сам поверил, что целился именно в глаз. Кабан был хорош, клыкаст. Туша его горой лежала на белом снегу. И банька была хороша, и выпил в самый раз, ни много ни мало. Спал крепко, встал утром бодрый, выспавшийся. Утро радовало. Машина скользила по шоссе вдоль строя заснеженных елок. Солнце золотило снег, веселило. Эх, хорошо!
Шагая по мягкому красному ковру коридора к своему кабинету, он увидел, как открылась одна из дверей, появилась женщина в зеленом свитере, взглянула на него, растерялась и нырнула назад в комнату, захлопнула дверь. Она пахнула на него свежестью, словно ветка цветущей сирени. Леонид Ильич отметил нежность белой кожи на шее, зеленоватые блестящие глаза, чуточку пухловатые щеки, белую, видимо, мягкую кисть руки. «Должно быть, очень нежная и мягкая, — отметил про себя с каким-то удовольствием Леонид Ильич. — За тридцать ей, видно, перевалило совсем недавно!».
— Кто это? — спросил он у охранника.
— Новая стенографистка… Вместо Екатерины Семеновны…
— Да, да, — произнес Брежнев, вспомнив, что ему говорили, что маленькая быстрая старушка Екатерина Семеновна умерла.
В своем кабинете Леонид Ильич скинул с плеч пальто, остановился перед зеркалом, взглянул на свое красивое мужественное лицо, лицо уверенного в себе крепкого здорового человека и прикоснулся расческой к своим густым длинным волосам. «Да, крепок, крепок! Не скажешь, что шестьдесят пять!»
— У нас новая стенографистка? — спросил он у помощника.
— Второй день работает.
— Как ее зовут?
— Лидия Григорьевна.
— Пригласи ее ко мне.
Помощник вышел.
Леонид Ильич сел в мягкое кресло за рабочий стол, на котором не было ни бумажки, письменный прибор, откидной календарь, круглая настольная лампа на высокой ножке, стеклянный стакан с несколькими острозаточенными карандашами и несколько тонких папок. Три телефонных аппарата стояли слева на приставном столике. Зеленый бархат стола приятно радовал глаз. Брежнев придвинул к себе поближе письменный прибор и достал из ящика стопку чистых листов бумаги. Бесшумно открылась дверь.
— Стенографистка, — сказал ему появившийся помощник.
— Приглашай.
Леонид Ильич поднялся навстречу Лидии Григорьевне, смотрел, любовался, не сдерживая улыбки, как приближается к нему сама свежесть. Хороша! Невольно захотелось расправить плечи и втянуть живот. Леонид Ильич знал, что все еще нравится женщинам, что статью и мужским обаянием его Бог не обидел, знал, что женщинам с ним легко. Он умел пошутить, к месту сказать комплимент, умел отметить и похвалить именно то качество в женщине, что она считала своим достоинством. И сейчас, находясь под обаянием приближающейся к нему женщины, Леонид Ильич каким-то непонятным чутьем охотника чувствовал, что эта дичь от него не уйдет. Он уже ощущал под своей рукой нежность ее белой кожи. Брежнев отметил, что Лидия Григорьевна только начала полнеть. Именно такие женщины нравились ему.
— Садитесь, — указал он на кресло. Сам сел только тогда, когда она уселась, поправила серенькую юбку. — Второй день у нас?
Женщина улыбнулась, кивнула.
— А раньше где работали?
— В Госплане.
— Понятно. Замужем?
— Да.
— И кто муж?
— Доктор наук. Зав лабораторией в НИИ химической промышленности.
— Химик, — засмеялся Леонид Ильич, переходя на шутливый тон. — Давно завлабом, не пора ли замом становиться?
— Лет пять… — улыбнулась, сделала ямочки на пухлых щеках стенографистка. Она сразу отметила, что Леонид Ильич любуется ею.
— Пора, пора… Ревнует, верно, такую красавицу? Я б ревновал…
— Он больше поводов для ревности дает, — как-то слишком серьезно сказала Лидия Григорьевна.
— Да ну! — шутливо воскликнул Леонид Ильич и поднялся. Не мог спокойно сидеть. Распирало, хотелось двигаться. Он вышел из-за стола и остановился рядом, продолжая любоваться женщиной. — Это он зря, зря!.. Мы посмотрим теперь, как он себя почувствует, когда вы будете возвращаться домой в десять-одиннадцать вечера, — засмеялся Брежнев, прохаживаясь по ковру кабинета. — У нас ведь не нормированный рабочий день. Иногда приходиться задерживаться допоздна.
— Я нарочно сюда устроилась, чтоб заставить его поревновать, — подхватила его шутливый тон Лидия Григорьевна и засмеялась, немного смутившись, или сделав вид, что смутилась, как бы прося извинения за такой тон с Генеральным секретарем, хотя она уже поняла, что перед ней не руководитель страны, а мужчина, стареющий мужчина, но довольно еще привлекательный. Видно было, что он желает ее.
Она понимала, что, если она даст ему понять, что любит мужа, что верна ему и намерена впредь оставаться верной женой, то Леонид Ильич отстанет от нее, не будет ее преследовать, не уберет из аппарата ЦК, опасности в этом нет, но, во-первых, это будет неправдой, верной женой она не была, приходилось изменять мужу и не раз, во-вторых, Леонид Ильич не был ей неприятен, как мужчина, в-третьих, он, скорее всего, поможет мужу шагнуть еще на одну ступеньку выше на работе, в-четвертых, разбирало любопытство: каков первый человек страны в постели. По началу разговора видно, что не зануда. Это хорошо! Общаться с ним было легко. В-пятых…
Много причин у женщины, чтобы отказать или согласиться на близость. Конечно, Лидия Григорьевна не облекала в мыслях в слова все эти причины. Они подспудно, неосознанно были в ней и заставляли вести себя так, а не иначе. Когда она произнесла, что нарочно сюда устроилась, Леонид Ильич шагнул к ней, воскликнул, не меняя шутливого тона:
— Вот как! — и положил ей руку на плечо, на нежный махеровый свитер. Лидия Григорьевна тут же мгновенно коснулась его руки огненными пальцами, то ли убрать хотела его руку, то ли погладить. Леонид Ильич отдернул свою руку с ее плеча, почувствовав нежный обжигающий огонь от ее прикосновения, и отошел от женщины, говоря:
— Сегодня вечером я хотел поработать на даче… У вас ничего не запланировано?
— Нет, я свободна.
Это «я свободна» прозвучало для Леонида Ильича не как, что она имеет свободное время для работы вечером, а как, что она свободна, вольна сама распоряжаться собой, то есть согласна провести с ним вечер.
— Хорошо, — легко и радостно вздохнул он. — Я распоряжусь, чтобы вас привезли ко мне и потом доставили домой.
Когда стенографистка вышла, сразу же появился помощник.
— Вы приглашали Смирнова, — напомнил он.
— Пусть входит.
Смирнов, помощник Брежнева по делам Верховного Совета СССР, принес папку в темнокрасной коже с документами на подпись. Сверху он, как обычно, положил документы попроще, которые можно было подписывать, не вникая в них, а внизу были те, что требуют пояснений. Сейчас сверху лежало ходатайство о помиловании Анохина Николая Игнатьевича и приговор суда к высшей мере наказания. Обычно приговор подписывался быстро, без вопросов. «Утверждаю!» — быстро чиркал Брежнев и расписывался. И сейчас он поднес ручку к бумаге, чтобы кинуть привычное слово, но глаз его выхватил слова на бумаге «25 лет, журналист». Состояние у Леонида Ильича было по-прежнему радостное, восхищенное Лидией Григорьевной, хотелось делать хорошее людям, и рука его замерла в верхнем углу листа.
— Комиссия внимательно изучила дело?
— Да, — с готовностью ответил Смирнов. — Насильник, убийца… Изнасилование с убийством…
— Доказали? Тут написано, окончил МГУ, журналист, к таким девки сами в объятья падают, зачем убивать…
— Следователю признался, а на суде вину отрицал.
— Смотря какой следователь, а то и мы с тобой признаемся, что мы турки, — добродушно хмыкнул Леонид Ильич.
— Кстати, — вдруг вспомнил Смирнов о письме с работы Анохина, — редактор газеты, где работал Анохин, прислал письмо, всячески защищает его, пишет, что такой человек не мог изнасиловать, будто бы у Анохина свадьба должна была быть на днях, а тут такое…
— Ну вот, а ты говоришь, убийца, — и довольный своей добротой Леонид Ильич быстро черкнул: «Помиловать! 15 лет».
27. Вагонзак
Вызов был неожиданный. Зачем? Расстрел? Когда надзиратель вывел его из камеры в коридор, ноги у него ослабели, подкашиваться стали, и в груди все онемело. Не конец ли это? Руки дрожали. Ноги не хотели идти.
Привели его в комнату, где были два человека. Один — майор, другой в штатском. Перед приходом Анохина они, видимо, говорили о чем-то веселом. Лица у них были добродушные. И при виде Николая Анохина они не стали делать лица официальными. Это Николай сразу отметил, и на душе полегчало. Пока не расстрел, подумал он. Не должно быть. Но к тому, что произошло дальше, он был совершенно не готов.
— Леонид Ильич Брежнев рассмотрел твое дело, — совсем не официально, стряхивая пепел сигареты в пепельницу, буднично сказал человек в штатском, — и счел возможным помиловать, заменить высшую меру на пятнадцать лет…
Анохин почувствовал, как стал нарастать шум в ушах, позеленело в глазах, ноги совсем ослабели. Человек в штатском шевелил губами, вероятно, говорил что-то. Николай шагнул к столу, обеими руками оперся на него, чтобы не упасть, навалился грудью, тихо шепнул:
— Водички!
Потом был этап.
Еще в вагонзаке к Анохину прилип хлипкий на вид, шустрый, разговорчивый зек, Вася Киргиз. Круглолицый, с широким носом, с реденькими усиками на верхней губе. Его можно было принять за подростка, но, по его словам, он делал уже третью ходку на зону. И все время по одной статье, за злостное хулиганство. Был он обидчив и чрезвычайно вспыльчив, с сильно высоким чувством собственного достоинства. Уже через час после того, как зеки разместились в своем отсеке вагонзака, Вася Киргиз сцепился в короткой и яростной драке с зеком, который был на вид крепче его и значительно крупнее. Тем не менее Вася Киргиз первым ударил его в нос, разбил до крови. Из-за чего началась стычка, Анохин не видел. Он сразу взобрался на свою полку на второй ярус и не обращал внимания на происходящее в отсеке, на разговоры, шутки, смех.
Он еще не пришел в себя от ошеломительных событий в своей жизни: готовился жениться и переезжать в Тамбов на новую должность, дававшую ему возможность блестящей будущности и карьеры, но был приговорен к смерти; готовился к смерти, к последней точке в своей жизни, но оказалось, что ему придется жить пятнадцать лет в лагере, и что, возможно, у него впереди долгая жизнь среди людей. Теперь все его мысли крутились вокруг одних и тех же вопросов. Как жить дальше? Для чего жить? И стоит ли жить вообще? Какой смысл в его дальнейшей жизни? Кому нужна его жизнь?
Он ясно осознавал, что никому не нужен на этой земле. Была мать — умерла! Была невеста — она теперь, скорее всего, стыдится того, что была невестой маньяка. Неужели Зина поверила, что он насильник и убийца? — миллионный раз мелькнуло в усталом мозгу, мелькнуло привычно, без прежней острой боли, когда выть хотелось при одной мысли о Зине. Ее больше нет, Зина прошлое, это ясно. Теперь он мог писать ей письма. Но зачем? Анохин твердо решил не напоминать ей о себе. Зачем мучить ее? Не будет же она ждать его пятнадцать лет. Пятнадцать лет! Целая жизнь. Ему будет сорок, ей тридцать пять. Молодость позади. Счастье позади. Все позади. И неизвестно еще выдержит ли он эти пятнадцать лет в лагере? Не прибьют ли его зеки? Нет, Зина должна забыть о нем, вычеркнуть его из своей жизни. И он должен забыть о ней. Забыть?
Но для чего жить? Как жить? И нужно ли жить? Зачем длить страдания? Для чего? Страдания можно выдержать, зная, что впереди ждут радостные дни, или хотя бы надеясь, что они будут. А будут ли у него когда радостные дни? Что может обрадовать его в этой мерзкой жизни? Разве можно радоваться, зная, что все в этом мире обманчиво? Если сегодня солнце над твоей головой, это еще не значит, что завтра над твоей головой не будет грязное окно в клеточку, как бы ты ни был чист и праведен. Не лучше ли самому покинуть этот грязный мир? Втихаря...
Здесь даже хлопнуть дверью нельзя. Анохин ясно представил, как снимают его тело с нар, как выносят из вагонзака, быстро, деловито и равнодушно закапывают полупьяные небритые мужики наскоро сколоченный гроб на краю запущенного кладбища, ставят неструганый крест. Через год могила осядет, вместо бугорка образуется небольшая ямка с покосившимся крестом, одиноко торчащим среди густой травы. Потом крест упадет, и никто не вспомнит, даже эти пьяные мужики, за бутылку согласившиеся закопать его, где похоронен зек, покончивший с собой в проходившем мимо поезде. Его закопают, о нем забудут, как будто и не был он на земле.
А в Уварове… нет, в Уварове его будут долго вспоминать! Не забудет Зина… Она не должна забыть ту ночь в общежитии пединститута на Полевой улице, когда она стала женщиной. Мгновенно промелькнули в голове, как яркие кадры кинохроники, томительно счастливые часы с Зиной, и Анохин застонал, шевельнулся на полке. Никто не услышал его стон в шумном отсеке вагонзака. Как Зина будет вспоминать эту ночь? С радостью или брезгливостью? Не будет ли она считать, что отдалась маньяку? Не будет ли с содроганием думать, что я мог задушить ее в постели?..
Долго будут вспоминать о нем в Уварово и те, кто не знал его, но слышал о кровожадном сексуальном маньяке, ведь такой случай довольно редкий в тихом городке, будут рассказывать, как замредактора газеты изнасиловал двух девок, одну тут же задавил, а на другой его схватили, но она сама от позора бросилась с моста на рельсы. Сама ли она бросилась? Конечно, нет? Ее убили, сбросили с моста… Убили эти выродки по приказу Долгова. Это ясно! Сам ли он руководил их действиями или через посредника? Не мог он сам связываться с этими мелкими подонками. Они могли подставить секретаря райкома в любой момент. Разболтать по пьянке, выйдет слух. Кто-то может ухватиться и пошло-поехало до Москвы.
Может быть, так и будет, всплывет мое дело, и я вернусь! — проскочила искрой надежда и тут же была раздавлена другой, более реальной мыслью… Долгов не дурак, не будет подставляться. Кто-то другой, тоже неглупый выполнял его волю. Кто? Сарычев? Так считал Левитан. Может, и он…
Вспомнилось, как лоснилось его лицо довольством, когда он на троллейбусной остановке в Тамбове рассказывал о смерти Ачкасова. Тогда это не поразило Анохина, просто отметилось в сознании, тогда Николай был раздавлен фактом смерти Ачкасова. Сразу понял, что погиб он из-за документов. Но не подумалось тогда, что организатором убийства мог быть Сарычев. Если убили Ачкасова, значит, был не только убийца и тот, кто дал команду убить (с этим все ясно), но и тот, кто организовал убийство, кто следил за Ачкасовым, кто поставил убийцу в нужном месте, кто дал ему команду действовать, когда Ачкасов отъезжал от общежития. Не мог все это проделать тупой Славка Зубанов. Вмазался он самосвалом в мотоцикл лоб в лоб ночью, в темноте. В том месте фонарей не было, место глухое. Откуда Славка мог знать, что за рулем мотоцикла именно Ачкасов. Кто-то дал сигнал! Кто? Сарычев? Не мог сам Долгов руководить Зубановым. Это исключено! Значит, Сарычев? А если кто-то еще, мне неизвестный?..
Анохин перебирал в голове имена тех, кто мог выполнять волю Долгова. Этот человек должен был обладать властью, а главное, должен был сам непременно выиграть от убийств начальника милиции и его зама. Снова и снова всплывало имя Сарычева. Больше некому. Прав Левитан. Он, только он мог организовать и провести изнасилование, а потом убрать девушку, скинуть ее с моста и объявить, что она сама покончила с собой.
Зачем они ее убили? Ведь она на суде могла быть незаменимым свидетелем? Может быть, для того, чтобы ему была гарантирована смертная казнь? Анохин вспомнил, как кричал изнасилованной девушке, что он журналист, что раскрыл махинации секретаря райкома, как показывал ей окровавленные руки и галстук. Да, она могла заметить, что галстука на насильнике не было. Возможно, что она поверила ему, и ее опасно было оставлять в живых.
Почему тогда его не убили, разыграли такую сложную игру. Только ли из-за пленки? Откуда они узнали о пленке? Все не хотелось верить Левитану, что предал Перелыгин. Снова и снова вспоминались две последние встречи с другом, утром и вечером. Дважды тогда он ошеломил Перелыгина. Утром — рассказом об убийствах и пленке, а вечером — известием, что не он Перелыгин, а Анохин сядет в заветное кресло главного редактора. Этим известием Анохин перечеркнул все планы Перелыгина.
Снова думал Николай о Перелыгине, вспоминал студенческие годы, их дружбу. Память то и дело подставляла мелочи, маленькие детальки, которые говорили о ненадежности Перелыгина, о его самовлюбленности, тщеславии и эгоизме. Тогда эти поступки Перелыгина огорчали, но прощались быстро, не хотелось верить, что этот большой, ироничный парень, твой друг — трусливый эгоист, который спокойно перешагнет через тебя. Не хотелось верить и теперь! Не хотелось, чтобы Левитан был прав! Если он прав в этом, то тогда прав и в другом, что никак, ну никак не должно быть.
Хорошо помнилось, как убежденно, как о само собой разумеющемся факте, сказал Левитан: умрешь, а невеста твоя станет женой Сарычева!.. Левитан ошибся, я не умер! Ошибается он и насчет Зины и Сарычева… Анохин сам хотел, чтобы Зина забыла о нем, вышла замуж, была счастлива.
Но не за того, конечно, кто сломал ему жизнь, не с Сарычевым она должна быть счастлива. Нет!!! — хотелось выть, кричать от этой мысли, биться головой об стену, чтобы смягчить боль от страшного видения: Сарычев обнимает его Зину, и она отвечает на его ласки! Только не это, только не это! Почему так хочет Бог, зачем Он это допустил?
Это не Бог! — вдруг мелькнуло в воспаленном мозгу. — И не дьявол! Это люди! Это не Божьи законы, человеческие. И надо отвечать по-человечески: мстить! Месть — вот цель его жизни! Вот для чего стоит жить! — молнией озарила его мысль, которую он когда-то обдумывал. Он поднялся на полке от этой пронзившей его мысли, поднялся и увидел отсек вагонзака, набитый людьми, увидел, как хлипкий Вася Киргиз ударил в нос крепкого, туповатого на вид, детину, а детина в ответ схватил в тесном отсеке верткого Киргиза за грудки и, держа на расстоянии вытянутой руки, дважды ударил по зубам своим кулачищем.
— Кончай разборку! — громко, спокойно и, как-то по-хозяйски уверенно, сказал Анохин неожиданно для самого себя.
Голос его подействовал. Детина отпустил извивающегося в его руке Васю Киргиза.
— Он меня оскорбил! — воскликнул обиженно Вася, прижимая руку к разбитым губам.
— Он оскорбил, ты ответил. Квиты! — так же спокойно, уверенно сказал Анохин и подумал удивленно: «Зачем я вмешался? Зачем мне это нужно?». Он вновь опустился на полку, отвернулся к стене. Он считал, что драка продолжится, но к удивлению своему не услышал дальнейшей разборки. Отсек на две минуты развлекшийся дракой вновь загудел, зашевелился, начал жить своей чуждой Анохину жизнью.
Николай лежал, покачивался вместе с вагоном на стыках рельс. Ощущал он себя бодрее, уверенней, чувствовал, что что-то изменилось в его жизни к лучшему. Из-за чего это? — удивлялся он. — Из-за драки? Нет же…
Вспомнился Перелыгин, Сарычев… Вот из-за чего? Теперь я знаю, ради чего стоит жить! Цель обретена! Месть! Месть!! Мне сломали жизнь. Я должен ответить по-мужски. Они считают, что уничтожили меня, растоптали. Меня нет! Но я воскресну, вернусь, пусть через пятнадцать лет… Заплачут они у меня кровью! Я раньше вернусь, сбегу. Я приду к ним, как призрак из могилы!
Утром после завтрака, когда отцепленный от состава вагон до вечера застыл на запасном пути, к Анохину подсел Вася Киргиз:
— Земеля, давай знакомиться, — протянул он руку.
— Николай, — не очень дружелюбно ответил Анохин.
— Откуда родом?
— Тамбовский.
— Тамбовский волк, значит… А кликуха какая?
— Пока нету… Думаю, скоро будет.
— А чо думать! Тамбовский волк! Ты и есть волк, сед, угрюм… Первая ходка?
Анохин кивнул.
— По какой статье?
Этого вопроса больше всего опасался Анохин, но знал, что скрыть статью нельзя. Узнают быстро, будет хуже. Давно размышлял, как отвечать на этот поганый вопрос. Видел, к разговору прислушиваются. Отсек маленький, зеки набиты, как селедка в бочке, а он вчерашней выходкой своей заинтересовал всех. Анохин утром, когда хлебал баланду, замечал на себе любопытные взгляды. Отсек определял каждому свое место, Со всеми уже было ясно, только Анохин был непонятен. Не воровской ли он авторитет? Неразговорчив, угрюм, держится замкнуто, независимо. Что за зверь? Как с ним себя вести? Не опасен ли он? Многие с облегчением и разочарованием услышали сейчас, что он новичок. С облегчением — не опасен, с разочарованием — кого мы опасались? Новичка? И теперь хотелось им узнать о нем побольше. Почему так угрюм, независим?
— Был бы человек, а статья найдется, — усмехнулся мрачно Анохин. — Большому начальнику дорогу перешел и нашли статью. Суд решил мне зеленкой лоб намазать. Помиловали…
— Понято... тяжеловес… — протянул Киргиз, хотя ему было ничего не понятно. Понял он одно, что не хочет человек о своем деле говорить. Его право. Позже расскажет. — На воле кем был?
— Газетчиком.
— О! — воскликнул радостно Вася Киргиз. — Журналюга! Значит, писать будешь!
— Куда? — не понял Анохин.
— Заявы прокурору. Нам… Я ручку один раз в жизни держал, и то в сортире, когда на стенке голую бабу рисовал. А мне надо такую жалобу сварганить, чтоб прокурор слезами изошел, судьбу мою читая, — захохотал Киргиз. — За что же тебя захомутали? Сунул нос в какое-нибудь грязное дельце?
Анохин решил не таиться, рассказать все как было. Вася Киргиз болтун. Не успеют в лагерь прибыть, как всей зоне станет известно, за что он получил пятнашку. Меньше вопросов о статье будет.
— Если б только нос, — ответил он. — По уши влез! Секретарь райкома из трикотажной фабрики сделал частное предприятие...
— Подпольный цех?
— Да. Раскопал начальник милиции, а меня подключили позже…
— Во, бля, и менты честные есть! — воскликнул нетерпеливый Киргиз.
— Его убили, а меня под расстрельную статью подвели…
— А чо не шлепнули сразу, как мента? — удивился Киргиз. — Чо они канителились?
— Шлепнули бы, я бы рядом с тобой не сидел… Документики у меня были, им нужно было все о них узнать, изъять… Вдруг всплывут, тогда им смерть!
— Какая пруха тебе в лапы шла! Мне бы такую везуху! — с огорчением покачал головой Киргиз. — Я бы копать под секретаря не стал. Я бы на твоем месте в долю к нему вошел. Или бы за бумаги такие бабки запросил, на полжизни бы хватило. Укатил бы на юга, под теплое солнышко. Море, песок, бабы… Какая пруха была, а ты просрал! Сидишь теперь, бля, в этом сраном вагонзаке, среди вонючих зеков… И сам такой же вонючий. И все из-за чего, а? Скажи, из-за чего?
— Ну? — глянул на него Анохин.
— Из-за глупого воспитания, — ответил Вася Киргиз. — Секретарь райкома большой государственный человек ворует у государства. Ему государство этот пост доверило. А ты пытался вмешаться в государственные дела. И все из-за чего? Из-за глупого воспитания. Он же не у тебя воровал, у государства, а ты...
Анохин не стал его перебивать, дослушивать, не говоря ни слова полез на свою полку.
28. Воспитание
Вася Киргиз непонятно почему, несмотря на то, что Анохин поначалу не выказывал к нему особого расположения, привязался к нему. Если Николай не лежал на полке, он подсаживался к нему и начинал рассказывать о жизни в зоне, просвещать. Путь, который пассажирский поезд проходил за сутки, вагонзак тащился четверо. Шел только ночью. Утром его отцепляли и загоняли в тупик на какой-нибудь захудалой станции. Вечером снова прицепляли к попутному поезду. Николай Анохин после того, как решил ради чего стоит жить, стал бодрее, стал присматриваться к жизни отсека, к зекам.
Еще в камере он понял, что у зеков свои жесткие и жестокие законы. Нарушителя ждет неминуемая кара. Все регламентировано, у каждого зека свое место, заняв которое он уже никогда не сможет перейти на другую более высокую ступень. В камере Анохин не интересовался этой жизнью, она шла мимо. Он считал, что среди зеков находится временно.
Анохин думал, что суд быстро разберется, что он не виноват, и его отпустят. Он будет вспоминать о тюрьме, как о страшном сне. Потом, приговоренный к смерти, он оказался в одиночке. И только теперь, когда остался жив и обрел цель жизни, и когда понял, что пятнадцать лет жить ему среди этих людей, этих изгоев, он начал интересоваться законами их жизни. Лучшего спутника по хитросплетениям лагерной жизни, чем Вася Киргиз, болтуна, оттянувшего два срока, трудно было найти.
От него Анохин узнал, что зеки в зоне делятся на четыре касты. Высшая — блатные. Их возглавляет пахан, вор в законе. Вокруг него кучкуются авторитеты, у каждого из которых свои обязанности. Кто-то следит за порядком в зоне, кто-то сидит на «общаке». В каждой зоне есть «общак» — общая арестантская касса, в которую все зеки обязаны вкладывать часть своих денег.
У пахана и авторитетов есть своя гвардия; атлеты, бойцы, гладиаторы. Стать блатным может не каждый зек. Прежде всего, он должен быть чист по вольной жизни. Бывшим коммунистам и начальству дорога в блатные закрыта. Тот, кто хоть раз вышел в зоне на работу бригадиром, нарядчиком, в любой должности, которая дает малейшую власть над людьми, тоже никогда не станет блатным. У блатных реальная власть в зоне, почти всегда они борются с властью официальной, администрацией лагеря. Правильный пахан обязан следить, чтобы зона «грелась», то есть получала нелегальными путями продукты, чай, табак, водку, наркотики. Он обязан решать споры, возникающие между зеками, не допускать серьезных стычек между ними, следить, чтобы никто не был несправедливо наказан, обижен, обделен. Есть паханы, которые не вылезают из штрафного изолятора, сидят на хлебе и воде ради того, чтобы братва жила мирно и не впроголодь.
Следующая каста — мужики. Обычно это случайные люди в лагере, которые жили на воле нормальной, не преступной жизнью и попали в лагерь за преступления, случившиеся из-за стечения обстоятельств. Это работяги. Самая многочисленная каста. Ни на какую власть они не претендуют, никому не прислуживают, с администрацией не сотрудничают.
Открытых сотрудников лагерной администрации, тех, кто согласился принять какую-нибудь должность — завхоза, завклубом, библиотекаря, бригадира, на зоне зовут козлами или суками. Ссученный, согласившийся работать на администрацию.
И последняя каста — петухи, обиженные, опущенные, пидоры. Эта каста изгоев, неприкасаемых, отверженных, пассивных гомосексуалистов. Лучше умереть, чем стать петухом, считал Вася Киргиз. Обращаются с ними зеки жестоко, делают самые дикие вещи: заставляют мышей жрать, лампочки им в задницу засовывают. У петухов места отдельные, посуда отдельная, работа отдельная — плац мести, сортиры мыть. Брать у них ничего нельзя, прикасаться к ним нельзя. Если тронешь вещь, к которой прикасался петух, то сам становишься оскверненным, зашкваренным, петухом. И тогда любой зек станет делать с тобой, что захочет.
Много тонкостей лагерной жизни узнал от Киргиза Анохин во время долгих стоянок вагонзака и понял, что выжить на зоне можно. Для него было теперь главным: выжить. Выжить, чтобы отомстить. Еще лучше — сбежать. Как это сделать, зона покажет. Сбежать, найти Левитана и попробовать отомстить. Всем, всем обидчикам. От Славика Зубанова до Долгова. О роли в его судьбе Климанова, Анохин пока не догадывался.
Для того, чтобы отомстить, сбежав или дождавшись окончания срока, он должен выйти из лагеря сильным, крепким и физически и духовно. В тесном отсеке хуже, чем в одиночке, повернуться негде. Гимнастикой не займешься. И все же Анохин каждое утро прямо на полке отжимался тридцать раз, не обращая внимания на шутки и подколки братвы. Отжимался он по тридцать раз трижды в день.
— Зачем ты мучаешь себя? — спросил Вася Киргиз.
— Я должен выйти из лагеря сильным.
— Через пятнадцать лет!
— Да! — коротко и серьезно бросил Анохин.
Вагонзак наконец-то дотащился до Котласа. Там пересадили зеков в трюм баржи и потянули ее неспешно по реке Вычегде до Выгвоздино. Оттуда по песчаной дороге среди леса долго болтались в машине, в автозаке, до лесного поселка Вожаель. В зарешеченное маленькое мутное оконце автозака видны были мелькающие коричневые стволы деревьев. Леса, леса. Вася Киргиз говорил, что совсем недавно по этой дороге шли в Вожаель, столицу лагерного края, несколько дней пешком. Из Вожаеля, переночевав и получив распределение в лагерь, снова в автозаке потащились в конечный пункт назначения.
29. ШИЗО
На зоне вновь прибывших зеков первым делом обшмонали обстоятельно и повели в баню. В моечной Вася Киргиз, стоя под душем, сказал тихонько Анохину:
— Повезло нам! Я узнал, зона правильная. Беспредела нет… На строгом режиме таким, как ты, младенцам и таким, как я, болтунам проще жить. Строже правила, меньше издеваются.
В раздевалке на скамейках новичков ожидала одинаковая лагерная роба: куртки, брюки из грубой материи сероватого цвета. На рукаве куртки Анохина ярко краснела новенькая повязка.
— Что это? — недоуменно показал Анохин Киргизу.
— Косяк… В секцию профилактики правонарушений тебя сунули. В актив. Видно, должностишко тебя ждет.
— Иными словами, козлом назначили?
— Или сукой, — хохотнул Киргиз. — Выбирай, как тебе приятнее…
— Почему меня?
— Дело полистали… Образование, журналюга… Знают, такие с первого дня ссучиваются…
— Нет, я не сука, и не козел! — Николай стал рвать ногтями повязку с рукава. Она не поддавалась, пришита надежно. Тогда он подцепил ее зубами, рванул, надорвал и с треском содрал с рукава.
Зеки одевались, прислушивались к разговору Анохина с Киргизом, смотрели, как он рвал повязку и выбирал нитки из рукава.
— Кондей тебя ждет теперь, — засмеялся Киргиз.
— Что это?
— Карцер. ШИЗО. Штрафной изолятор.
— Пускай! Лакеем я никогда не стану.
Киргиз не ошибся. Анохина выдернули из строя возле бани и отправили в штрафной изолятор на пятнадцать суток. По дороге к домику в углу зоны, который служил карцером, Анохин обдумывал слова кума — замначальника по воспитательной части, которые тот бросил злобно, когда Николай твердо отказался вступить в актив:
— Не хочешь повязку — привью чахотку!
Анохин уже знал, что каждое выражение на зоне имеет свое значение. И теперь он пытался понять, что стоит за словами «привью чахотку». Понятно, что кум угрожает заразить туберкулезом, но как он это собирается сделать? Об этом он сразу же спросил у зеков, сидевших в камере карцера, куда его втолкнули. Зеков было трое. Два каких-то безликих, серых, одинаково угрюмых. Третий, Акимыч, щуплый, как будто высушенный, с желтоватой кожей на щеках. Познакомились. Анохин теперь называл не только имя, но и кликуху, которая прилипла к нему, перешла из вагонзаку в трюм баржи, а оттуда в автозак. Анохин стал привыкать к ней. Нормальная кликуха. Если хочется зекам так звать его, пусть зовут. Это даже лучше, чем Анохин. Уводит от прежней жизни, от тягостных воспоминаний того времени, когда имя Николай Анохин стояло под статьями в каждом номере районной газеты, очень часто мелькало в областной и изредка появлялось в центральной молодежных газетах. То время ушло безвозвратно, надо учиться жить в новых условиях, а о былом забывать. Теперь он не Николай Анохин, а Коля Тамбовский волк или просто Волк. Николай Анохин растоптан, уничтожен. Учится ходить по земле Коля Волк.
— С воли? — спросил один из угрюмых зеков, когда Коля кинул свой тощий сидор на нары и начал развязывать его.
— Оттуда… Жаль мне, братва, угостить вас особенно нечем. Сумел заначить только пару сигарет. Остальные выскребли. Сам я не курю… Берег для такого случая. — Коля вытащил из сидора две помятых потрескавшихся сигареты и протянул Акимычу.
Все три зека молча следили за ним голодными глазами.
— И то хлеб! — удовлетворенно пробормотал Акимыч, принимая бережно на ладонь сигареты так, чтобы и крошка табака не упала на пол.
— Хлеба совсем немного… Зачерствел, не разломишь, — вытянул Коля со дна сидора небольшую краюху черного хлеба и с сожалением стал рассматривать слипшийся твердый ломоть, похожий на кусок пережженного кирпича. — Это все. Беден я, как церковная крыса!
— На десятый день здесь тебе и это покажется царским подарком… — Акимыч так же бережно взял хлеб. — Как же тебя угораздило прямо с этапа в ШИЗО?
— Куртку выдали с косяком, — глянул Коля на свой рукав. — А мне это не понравилось!
— Почему же? На должностишке стал бы ты побогаче церковной крысы, — усмехнулся Акимыч.
— Ненавижу их, ненавижу лакеев! — слишком серьезно и нервно ответил Коля.
— Из политических?
— Нет… Акимыч, что означает «привить чахотку»?
— Кум пообещал?
— Он.
— Оглядись, принюхайся… Посидишь месяца полтора, и тубик обеспечен.
Коля, как только переступил порог камеры, сразу почувствовал вонь, сырость, холод, спертый воздух. Ни в вагонзаке, ни в трюме баржи, нигде не было такой липкой холодной сырости.
— Они не имеют права сажать в ШИЗО больше, чем на пятнадцать суток.
— Младенец, видать? — усмехнулся Акимыч. — Пустят через постель, отсидишь полгода,
— Как это? — Коля решил, что пустить через постель, значит, изнасиловать, сделать петухом, опустить. — Разве это можно?
— Им все можно… Пятнадцать суток отсидишь, выпустят на ночку в барак и по новой. И так пока не сломаешься или не сдохнешь… Ты им свою ненависть поменьше выказывай. Не поможет… Только хуже будет. Если сдохнуть, конечно, не хочешь…
30. Кум
Через пятнадцать суток Колю позвал к себе кум. Конвойный привел Колю к нему в кабинет и оставил наедине. Замначальника лагеря по воспитательной части был крупный, щекастый, бровастый, но с маленькими глубоко посаженными глазками, остро и ехидно блестевшими из-под густых бровей. Красная повязка лежала перед ним на столе.
— Отдохнул? — спросил он ехидно и насмешливо.
Коля решил не перечить ему, не злить, в спор не вступать. Он смиренно пожал плечами.
— Пришивай, — пододвинул к нему по столу повязку кум.
— С начальником лагеря можно встретиться? — спокойно спросил Коля, глядя прямо в ехидные глаза кума.
— У тебя есть, что ему сказать?
— Есть.
— Говори мне.
— Мне хотелось бы с ним поговорить. Просто у меня к нему важное дело. Если он пожелает, он вам скажет, — стараясь, чтобы в голосе не было ни малейшей нотки вызова, произнес Коля.
— Ну-ну-у… — протянул кум, меняя тон.
Ему совершенно не к чему было прицепиться. Вернее, прицепиться он мог и без повода. Он особенно ненавидел таких преступников, насильников, убийц. У него была дочь, подросток, которую он сильно любил. С женой понимания не было, слишком она была легкомысленная. Зато дочь умненькая, серьезная. Вся в него, как считал он. Кум, когда видел насильников, представлял в воображении, как какой-нибудь такой гад измывается над его Леночкой, сердце холодело, спина становилась липкой. Полжизни он провел с преступниками, с первого взгляда определял, что за человек перед ним, понимал, кто чего стоит и от кого, что можно ожидать. Этот зек, сидевший напротив, приговоренный судом к смертной казни и помилованный, не похож был на насильника, хотя бывали в лагере убийцы с ангельскими лицами и взглядами. И все же для кума они были ясны. Он понимал их. А этот был непонятен. Не чувствовался в нем преступник, в его взгляде, в манере держаться, в выражении лица. Не было чего-то неуловимого в облике этого зека, что делало бы его опасным.
Коля заметил перемену в куме. Агрессия, ехидство исчезли из его глаз. Они как бы притухли, не столь остро блестели из-под бровей.
— Впрочем, я могу сказать и вам, — все также спокойно и на этот раз доверительным голосом сказал Коля.
— Ну-ну, говори, — кивнул кум.
— Вы, думаю, смотрели мое дело…
— Это моя работа, — бросил кум.
— Тогда вам известно, что мне двадцать пять лет, что я был журналистом?
Кум кивнул.
— Но там вряд ли написано, что за день до того, из-за чего я здесь, мне предложили и фактически утвердили на должность главного редактора областной газеты. Вам это легко проверить…
— Это не входит в мои обязанности.
— В деле вряд ли написано, что я подал заявление в загс, хотел жениться на студентке пединститута, которую любил… Это тоже легко проверить… — Коля замолчал, глядя на кума. Тот тоже молчал, ждал, что дальше скажет зек. — Вы верите, чтобы человек, который неожиданно получил повышение с правом переезда из районного городишка в областной центр с гарантированным получением квартиры, чтобы человек, у которого через месяц свадьба с любимой девушкой, чтобы этот человек, подав заявление в загс и получив повышение, от радости помчался в лесопосадку, чтобы дождаться первую попавшуюся девушку и изнасиловать? Вы верите?
— Здесь и не такие бывали! — усмехнулся кум. — Почему же суд поверил?
— Вы лучше меня знаете, что в этом лагере совсем недавно сидели люди за то, что якобы копали тоннель из Москвы в США через Атлантический океан. Суд верил в это и давал срок.
— Когда это было… — протянул кум. — Быльем поросло!
— Люди, сидевшие, еще живы, и судьи тоже…
— Они уже свое отсудили. Отдыхают…
— Я еще не все сказал, — проговорил Коля быстро, испугавшись, что разговор уйдет в сторону, в ненужный спор. — Я хотел сказать, что там, на воле, я перешел дорогу тому, кто мечтал о должности, которую предложили мне, другой, оказывается, мечтал о моей невесте, третий, влиятельный чиновник, пока вы здесь, в тайге, корячились, кормили комаров, белого света не видели, работали на Родину, обворовывал эту Родину и жил припеваючи, пока я не узнал о его махинациях. Меня он легко смахнул сюда и продолжает свои дела, малина его не скоро кончится. Этим троим я перешел дорогу. И теперь моя жизнь в ваших руках. Но вам-то я дорогу не переходил, вам я ничего не сделал плохого и не собираюсь делать. Почему же вам хочется измываться надо мной? Зачем? Объясните… — Коля говорил дружелюбно, смотрел в маленькие глазки кума.
— Булыгин! — вдруг резко крикнул кум.
Тотчас же распахнулась дверь, и в комнату влетел конвоир.
— Отведи в восьмой барак! — грузно поднялся со скрипнувшего стула кум, взял со стола красную повязку, скомкал ее в своей руке и сказал Коле: — Завтра на работу. В лес…
Коля Волк покорно и благодарно кивнул в ответ.
31. Пахан
С матрасом под мышкой вошел Коля Волк в восьмой барак в сопровождении дневального. До обеда было еще далеко, но в дальнем светлом углу барака, у окна, кучковались зеки, разговаривали громко, смеялись. Когда вошел Коля, они замолчали, повернулись к нему. От них отделился один зек и направился навстречу. Коля узнал Акимыча, обрадовался. Знакомый. Вместе семь дней в карцере провели. Они крепко ударили друг друга по рукам, сжали пальцы.
— У кума был?
— Только что.
— Через постель пустил?
— Кажется, отстал. Завтра в лес.
— Он так просто не отстанет. Держись молодцом… Вот здесь располагайся. Я тебе потом расскажу о наших правилах. — Акимыч указал на нижние нары в середине барака.
Коля бросил матрас на нары и тихо спросил у Акимыча, указывая глазами в сторону окна, где снова стали громко разговаривать зеки.
— Пахан здесь?
— А чего тебе?
— Мне поклон ему передать надо.
— Сейчас спрошу… Устраивайся.
Акимыч ушел, а Коля начал стелить постель. День начинался неплохо. Тревоги в душе не было. Люди живут, и он выживет. Акимыч, значит, блатной, если не работает. Приближенный пахана. Хорошо, что меня именно в этот барак поселили. Пахан произвола не допустит. Коля еще в карцере узнал, что пахана зовут Сергей Лобан. Вор в законе. Двадцать шестой год по зонам мотается. Человек правильный, строгий… Кум, скорее всего, поверил Коле, если в барак к пахану поселил. Видно, пожалел, посочувствовал. Может, подвох какой? Надо не расслабляться, быть начеку.
Акимыч не подошел к нему, громко позвал от окна:
— Волчонок, топай сюда!
Там у окна, за столом, четыре зека играли в карты, а трое, в том числе и Акимыч, стояли рядом и наблюдали за игрой. Игра шла весело. Лица у игроков были азартные, разгоряченные. Играли в дурака, и видно не на «интерес». Просто на вылет. Поэтому страсть была веселой.
— Ты мне хотел поклон передать. От кого? — быстро спросил один из игроков, выглядевший помоложе Акимыча, но лысоватый, с седыми висками. Он быстро взглянул на Колю и воскликнул весело: — Вот так его! — радуясь, что партнер хорошо зашел. — А я с этой стороны! — резко шлепнул он картой по столу.
Коля растерянно смотрел на игрока: не разыгрывают ли его? Он ожидал увидеть степенного пахана, заботливого отца зоны, который держит на расстоянии своих приближенных, сурового, малоразговорчивого. При нем громкого слова не скажешь. А этот игрок не производил впечатления человека, который держит власть над сотнями человек.
— Ну! — снова глянул пахан на Колю.
— Левитан просил вам кланяться…
— Левитан! — воскликнул пахан. — Левиташа! Где ты его встретил?
— В одной хате сидели?
— Ох ты, захомутали его опять. Новый срок мотать будет. Значит, возможно, скоро встретимся! — снова шлепнул картой пахан по столу.
— Он теперь на воле.
— Молоток, сумел выкрутиться. Он всегда был верткий.
— Я помог ему.
— Ты? — с интересом и удивлением задержал на этот раз на нем взгляд пахан, отвлекся от игры. — Как?
— Я дал ему некоторую информацию, а он воспользовался ею.
— Мы тоже на волю хотим, и нам дай какую-нибудь малюсенькую информацию, — быстро сказал один из игроков, и все засмеялись.
Коля решил, что пахан спросит, что за информацию он дал Левитану, но ему не хотелось говорить о пленке, боялся, что подставит Левитана. Ведь он ею воспользовался. И заговорил быстро:
— Это была местная информация, чисто тамбовская. Уже все давно позади. Я думаю, Левитан сам при встрече расскажет…
— Ты, судя по всему, парень серьезный… не побоялся отрицаловки, ШИЗО. Акимыч о деле твоем рассказывал. Пока ты правильно все делаешь: дал Бог крест, даст и силы нести его. Не чувствуешь вину — считай, что сидишь за другого. Когда-нибудь это тебе зачтется… Как жить собираешься? С кумом упорствовать будешь, завтра опять в отрицаловку, опять в ШИЗО? Или как?
— Сказал кум… на работу, в лес.
— Значит, в мужики?
— Мужик я… В бойцы не гожусь, шестеркой никогда не был…
— Мужик так мужик… Отдыхай! — произнес пахан, не глядя на Колю, и воскликнул: — А я его с левака! — и шлепнул картой по столу.
32. Зона
Началась у Коли Волчонка, так его стали звать зеки, однообразная размеренная жизнь. Подъем, завтрак, развод — вывод на работу бригад, самая нудная часть жизни зека. Даже летом томительно выстаивать в арестантской колонне под непрерывный зуд комаров, которые утром кажутся особенно яростными и голодными, слушать командные выкрики бригадиров и нарядчиков, проходить быстрый и небрежный обыск, сдачу-приемку, когда лагерные вертухаи-надзиратели сдают бригады конвою. Но гораздо страшнее зимние разводы. Час, а то и больше надо топтаться на холоде, пока не откроются ворота зоны. Шесть часов утра, но еще темная ночь. Зона освещена. Бегают, сбивают зеков в колонну нарядчики. Зеки в ватных штанах, в валенках, в бушлатах, у многих шеи обмотаны полотенцами вместо шарфов, в сильные морозы лица закрыты масками с прорезями для глаз и рта. Жуткая, фантастическая картина.
В полной тишине бригада идет к инструменталке, только снег яростно скрипит под валенками, разбирает топоры, пилы, и в тайгу, на лесосеку, спотыкаясь в темноте в снегу о корни, пни. На лесосеке еще темно, валить лес нельзя. Это хорошее время, блаженство. Разжигается для бригады большой костер из сухостоя, порубочных остатков: сучьев, верхушек елей, и маленький костер неподалеку для конвоя. Все рассаживаются вокруг костра на поваленные бревна и смотрят на огонь, не отводя глаз от пламени. Каждый о своем молчит. Кто просто дремлет, кто вспоминает вольные дни, кто мечтает о воле, о том, как он будет жить, освободившись. Как только развиднеется, раздается крик бригадира:
— Хватит кантоваться! Работа ждет!
В ответ обязательно кто-нибудь буркнет:
— Работа не волк…
Все начинаются шевелиться, подниматься, брать в руки нагретые огнем топоры…
Первые полгода Коля Волчонок был подсобником у вальщика. Длинной вагой направлял подпиленное дерево, обрубал сучья, потом, поднимая дрыном поваленное дерево, разделывал его на сортименты — шестиметровый пиловочник, четырехметровую неделовую древесину. Вначале работе эта была мучительной. Нужно было успеть обработать дерево до того, как вальщик повалит следующее. Потом привык, научился быстро расчетливыми ударами смахивать сучья с косматых густых елей так, чтобы не тратить лишнюю силу на замах и удар по небольшому сучку или наоборот не бить несколько раз по толстому, сносить его за один замах. Через полгода, весной, когда вальщик, напарник его, освободился, вышел на волю, Волчонок сам стал вальщиком. Втянулся быстро. Эта работа была чуть полегче.
Мелькали дни. В свободное время он читал или качал мускулы. Года через два на зоне появился каратист, и Коля стал заниматься с ним по выходным дням.
С администрацией лагеря Коля Волчонок не поддерживал никаких отношений. Старался не нарушать правила, был замкнут, не разговорчив, и этим оправдывал свою кликуху. Постепенно стали звать его зеки не Волчонком, а Волком. Называли его между собой Тамбовским волком. На замечания козлов Коля не отвечал, не возражал им, не вступал в пререкания. И сам никого не задевал. С зеками общался только по необходимости. С разговорами ни к кому не лез, а если у него спрашивали что-то, отвечал односложно: да, нет. В таком духе беседу долго вести нельзя, и от него быстро отставали. Вася Киргиз жил в другом бараке. В первые дни в выходные он заглядывал к Коле, пытался разговаривать, но Волчонок, если читал, не откладывал книгу, отвечая на вопросы односложно, не прекращал читать, и Вася отстал. При встречах перебрасывались: «Привет!», «Привет!». «Как дела?» «Идут!»
Шли годы, но мысль — сбежать отсюда — не отставала. Временами очень сильно жгла. Иногда он расспрашивал ветеранов зоны, бывали ли отсюда побеги? Удачно ли? Да, были побеги, но почти все они заканчивались неудачей. Беглецов ловили, добавляли срок и возвращали в лагерь. Но были случаи, что беглецы исчезали безвозвратно. Что с ними сталось? Погибли в тайге, либо удалось им скрыться? Кто знает? Сбежать можно, а что потом? От поселка до поселка здесь сотни километров по глухой тайге. Каждый житель местный дал подписку властям, что как только заметит он в тайге незнакомого человека, то должен немедленно сообщить об этом властям. Иначе сам срок получит. Все зеки для местных бандиты. Всегда выдают беглецов.
Они рассуждают так: если ты просто хулиган или воришка и получил малый срок, зачем тебе бежать. Работай хорошо и срок скостят, амнистируют. А если убийца, то убийца должен сидеть в тюрьме, чтобы не убивал больше. С чистой совестью выдают, и премии за это получают. Поэтому побегов мало. Редко кто отваживается сунуться в незнакомую тайгу с частыми болотами. Как пройти по ней сотни километров и не заплутать, где взять еду. Да и на месте тебя должны ждать, подготовить новые документы, дать деньги. Бежать можно блатным, которых на воле ждет своя братва. Накормят, оденут, обуют, спрячут. И те редко решаются на побег.
А мужику — труба! Никто не помнил случая, чтобы мужик пытался бежать из лагеря. Наоборот, были случаи, освободится мужик, отсидевший большой срок — десять-двенадцать лет, и остается при лагере, вольняшкой. Привык, страшит его вольная жизнь в родных местах, давно ставшими чужими. А здесь все знакомы, жизнь понятна. Место определенное есть. Таких случаев много. Но чтоб бежал мужик? Нет, такого никто не слышал.
«Услышат!» — думал упрямо Коля Волк. Идти можно вдоль реки или железной дороги, обходя поселки. Конечно, риск большой встретить в лесу возле жилья человека, грибника или ягодника, если это летом, либо охотника зимой. Зимой следы видно, и как пробираться по глубокому снегу, в мороз. Без лыж далеко не уйдешь. Возьмут быстро. Весной бежать нельзя. Вода всюду, утонешь в болоте. Лучше всего бежать осенью, когда морозец схватил землю. Снежок еще не выпал. А если выпал, то неглубок. Хорошо бы сбежать в небольшую метель. Снег заносит следы. Легче скрыться. И грибники перестали шляться по лесам.
Правда, в это время охотники по всей тайге шастают, но их в сравнении с грибниками немного, у каждого свой участок вдали от селений и железных дорог. Хорошо бы на каком-нибудь подъемчике, где поезд сбавляет скорость, зацепиться за вагон, взобраться в него, спрятаться среди бревен и докатить до Сыктывкара. Не каждый состав проверяют.
Но как быть потом? Где взять одежду? По арестантской робе первый встречный узнает беглого зека. Надо, чтоб кто-то ждал тебя в Сыктывкаре или окрестностях. Одел, обул, накормил. Взял билет на поезд. Где взять деньги? Все это сдерживало. Но мечты не покидали. Только бы добраться до Перелыгина, а потом деньги будут. С него хотелось начать мстить. С него, с лучшего друга. Он предал. Кто был Анохин для Сарычева? Знакомый. А для Долгова подчиненный подчиненного. И все. А с Перелыгиным они много лет дружили. Если бы он не подставил его, никогда бы никто не узнал о пленке до тех пор, пока бы она не оказалась в Москве. С Перелыгина началась расправа над Николаем Анохиным, с него Коля Волк и начнет расплату.
33. Стычка с блатными
Семь одноликих лет прошло, проползло медленно. Полсрока было позади. Пахан Сергей Лобан освободился, роль его теперь играл Акимыч. Он не был вором в законе, авторитет, а это рангом пониже в уголовном мире. Поэтому его не считали паханом, называли «смотрящим». Но как и слово пахана, слово смотрящего было законом для всех зеков. На зоне ничто не изменилось с уходом на волю Лобана. Несколько изменился только сам Акимыч.
Он перестал играть в карты, стал говорить медленно, коротко и как-то важно, степенно. За эти семь лет он постарел, ссутулился. Он карал нарушителей правильных понятий более жестко, чем Лобан. Несколько зеков приказал опустить, сделать петухами, а двух особенно злостных нарушителей утром нашли на нарах с перерезанными горлами. Шепотом называли имя гладиатора, то есть палача, исполнителя приговора воровской сходки.
Когда по бараку проходил Акимыч, громкие разговоры затихали. Многие боялись встретиться с ним взглядом. Вдруг что-то обидит его. Чувствовалось, что такое отношение к нему, Акимычу нравится. Он впервые за многие годы отсидки оказался во главе большого лагеря. Но никто не мог сказать, что он кого-то обидел несправедливо. Все знали, что прирезали одного блатного за крупный карточный долг, который он не отдал. Это было страшным нарушением правильных понятий, лагерного закона.
Был случай, когда один из крупно проигравших блатных, зная, что отдать долг он никогда не сможет, значит, его ждет смерть, добровольно сделался петухом. Ночью взял свой матрас и перебрался на петушиную шконку. Теперь у него брать долг стало нельзя, чтобы самому не зашквариться, не стать петухом. Нечем отдавать долг, не садись играть в карты. Другого зека убили за то, что он выдал один из каналов поступления на зону наркотиков. Вольняшка, через которого это делалось, получил срок.
Акимыч приказал опустить одного из блатных за то, что он уболтал на член вновь прибывшего первоходочника, уговорил молодого парня дать ему за пачку сигарет. Мол, дай разочек, никто не узнает, а я тебя всегда буду защищать. Парень не знал, что такое пассивный педераст в зоне. Он автоматически стал опущенным, изгоем. Но и обманщика опустили. Такой обман по правильным понятиям считался крупным косяком, непростительным в правильной зоне. Опущенный блатной посчитал себя обиженным напрасно, послал телегу на Акимыча на сходняк в другую зону, где паханом был известный вор в законе. Оттуда пришел ответ, что Акимыч поступил правильно.
Но вся эта жизнь не касалась Тамбовского Волка, шла мимо. Он по-прежнему был неразговорчив, замкнут. Читал, качался, закалял тело, оттачивал приемы каратэ и самбо, крутил солнышко на турнике. Уважение мужиков к нему росло, а некоторым блатным из не особенно авторитетных шестерок такое поведение его не нравилось. Они время от времени пытались его задеть, вывести из себя. Обычно это были подколки, подначки, на которые он просто не отвечал, словно не слышал, словно речь шла не о нем.
Но однажды, в воскресенье, когда он занимался на плацу, теперь он мог отжаться пятьсот раз, а группа блатных неподалеку на лавочке грелась на солнце, Коля услышал, как один из них, тот самый, что особенно любил подколоть, сказал насмешливо:
— Во, глядите, как козел рогами бодает землю!
Это уже была не подколка, оскорбление. По правильным понятиям, оно не должно было остаться без ответа. Коля прекратил отжиматься, поднялся и спокойно пошел к блатным. Они насмешливо смотрели, как он приближался. Их было пятеро. Они поднялись, когда он приблизился к ним.
— Ты сказал? — Коля ткнул пальцем в обидчика.
— Я! — кривляясь, уверенный в безнаказанности, ответил блатной.
Коля, не размахиваясь, со страшной силой врезал в челюсть блатного. Ноги того оторвались от земли. Он перелетел через скамейку, упал в кусты. Не взглянув на других блатных, Волк повернулся и пошел назад. Туда, где качался. Трогать других блатных, которые ему ничего не сделали, было нельзя. Бить их можно будет только после того, как они нападут. А нападать сзади четверым на одного, который ничего им не сделал, западло и большой косяк. За него ответ держать придется.
И все-таки блатные напали. Очень им хотелось проучить независимого Волка. Коля слышал, как они бросились к нему, увидел по тени, как один из бежавших замахнулся каким-то предметом, чтобы ударить его по голове, и успел отклониться. Но все же получил удар обрезком доски по плечу и хорошего пинка под задницу. Через несколько секунд у одного зека была выбита челюсть, у другого перебит нос, а двое остальных, вскочив с травы, где они оказались от молниеносных ударов Волка, трусливо бежали к бараку.
Опускаясь на плац, чтобы продолжать отжиматься, Коля заметил, что обидчик его все еще лежит в кустах, не шевелится. «Не убил ли я его? — тревожно мелькнуло в голове. — Слишком сильно ударил!». Отжимаясь, считая про себя, Коля краем глаза видел, как блатные поднимались с травы, потом двинулись к бараку, прижимая руки к лицу. «Могут позвать блатных, — подумал Волк. — Будет битва! Могут убить!».
Он в первый раз применил на деле удары каратэ, и сам был ошеломлен результатом. Он считал, что в конце концов четверо блатных его изобьют. Но они даже не успели ни разу ударить его, не считая того момента, когда напали сзади. Он решил, что блатные теперь не оставят его в покое, будут мстить, но мстить исподтишка, напрямую больше не решаться. Закон против них. Побоятся наделать косяков.
Вечером Колю Волка позвали к Акимычу. «На разборку!» — понял Коля. Видимо, опять придется драться.
Акимыч сидел на своей шконке: строгий, степенный судья. Вокруг блатные. Среди них битые им. Нос у одного посинел, вздулся. Челюсть другого, об этом Коле уже доложили, была подремонтирована в медчасти. Все участники драки были хмурыми, не смотрели на него.
— Что произошло? — коротко бросил Волку Акимыч.
— Меня назвали козлом.
— Почему?
— Не знаю, — пожал плечами Коля. — Я качался на плацу, никому не мешал. Они сидели на скамейке.
— Тебя назвали козлом без причины, — твердо, сурово и веско заговорил Акимыч. — На тебя напали впятером… Ты имеешь право вынести дело на разборку, обидчики будут наказаны!
— Меня обидели, я ответил, — сказал Коля. — Теперь я на братву не в обиде. Не вижу причин для разборки.
Акимыч сурово смотрел на него, пока он говорил. Ответил не сразу, размышлял.
— Дело ясно… Ты свободен, — произнес он медленно.
А Коля подумал, что Акимыч больше похож на настоящего пахана, чем Лобан.
Уходя неторопливо, Волк слышал, как Акимыч негромко говорит своим приближенным:
— Слышали ответ достойного человека? Этот мужик живет по правильным понятиям. Мне жаль, что он не наш… У нас бы он достиг больших высот!
О его стычке с блатными, естественно, сразу узнала вся зона. Коля понял это по почтительному уважению к себе зеков, особенно услужливых шестерок. Больше никто подначивать его не решался.
34. Побег
Однажды осенью, когда шел к концу восьмой год его жизни на зоне, по бригаде прямо на лесосеке прошелестел слушок, что на зону прибыл пахан. Как дошло сюда из зоны, непонятно. Коля Волк решил, что новый срок получил Лобан, удивился, почему его направили в ту же зону, где он мотал прежний срок. Но вечером в бараке он увидел Левитана. Узнал сразу. Левитан почти не изменился, только вальяжнее стал, щеки округлились. Видно, на воле у него была сладкая жизнь. Левитан не узнал Анохина поначалу, скользнул по нему взглядом при встрече. Потом приостановился, вгляделся, сказал удивленно:
— Ты? — имя Анохина он, видимо, давно забыл. Не держал в голове.
— Я.
Левитан неожиданно для всех обнял Колю, говоря:
— Я считал, твои косточки давно сгнили. Как же это они тебе лоб зеленкой не намазали? Друзья твои давно тебя в поминальные списки внесли. У нас ведь не милуют.
— Любая машина дает сбой, — ответил Коля.
Его поразили слова о друзьях, и он хотел спросить о них. Неужели Левитан был с ними?
— А ты крепок стал, — похлопал Левитан Колю обеими руками по бицепсам. — Как тебя здесь кличут?
— Тамбовский Волк мужик у нас уважаемый, — проговорил Акимыч.
Степенность с него слетела. Вид у него стал такой же простой и добродушный, как и тогда, когда он был авторитетом при Лобане.
— Ты видел… друзей? — быстро спросил Коля, запнувшись на мгновенье.
— Частенько… Теперь они и мой друзья…
— Где они?
— Все в Москве. Большие люди… Но об этом потом, потом… Не все сразу, или все не сразу. У меня дел много, — засмеялся Левитан, оттолкнул легонько Колю от себя и направился к выходу из барака.
Встреча эта произошла на глазах блатных и мужиков, вернувшихся вместе с Колей с работы, и добавила авторитета Волку среди блатных. Может быть, кто-то из тех, кого он обидел в стычке на плацу, подумывал о мести, когда Акимыч освободится или придет новый пахан, но после такой встречи Волка с паханом, оставил эти мысли навсегда.
Вскоре Коля узнал, что Долгов сейчас в Кремле, инструктор ЦК КПСС. Некоторое время он работал в Тамбове в обкоме партии заведующим отделом. Оттуда в столицу, где еще раньше обосновался Климанов. Больше всего поразило Колю Волка, что Климанов пахан в этой группе, как назвал его Левитан. Сейчас он министр легкой промышленности. Сарычев тоже в Москве в Министерстве внутренних дел, полковник. Перелыгин окончил Высшую комсомольскую школу и теперь возглавляет столичный молодежный журнал. Все четверо дружат семьями. Живут богато. Подпольные цеха их разбросаны по всей стране. Левитан курировал у них безопасность.
Левитан рассказывал о них с такими подробностями, что было ясно, что связан он был с ними довольно тесно.
— Дружки они мне теперь навек! — не сдержал эмоций Левитан. — Это они меня сюда на червонец определили. Не выпустят живым, суки! Недооценил я их, ох как недооценил… И тебя уберут быстро, как узнают, что жив… Они уверены, что зеленку с твоего лба черви давно слизнули… Огорчить я тебя должен, но тебе знать надо, надо! Крепись!.. Жену Сарычева зовут Зинаидой. Она из Уварова, соседка Сарычева по улице…
Коле Волку казалось, что память о Зине потускнела, выветрилась. Не часто он думал о ней в последние годы. Но известие о ней неожиданно больно ударило в сердце. Новости о карьере врагов и без того были не радостны. Достать в Кремле их будет не просто. Двое уже в высшем эшелоне власти, потихоньку прибирают страну к рукам.
После этого разговора Коля на два дня ушел в себя. Навалилась прежняя тоска. Зина не выходила из головы. Он надеялся, что предположение Левитана о том, что Зина станет женой Сарычева, ошибочно, что она никакого отношения к Сарычеву не имеет, замужем теперь за незнакомым ему человеком, а может быть до сих пор свободна и когда-нибудь она станет его. На третий день им вновь овладела решимость сбежать отсюда. Одному не уйти, надо подбить Левитана. У него по всей стране связи. С ним можно найти приют, деньги, купить новые паспорта и действовать, действовать. Волк улучил момент, шепнул Левитану, что разговор есть. Встретились на плацу в воскресенье, где, как обычно, тренировался Коля.
— Уходить нам надо отсюда, пока дружки не добрались, — быстро проговорил вполголоса Коля.
Левитан молчал, смотрел на него как-то оценивающе.
— Иного выхода нет, — сказал Волк.
— Знаю я, что живешь ты, чтоб отомстить дружкам, — негромко сказал Левитан. — Хорошая цель!
— Я давно б сбежал… Но кто меня встретит на воле? Где деньги возьму? Паспорт? Где жить? Нет у меня никого на воле… А у тебя все есть!
— Я не слышал этого разговора, — тихонько пробормотал Левитан, поворачиваясь уходить.
— У тебя голова, опыт, а у меня руки, сила…
— Жди! — почти прошептал Левитан через плечо.
Сердце радостно дрогнуло от этого слова. Волк подскочил к турнику и стал яростно подтягиваться, ликуя в душе: неужели скоро сбудутся мечты! Неужели цель близка? С Левитаном можно и секретаря ЦК раскрутить! Поскорее бы!
Ждал Коля Волк не меньше месяца. При встречах с Левитаном смотрел на него с надеждой, не подаст ли он какой знак. Но Левитан молчал, глядел равнодушно. Коля начал было потихоньку собирать сухари. В тайге надо есть что-то. Голодный далеко не уйдешь. Потом прекратил.
В одно из воскресений к турнику, где, как обычно, тренировался Коля неторопливо подошел Левитан и спросил громко:
— Двести раз подтянуться сможешь?
— Могу, — не глядя на него и продолжая подтягиваться, ответил Коля и услышал быстрый шепот.
— Завтра сразу после лесосеки к ларьку. Понял?
— Да, — дрогнувшим голосом ответил Коля.
Левитан прошел мимо него и направился дальше по плацу. Руки у Волка задрожали, и он спрыгнул на землю. Неужели завтра? Как они сбегут из зоны? Проще сбежать с лесосеки. Сейчас сентябрь. Морозец уже прихватывает землю. Самое время для побега. Легко будет идти по тайге. Следов не видно. Утречком, когда еще темно, сделать вид, что пошел за сухостоем для костра, и в тайгу. Конвой не заметит. Только после работы на вахте побег обнаружится. А за день далеко уйти можно. Что же придумал Левитан? Нужно ли что брать с собой? Эти вопросы весь вечер не давали покоя. Спросить у Левитана нельзя. Надо ждать.
Спал эту ночь Тамбовский волк плохо, ворочался, думал о завтрашнем дне, о том, как прибудут в Москву. Сразиться с дружками придется там. Коля до встречи с Левитаном считал, что будет мстить своим врагам в Уварове. На этом и строил планы мести. Не ожидал он, что все они переберутся в столицу. Теперь ему казалось, что в Москве ему будет проще отомстить. Город большой, легче затеряться. Никто там его не знает. А в Уварово тщательно скрываться надо. Там быстро узнают, пойдет слух, что Анохин жив, вернулся. Все планы могут сорваться. Не успеет отомстить всем.
Работал в тот день Коля не спеша, берег силы. Пригодятся в побеге. Видимо, придется идти и ночью, чтобы подальше уйти от лагеря. Ночи сейчас лунные, идти будет можно. Все учел Левитан. Не понимал Коля, как же они выберутся из лагеря? Зачем нужно идти к ларьку? Он ведь рядом с конторой. А там всегда после работы крутятся нарядчики, бригадиры, нормировщики и прочие суки.
Еле дождался Волк конца рабочего дня. На минутку забежал в барак, набил карманы приготовленными сухарями. К ларьку шел неторопливо, своим обычным спокойным шагом. Увидел издали, что он открыт. Возле двери стоят два зека из блатных. У конторы несколько человек стоят, разговаривают. Обсуждают что-то козлы. К ларьку сбоку от конторы задом к стене прижата грузовая машина с крытым кузовом. Она по понедельникам привозила товары в ларек. Обычно машина приезжала и уезжала, когда зеки были на работе. Капот у нее поднят. Из-под него торчит задница водителя. Вероятно, машина сломалась. Из окна конторы видна она с одной стороны, с другой стороны глухая стена инструменталки. Неподалеку от машины стоят, курят Левитан и молодой парень из блатных, первоходочник, шестерка. Ему лет девятнадцать всего. Чтобы подойти к ларьку, нужно пройти мимо них. Когда Волк поравнялся с ними, он услышал быстрый властный шепот Левитана:
— Не гляди на меня! Быстро забирайся в кузов машины со стороны инструменталки. Дверь открыта!
Волк прошел мимо них с безразличным видом, ничуть не ускорил шаг. Три вещи ему были непонятны. Почему Левитан сказал это при шестерке? Как он заберется в кузов, если машина подогнана к стене задним бортом вплотную? Как может машина проехать вахту вместе с ними, когда ее каждый раз тщательно проверяют? Коля неспешно подошел к водителю, который позвякивал ключом под капотом, подкручивал что-то, остановился на мгновенье и шагнул за машину, к стене. Оказывается водитель подогнал машину к стене чуть наискось, так, что угол борта, видимый от конторы, касался стены, а другой угол, со стороны инструменталки, не доставал до стены на полметра. Этого достаточно для того, чтобы открыть дверь кузова машины и протиснуться внутрь. Коля проделал это быстро, нырнул в кузов и замер там в полумраке. Кузов был совершенно пуст. Все ящики с товаром были выгружены. Дежурному по вахте достаточно открыть дверь, заглянуть в кузов, как беглецы будут обнаружены.
Коля притаился в кузове, замер. Минуты через две он услышал торопливый шорох шагов. Дверь приоткрылась, показалась голова шестерки. А этот зачем? Шестерка неуклюже пытался влезть в кузов. Коля ухватил его за шиворот и рывком, одним махом, вздернул вверх и прикрыл дверь. Еще минуты через две дверь снова приоткрылась, и появился Левитан. Волк помог ему влезть в кузов и начал закрывать дверь.
— Погоди! — остановил его вполголоса Левитан. — А то темно!
Он подошел к переднему борту. Крытый кузов был весь обшит фанерой. Левитан прижал ладони к фанерному листу у переднего борта и сдвинул его в сторону. Стена оказалась фальшивой. За ней был тайник. Узкий, сантиметров тридцать, но вдоль всего борта.
— Прячьтесь! Быстро! — приказал шепотом Левитан.
Коля и шестерка друг за другом протиснулись внутрь тайника. Левитан — вслед за ними. Он поставил стену на место, придвинул к борту вплотную, чтобы щели не было.
— Не давите на перегородку, вывалится, — буркнул Левитан и стукнул два раза в стену борта.
Через мгновенье они услышали стук закрываемого капота, шаги, громкий скрип двери кузова, лязг железного засова. Мотор машины заработал ровно, кузов качнулся, и машина покатилась.
— Держитесь за борт, — донесся в темноте еле слышный шепот Левитана.
Сердце у Волка в груди разрывалось, колотилось так, что он слышал стук, и боялся, что услышит его конвой, когда будет проверять.
Машина притормозила, плавно остановилась. Слышно, как открылась дверь кабины. Водитель вылез, заговорил, забубнил что-то. Значит, вахта. Разговор спокойный.
— Семь раз говорил завгару, — это, видимо, говорит водитель, — надо менять карбюратор. Экономит, сука! В рот бы его… — добродушно матюкнулся он. — А если среди тайги встану! Ночь куковать?
Загремели засовы двери кузова. Скрип. В щели, там, где фанера соединялась с бортами, ударил свет. Коля затаил дыхание, но сердце стало колотиться еще бешеней. Хотелось прижать руку к груди, придержать удары. Но шевельнуться нельзя. Снова скрип, удар двери, лязг. И полная тишина. Тихий спокойный разговор продолжался еще минут пять, которые показались вечностью. Видимо, шмонали в кабине. Наконец, радостный стук двери кабины, веселый рык мотора, и машина медленно выкатила на волю.
— Слава тебе, Господи! — шепот Левитана.
Коля Волк расслабился, почувствовал, как у него затекли и дрожат ноги.
Ехали по тайге минут двадцать, а может и больше, кто знает. Наконец, остановилась машина. Мотор тихонько урчал. Быстро и ужасно громко громыхнули засовы, и Левитан тут же отодвинул половину фанерной стены, выскочил. За ним Коля с шестеркой. Спрыгнули вниз на дорогу. Грунт был здесь твердый, не песчаный, следов на нем не видно. Машина стояла у моста через небольшой ручей.
— Метров через сто, по берегу, поваленная сосна, под корнями у нее все, — быстро указал водитель в тайгу вниз по течению и бросился к кабине машины.
Беглецы нырнули в кусты и быстро пошли вдоль берега ручья. Позади рыкнул мотор. Звук его быстро удалился, растаял в тайге. Сосну, выдернутую с корнем бурей, нашли довольно быстро. Разгребли листья, ветки и нашли три больших туго набитых рюкзака.
— Берем и пошли! — бросил Левитан. — Нужно уйти как можно дальше.
Шли быстро. Коля чувствовал себя легко, рвался вперед. Изредка его окликал Левитан.
— Осади! Не рвись!
И Левитан, и шестерка тяжело дышали. Пот лил по их щекам. Волк тоже вспотел, но усталости не чувствовал.
Солнце село, стало темнеть, но беглецы не останавливались. Вскоре должна появиться луна. В сумерках хруст ветвей под ногами стал, кажется, слышнее. Ветки словно взрывались, били в уши. В темноте все чаще стали натыкаться на сухие сучья деревьев, которые тоже громко ломались. Хрип, тяжелое дыхание спутников позади Коли тоже стали слышнее, громче. Шестерка не выдержал, выдохнул жалобно:
— Не могу! Упаду сейчас!
— Привал, — бросил в ответ Левитан. — На полчасика!
Сели, упали на сухие листья. Левитан развязал свой рюкзак, наощупь отыскал буханку хлеба, отломил всем по куску.
— Ешьте!
Ели молча. Ветра не было. Деревья стояли не шелохнувшись, но полной тишины не было. Какой-то шорох, шелест, еле слышное тревожное потрескивание. Коле казалось, что их потихоньку окружают со всех сторон, перебегают от дерева к дереву, сжимают кольцо. Он жевал хлеб, озирался, вглядывался в темноту, которая медленно разжижалась. Стволы деревьев явственней чернели в темноте. Всходила луна. Сидели до тех пор, пока не стало настолько светло, чтобы можно было идти без опаски выколоть себе глаза торчащим сучком.
Шли теперь не так быстро, как прежде, размеренно. Левитан изредка бросал идущему впереди Коле:
— Левее чуть-чуть держись!
Уже под утро он скомандовал.
— Привал! Отдых!
Развели костер. Левитан бросил в него свою шапку, потом телогрейку. Заметил, что Коля и шестерка посмотрели на него недоуменно, и произнес:
— И вы бросайте!.. Разбирайте рюкзаки!
В рюкзаках оказались не только куртки, но и свитера, обувь, нижнее белье, а самое главное пуховые спальные мешки. На костре сожгли всю свою одежду. Ничего не должно напоминать о связи с лагерем. Коля хотел оставить носки про запас, но Левитан приказал ему:
— Кидай в огонь!
Коля подчинился. Левитан, переодеваясь, говорил:
— Знаете, из-за чего провалилась группа наших разведчиц? Их тщательно подготовили к работе в тылу немцев, забрасывали по одной, по совершенно разным легендам. В разное время они должны были проникнуть в город. И всех их по одной взяли, хотя предателей среди них не было, да и предать было нельзя. Никто из них не знал, под каким видом и именем появятся они в городе. А провалились они просто. У всех у них были одинаковые казенные трусы. Немецкий патруль при въезде в город даже документы у девок не спрашивал, сразу задирал юбку, смотрел на трусы: Ага! У этой казенные, эта наша! Сюда ее! А эта может быть свободна… Так и нас по трусам да носкам захомутать могут!
В рюкзаках, кроме консервов и хлеба, крупы и другой еды, нашли большую карту севера России, компас, котелок, чайник, топорик, три ножа, ложки и паспорта на всех троих беглецов. Фотография на Колином паспорте была не четкая, размытая и все-таки облик человека на ней напоминал Анохина. А на паспортах Левитана и шестерки были настоящие фотокарточки. Видимо, Левитан давно готовил побег с шестеркой.
— Будем знакомы, — сказал серьезным тоном Левитан, протягивая руку Коле, в другой он держал паспорт. — Андрей Сергеевич Попов, геолог, кандидат наук, начальник партии.
— Николай Иванович Седов, инженер, — засмеялся Коля, пожимая ему руку.
— Юрий Михайлович Комлин, инженер, — хихикнул шестерка.
— Юрок, Юранчик, студент, — поправил его Левитан. — Понял?
— Понято.
— А теперь спать! Три часа! На рассвете в путь!
На рассвете, пока закипала вода в чайнике, Левитан рассматривал карту, сверял путь по компасу. За завтраком сказал:
— Они ожидают, что мы пойдем на юг. Там и усиленно искать будут, а мы двинемся на запад. Через месяц поиски увянут, притупятся. Решат, что мы уже в Москве или в Сочи. А мы выйдем к какой-нибудь станции подальше отсюда и покатим в Ленинград. За месяц у нас бороды отрастут, станет вид интеллигентный, ученый.
— У нас жратвы не хватит на месяц, — усомнился шестерка.
— Будем экономить.
— И снега скоро насыпет… Надо наоборот, в город пробираться…
— Ну да, в лапы к ментам. Там они нас ждут.
Рюкзаки, после того, как из них вынули одежду, заметно похудели. Стали легче.
Костер затоптали, аккуратно засыпали листьями, забросали сучьями. Оглядели место ночевки, чтобы следов не было, и двинулись дальше.
35. Людоеды
Им везло. Ни разу не встретился ни один человек. Возможно, потому, что Левитан вел их по глухим местам, вдали от человеческого жилья. Дня через три после побега пошел снег. Он сыпал долго в полной тишине. Следы за ними оставались четкие. Но Левитан не опасался этого. Наткнется охотник, ну и что ж. Не бросит же он свой промысел, заимку, чтобы бежать в поселок, до которого не менее двух дней пути, чтобы сообщить о подозрительных следах. Потом подул ветер, началась метель, густая, морозная. Два дня блуждали по снегу, пока не набрели на брошенную, полуразвалившуюся охотничью заимку. Заткнули кое-как дыры, чтобы снег не мело внутрь, затопили печь.
Продукты быстро таяли, как их не берегли, не экономили. Рюкзаки худели. Через две недели пути хлеб кончился. Ели консервы и жидкий пшенный кулеш. Варили его в котелке. От голода быстрее уставали, все чаще останавливались на отдых. И пришел день, когда последние зернышки ссыпали в кипящую воду.
— А дальше как? — с тоской спросил Юрок, шестерка. — Подыхать с голоду?
— Недолго осталось, — буркнул Левитан. — Потерпим… Не лезть же в лапы к ментам!
На рассвете Коля проснулся в своем спальном мешке от какой-то возни, хрипа. Оглянулся на шум и похолодел, показалось, что видит сон, ужасный сон. Он увидел, что Левитан стоит на коленях в снегу перед спальным мешком шестерки и держит за волосы голову Юрка, из горла которого хлещет на белый снег черная в полутьме кровь. Рядом в снегу лежит окровавленный нож. Ноги Юрка дергаются в спальном мешке. Голова содрогается в руках Левитана, хрипит. Он пытается держать ее на отлете, чтобы брызги крови не испачкали его. Левитан услышал, что Коля зашевелился, оглянулся и спокойно позвал:
— Иди, помоги!
Коля не шевелился, оцепенел, с ужасом смотрел на страшное видение.
— Скорее! Подержи ноги! — сердито крикнул Левитан.
Коля, дрожа, стал выбираться из спального мешка. Выкарабкался, вялыми ногами, спотыкаясь, подскочил к шестерке и навалился на его дергающиеся ноги. Левитан ткнул хрипящую голову Юрка в снег. По телу шестерки пробежала последняя судорога, и он затих. Левитан отпустил голову Юрка и стал мыть руки снегом, с насмешкой поглядывая на Колю. Он все еще лежал на спальном мешке шестерки, навалившись на его ноги.
— Вставай! Он готов! — поднял нож Левитан и стал чистить его снегом.
Коля медленно поднялся, не спуская глаз с Левитана. Мелькнула мысль, что он сошел с ума и сейчас броситься на него с ножом.
— Поджилки трясутся, мститель? — усмехнулся Левитан. — А с дружками ты, что, целоваться будешь? Или уничтожать?
— А что он сделал? — хрипло выдавил из себя, взглянув на окровавленного Юрка, Коля.
— Ничего. Он кабан… Ты что, не догадывался? Для этого мы его и брали… Чтобы с голоду не подохнуть.
Коля все понял. Он слышал в лагере, что беглецы из зоны часто берут с собой в побег молодых неопытных зеков. Когда еда кончается, режут их и едят. Их зовут кабанами или кабанчиками.
— Я его есть не буду, — прошептал Коля, чувствуя подступающую тошноту.
— Будешь, еще как будешь, — уверенно сказал Левитан. — Человечинка повкуснее телятины будет… Вытаскивай его из спальника, раздевай. Сейчас разделывать будем, — произнес это Левитан таким тоном, словно речь шла, действительно, о кабане или баране. — Давай, давай! Время не ждет.
Коля начал дрожащими руками расстегивать змейку спальника шестерки, вытаскивать наружу еще теплое тело.
— На снег не клади. На спальнике разделаем. Он теперь ему не нужен. Сожжем потом… Стаскивай с него штаны, раздевай.
Обнаженное тело Юрка белело на черном спальнике. Когда Левитан поднял его ногу и начал отрезать икру, мякоть, Колю вырвало. Он отскочил к стволу сосны, согнулся, оперся о ствол рукой. Его выворачивало наизнанку.
— Не будь слабаком, — слышал он за своей спиной спокойный назидательный голос Левитана. — И через это надо пройти… Помни, что, если бы не предали тебя твои дружки, не было бы с тобой ничего этого. Помни это, и возьми себя в руки! Ты должен остаться жить любой ценой, любой ценой… Иначе погибнешь и не отомстишь за свою растоптанную судьбу, за свои незаслуженные страдания, за поруганную любовь, за смерть матери…
Коля вытер губы, постоял, опираясь о ствол, подумал с тоской. «Да, надо пройти через это… Надо!» И вернулся к Левитану, стал, стиснув зубы, помогать ему.
36. Волки
Есть мясо человека заставит себя Коля Волк не мог. Даже от сладковатого запаха, который шел из кипящего котелка, его тошнило.
— Ешь! — требовал Левитан. — Упадешь — брошу! Еще не менее недели нам блуждать по тайге. Не выдержишь!
— Не могу! — морщился Коля, сдерживая рвотные судороги.
Он, обжигаясь, пил пустой кипяток и старался не глядеть, как Левитан уминает мясо. Три дня Коля уже ничего не ел. Днем они шли по тайге, пробирались по снегу, который после очередного снегопада или метели становился все глубже. Все труднее пробираться по нему. Длинные ночи проводили в спальниках, настелив под ними еловые ветки.
Идти голодному было все труднее. Темнело в глазах, приходилось часто останавливаться, отдыхать. Коля понимал, что Левитан, не задумываясь, бросит его, если он не сможет идти дальше. И не просто бросит, оставит в тайге, а предварительно прирежет. На всякий случай. Чтобы не осталось свидетеля. Вдруг какой-нибудь охотник наткнется на полуживого и выходит его.
И Коля Волк не выдержал. Слишком внезапно потемнело в глазах, и он упал в снег, потерял сознание. Очнулся, услышал, что Левитан ломает ветки, разводит костер. К нему не подходит. Коля лежал долго в полудреме, в забытьи, то теряя сознание, то приходя в себя. В очередной раз очнулся от того, что что-то теплое льется тонкой струйкой в его открытый рот. Он стал глотать теплый бульон, чуть сладковатый на вкус. Открыл глаза. Увидел склонившегося над ним Левитана, который лезвием ножа раздвинул ему зубы и лил в рот из кружки мутноватый бульон.
— Глотай, глотай! — сказал он тихо и дружелюбно, продолжая лить бульон.
Коля тихонько отстранил его руку с ножом в сторону и попытался подняться, пробормотал:
— Я сам…
Левитан помог ему подняться, сесть спиной к стволу сосны и дал в руки теплую кружку. Коля начал пить бульон маленькими глотками, не думая, что он из человеческого мяса. Главное, он был сытным и теплым. Выпил и протянул кружку Левитану.
— Еще…
Левитан накрошил в кружку ножом мяса, налил из котелка бульон и, не говоря ни слова, вернул Коле. Волк глотал бульон, медленно и бездумно жевал кусочки мяса, отдыхал, чувствуя, как становится легче, перестает кружиться голова, возвращаются силы. Больше ему Левитан не дал есть, сказал:
— Погоди, не надо сразу много… Вечером…
Вечером Коля наелся. Впервые за последние дни, чувствовал себя сытым, спал крепко. Перед рассветом разбудил его долгий тягучий и ужасно тоскливый вой. И тут же ему подтянул другой, более тонкий. Коля зашевелился в спальнике и услышал голос Левитана:
— Братки твои, волки! Стая! Это плохо!
Они развели костер, сварили мяса, наелись и отправились дальше. Сытому шагать легче. Хотя прежней бодрости пока не было. Хорошо хоть ноги не дрожали с утра, как вчера, не заплетались при каждом шаге. Всего через полчаса ходьбы они увидели на снегу свежие следы зверей.
— Видать, семья… Трое… Держи нож поближе. Черт знает, что у них на уме…
Идти тихо по тайге нельзя. Снег хрумкает, глухо потрескивают сучки под ногами, невидимые под снегом. А когда пробираешься по чаще, то невольно трещишь сучьями так, что слышно за сотню метров. В тот день, как назло, было тихо. Не шумели верхушками деревья. Не скрипели, покачиваясь под ветром, стволы.
Левитан шел впереди. Вдруг он неожиданно остановился. Коля чуть не ткнулся в его спину, спросил?
— Ты чего?
— Смотри! — громко сказал Левитан дрогнувшим голосом и резко взмахнул рукой, словно прогоняя кого-то с пути.
Коля увидел совсем рядом, всего метрах в десяти от них под усыпанной снегом небольшой елочкой волка. Он был похож на овчарку, но покрупнее, серее и тупее, что ли, на вид. Волк не шевельнулся в ответ на взмах руки Левитана, только ощерил зубы, будто улыбнулся на этот жалкий жест человека. Коля впервые видел волка. Он машинально опустил рюкзак и вытащил нож. Левитан достал из-за пояса топорик. Оба они одновременно услышали позади себя шорох снега, обернулись и увидели двух волков летевших на них. Уклониться было уже невозможно. Коля, падая под тяжестью навалившегося на него волка, воткнул ему в бок нож по самую рукоятку, но выхватит не успел. Лезвие хрупнуло под тяжестью волка, отлетело, осталось в боку волка, который будто не почувствовал удара ножом, щелкнул зубами возле самого носа Коли. Он успел схватит его левой рукой за горло, удержать. Выбросил из руки ненужную теперь рукоятку ножа и обеими руками сдавил горло волка, столкнул его с себя, перекатился на него. Из пасти зверя показалась, забулькала кровавая пена. Коля увидел рядом с собой в снегу топорик Левитана, отпустил волка, схватил его. И в это время зверь из последних сил рванулся под ним, раздирая его одежду. Передней лапой со страшной силой ударил по щеке Коли, обжег когтями. Коля рубанул его топором по морде и вскочил. Волки яростно рвали окровавленное тело Левитана, который уже перестал сопротивляться. Снег метелью поднимался вокруг них. Коля подскочил к ним и из всех сил рубанул по хребту топором ближнего к нему волка. Тот осел на Левитана. Второй волк, увидя Колю, рванулся к нему. Коля со сего маху ударил его в голову и кончиком топора попал в глаз, вонзил лезвие в череп волка с такой силой, что не удержал рукоятку в руке. Волк рухнул в снег с торчащим из черепа топором. Волк с перерубленным хребтом был еще жив, яростно скалил зубы, но не шевелился. Коля вырвал топор из черепа убитого волка, несколько раз взмахнул им, добил живого волка. И тут только увидел, что ему на куртку льется кровь из разорванной щеки, почувствовал боль. Он коснулся рукой щеки и взвыл от ожога, боли. Видно, щека была глубоко разорвана когтями волка. Коля взял пригоршню снега и прижал к ране, морщась и охая. Только теперь он взглянул на неподвижного окровавленного Левитана. Вся одежда на нем была порвана. Вместе с куском брюк из ноги у него был вырван большой кусок мяса. Черная кровь из раны лилась на снег. Коля кинулся к рюкзаку, достал из кармашка бинт, сорвал упаковку, подскочил к Левитану и перевернул его. Под ним была лужа крови. Резко ударил в нос запах вони. Левитан застонал, открыл глаза, прошептал:
— Осторожно, живот…
Коля раздвинул окровавленные лохмотья на боку Левитана и увидел рваную рану внизу живота. Содрогнулся, взглянув на порванную клыками синеватую кишку. Из нее текла коричневая вонючая жижа.
— Что там? — простонал Левитан. — Совсем худо?
— Я забинтую, забинтую, — быстро забормотал Коля, не отрываясь взглядом от раны, и с тоской думая, что ничем он уже Левитану не поможет.
— Кишки порвали? — быстро прошептал Левитан. — Я чувствую, чувствую… Ох, силы уходят… Говори правду… Иначе… Кишки целы?
Коля отрицательно покачал головой, прошептал горестно:
— Порвали, суки!
— Хана, все, хана! — взвыл Левитан из последних сил и зашептал быстро: — Коля, Коля, Слушай! Запомни, запомни, Истра, это под Москвой, деревня Раково, рыбхоз, с середины моста смотри через пруд, на запад, в лес. На берегу две сосны, они выделяются… большие… между ними… в центре… копай. Там кастрюля… Повтори, повтори быстро…
Коля повторил.
— Запомни! — зашептал жарко Левитан. — Там все мое… Это твое… Благодаря тебе… Ты наследник… Отомсти, отмсти им и за меня! Я работал с ними… Твоя золотая пленка… Я рад, что у тебя будут деньги… Ты отомстишь им. Они звери, не люди…
— Я спасу тебя, — вышел из оцепенения, засуетился Коля. — Я забинтую! Я найду людей! Где-то должны быть люди…
— Тут деревушка… на юг… километров десять… На карте видел… Мы обходили ее… У-у-ух, тяжко мне! — простонал Левитан, когда Коля обнажил его живот и стал, неуклюже поднимая его, обматывать бинтом.
Коля уложил затихшего Левитана на спальный мешок, другим накрыл его и пошел по тайге в ту сторону, откуда сквозь деревья пробивалось низкое солнце. Шел тяжело дыша в щели между бинтами. Все лицо свое он замотал бинтами, опасаясь, что потеряет много крови, оставив открытыми только глаза и щель для рта. Часа через полтора он выбрался на узкую дорогу по просеке со следами саней. Видимо, утром кто-то проезжал здесь на лошади. Почти каждый день они с Левитаном пересекали такие дороги, которые вели от деревни к деревне, находящиеся друг от друга на десятки километров.
По дороге стало идти легче. Коля пошел быстрее, временами даже пробовал бежать и, наконец, услышал лай собак. Запахло дымом. Деревня. На улице тихо. Людей не видать. Только две серые собаки лайки с хвостами загнутыми в кольцо дружно облаяли его. Коля вломился в крайнюю избу. За столом обедали дед с бабкой. Они ошалело и испуганно уставились на него.
— Волки! — выдохнул Коля, оттягивая бинт ото рта на подбородок. — В лесу человек… Ранен… — И сел, упал на скамью у двери, привалился спиной к бревенчатой стене.
37. Снова зона
Левитан умер. Тело его в сопровождении Коли доставили в районную больницу. Коля Волк простудился сильно, кашлял, хрипел. Держался до больницы. В ней слег совсем. Бредил. А кашлял так, словно хотел выкашлять легкие. Через неделю стал выздоравливать, приходить в себя. Представлялся он всем геологом Николаем Ивановичем Седовым, как по паспорту. Щеку ему зашили.
Перед выпиской из больницы к нему в палату заглянул оперуполномоченный. Нужно было зарегистрировать происшествие, найти родственников погибшего. Опер, полноватый, медлительный парень лет тридцати, отнесся к Коле сочувственно, дружелюбно. Извинился, что вынужден допрашивать под протокол. Коля начал заливать, как они с начальником геологической партии заблудились, как напали волки. Опер добросовестно и неторопливо записывал его ответы, потом начал уточнять, откуда шли да куда шли? Что за работу делали? Где работали? Телефоны домашние да служебные? Адреса? Коля понял с тоской, что крутиться бесполезно, рано или поздно выяснят, что он за геолог. К этой роли он был совершенно не готов, не знал, что могут делать геологи в этих местах, понимал, что, назови он первый попавшийся московский телефон, по нему тут же позвонят и сразу поймут, что он врет, и выдохнул признание:
— Зеки мы. Беглые…
Опер ошарашено откачнулся от стола с ручкой в руке, глядя на грустно улыбающегося Колю, потом проговорил, подмигнув:
— Шутка!
— Я рад был бы такой шутке, но это так… — печально вздохнул Коля. — ИТК номер сто двадцать шесть под Вожаелем… Заключенный Анохин Николай Игнатьевич.
— До Вожаеля отсюда почти семьсот километров, — все не верил опер. — И зачем вы к нам, сюда? — удивлялся он.
— Месяц шли… А почему к вам, мог ответить только он, — кивнул Коля на дверь. — Но у него теперь не спросишь… Я был при нем. Он вор в законе, а я простой мужик… Кстати, с нами был еще один, блатной. Умер он. Неделю назад похоронили… Теперь не найти где…
Анохину Николаю добавили еще три года сроку без права на амнистию за побег из места заключения и вернули в тот же лагерь. Там он сразу же стал знаменитостью, уважаемым человеком. Принят был в мир блатных, эту элиту лагерного общества.
Месяц был на воле, но вернулся неузнаваемым. Лицо в шрамах. На щеке три борозды от глаза к подбородку. Средняя — рваная, глубокая, а две крайние поровнее и помельче. Голос охрип. Коля Волк стал еще молчаливее после побега. Он мог бы теперь стать одним из приближенных пахана, и не выходить на работу, но предпочел по-прежнему валить деревья. Почти всю свою зарплату он теперь отдавал в общак, оставлял деньги только на самое необходимое.
Снова потянулись дни, годы в мечтах о свободе, о мести, в подготовке к ней. Через три года после побега пришла весть — умер Брежнев. Зеки заволновались. Новый правитель должен дать амнистию. Можно раньше срока выйти на свободу. Но дождались статью 188-3 «прим» — «Злостное неподчинение законным требованиям администрации ИТУ». Администрация лагеря теперь любое нарушение могло объявить злостным неподчинением и не отправить в карцер, как это было раньше, а добавить к сроку от одного до пяти лет. Так можно было всю жизнь просидеть в лагере.
В конце восемьдесят третьего администрация решила воспользоваться статьей, добавить к сроку по году троим мужикам за то, что они отказались надеть красную повязку, стать членами секции профилактики правонарушений, козлами. И впервые среди мужиков зазвучало слово — забастовка. Пошла по рукам листовка с призывом объединяться и сопротивляться администрации. Дошла она и до Тамбовского Волка.
— Мужики, братва! — читал Коля — Что получается? К чему вы идете? Где закон, честь, гордость нашего общества? Во что превращается зона? В пионерский лагерь, где почти каждый, словно пионер, подчиняется любому движению, слову вожатого. На любой каприз мента прете, как стадо баранов, не зная куда, подчиняясь его кнуту. Где ваша солидарность? Где ваша гордость? Надо кончать с этим. Забыты все традиции и законы нашего общества. Страх, трусость, равнодушие в сердцах! Осмотритесь, к чему ведет наше равнодушие. Встряхнитесь да и начнем борьбу за наши права. Зона всегда поддержит нас в добрых начинаниях. Стыдно, срамно смотреть, как курвится зона. Вас травят друг на друга, а вы повизгиваете и лыбитесь с ухмылкой придурка и, небось, каждый считает: «Мое дело сторона». К солидарности, мужики, к усилению общественной организации, братва! Вернем честь нашей зоны. Иначе перекроют нам воздух, задушат!
После развода все бригады собрались возле инструменталки и уселись на траву. Бригадиры дергали их, кричали, матерились. Мужики огрызались угрюмо, сидели на земле. Прибежали отрядники, кум, появился сам хозяин, начальник колонии. Они дружно выступали перед мужиками, увещевали, грозили, обещали разные кары. Мужики стояли на своем: верните документы на увеличение срока мужикам. Возня продолжалась до обеда.
Наконец хозяин пригрозил:
— Я этот бунт сейчас быстро подавлю! Узнаете, что бывает за бунт! Каждый получит добавку к сроку!
Выматерился и быстро ушел вместе с кумом.
— Доигрались? Ждите беды, — злорадно бросил один из бригадиров.
Шелест прошел среди мужиков. Заколебались некоторые. Коля понял, что могут сдаться. Тогда администрация, почувствовав слабину, обнаглеет еще сильнее. Он крикнул властно и быстро, не поднимая головы:
— Сидеть! Пока сидим, ничего не будет!
— Кто кричал? — заметались отрядники.
В ответ угрюмое молчание. Зеки снова почувствовали уверенность в себе. Притихли. Отрядники не унимались, бегали от одной бригады к другой, выкрикивали имена зеков, обращались к ним, то с угрозами, то с уговорами. Били по самому больному. Тем, кому осталось трубить немного, говорили, спрашивали: неужели им не хочется поскорее обнять близких? Ведь непременно добавят к сроку за бунт. А тем, кто недавно прибыл в зону, обещали веселенькую жизнь в ШИЗО без посылок и свиданий. Их слушали, безмолвно и угрюмо уставившись в землю, не шевелились, не отвечали. Вдруг один из бригадиров заорал:
— Пожа-ар! Столярка горит!… Братва, лагерь горит! Всем тушить!
Бригадиры, отрядники бросились к столярке, которая, действительно, полыхала с одной стороны. Полыхала жарко, почти без дыма. Некоторые зеки вскочили, рванулись за ними, но Коля громко заорал:
— Назад! Всем сидеть!!! Это провокация!
— Какая провокация! Горит же!
— Козлы подожгли столярку по приказу хозяина! Забастовку переводят в бунт! Всем сидеть здесь! Оглядите друг друга, на допросах будете говорить, кто рядом с вами сидел!.. Сейчас пригонят войска. Всем сидеть на месте, не шевелиться, не вскакивать! Будут бить — терпеть! Не сопротивляться, иначе все получат добавку. Этот пожар нам на руку. Будет комиссия, рассказывать все как есть! А теперь сидеть! Сидеть смирно! В этом наша сила!
Сначала Коля кричал громко, чтобы его слышали все возбужденные пожаром зеки, потом, когда остановились, успокоились, стали слушать его, заговорил потише, но все же говорил властно и уверенно. Его послушались, снова уселись на траву, стали смотреть, как возле горящей столярки суетятся бригадиры, нарядчики и прочие суки, которые сами устроили этот пожар.
Со стороны вахты раздался шум, топот многих ног, и зеки увидели бегущих к ним солдат с автоматами во главе с начальником караула, у которого было особенно возбужденное яростное лицо.
— Всем сидеть!!! — снова властно приказал Коля Волк. — Никого не убьют! Не сопротивляться! Прикрыть головы! И молчать! Молчать!!
Солдаты сходу врубились в сидящих зеков, заработали прикладами, кулаками, сапогами.
— Отставить! — рявкнул Коля. — Стройся!
Большинство солдат остановилось, замешкалось, отскочило от зеков. В пылу многие подумали, что приказал начальник конвоя, и с облегчением прекратили бойню. Ге каждый может бить человека, который тебе ничего не сделал, да еще и не сопротивляется, сидит на месте. Надо обладать особым зверством в душе или не считать зеков людьми.
— Бей их! Бей! — орал начальник конвоя, но слушали теперь его только особо ретивые. Да и те, видя, что большинство солдат прекратило бойню, оставляли в покое забастовщиков. Избитые зеки выхаркивали кровь, потирали бока, ребра, но не поднимались с земли, чтобы не провоцировать новую бойню.
— Бунт! Я вам покажу бунт! — орал начальник конвоя.
Но голос его потерял уверенность. Он не мог не видеть, что никто не сопротивлялся избиению, руки не отвел, ни один солдат не получил ни одного синяка. Такое поведение зеков для него было полной неожиданностью. И он не знал, что делать. Старался криком возбудить себя, подскакивал к зекам, замахивался кулаком на ближайшего к нему. Но никто не пытался уклониться, ответить ему, крикнуть в ответ на его оскорбления.
Появился, прибежал хозяин и сердито крикнул начальнику конвоя:
— В чем дело? Немедленно погасить бунт!
— Гаси! — вдруг зло выпалил ему начальник конвоя. — Вот они! Бей сам! Наслаждайся, бля! Они руки не отводят! Мы не садисты! — и рявкнул солдатам: — В две шеренги становись! — подождал, когда отряд выстроиться, и скомандовал: — Напра-во! Прямо шагом марш! — Уходя, глянул на хозяина и бросил сердито: — Взбунтуются, через минуту будем здесь!
Начальник колонии пошел вслед за ними в сторону вахты. Вид у него был не бойцовский, побитый, понурый.
— Мы победили! — громко сказал Коля.
Мужики зашевелились, заговорили.
— Бля, зуб выбили, суки! — радостно выругался один.
— Я мог бы у одного автомат выхватить! — возбужденно, с восхищением говорил другой, помоложе. — Еле сдержался… Эх, выхватить да чесануть бы по ним!
— Чесанул бы, — возразили ему. — В ответ бы тебя чесанули… Кормил бы червей. А так синяк потер на боку и сиди дальше…
38. Смотрящий
Столярка сгорела дотла. На другой же день приехала комиссия из Вояжеля, из управления. Стали дергать зеков на допрос. Но придраться было не к чему. Никто из мужиков от инструменталки не отлучался. Они поджечь столярку не могли. Комиссией было установлено, что ее подожгли, хотя кум с хозяином упирали на то, что загорелась она от электрического замыкания. Быстро стало известно, что зеками возле инструменталки руководил Коля Волк, и его отправили в ШИЗО. Его же считали автором листовки, призывающей к неповиновению администрации. Зеки тоже думали, что написал ее он.
— Ты у меня до конца срока из ШИЗО не выйдешь, сгинешь здесь! — пообещал ему зло хозяин.
Коля Волк смолчал.
Через две недели, когда он вышел из карцера, в зоне был новый хозяин. Прежнего начальника колонии куда-то перевели. О новом хозяине с восторгом рассказывал блатной, попавший в карцер перед выходом оттуда Коли.
— Новый хозяин — человек!.. Ко мне баба приехала, а разрешения на свиданку нет. Я к хозяину. Он сидит смурной, опухший. Ну, бля. Думаю, кондец, не видать мне свиданки… Он выслушал и говорит с такой тоской: похмелиться бы!.. Я ему, гражданин начальник, будет, организую. Он оживился: гони! Три минуты сроку! Через три минуты я ему — шпок! — водяру на стол, а он из ящика два стакана тянет. Наливает мне полстакана, себе — всклень… Первый раз я с хозяином вмазал! — восхищался блатной. — Хозяин — человек!
— Свиданку-то разрешил?
— Два дня кантовался… И никакого тебе разрешения управления… Только предупредил: тихо!.. Еще бутылку взял, на похмелку. В воскресенье, видать, здорово поддает…
— А как же ты сюда, в пердильник, попал? Он же определил?
— Не-е, кум… Говнюк поганый… — выругался блатной и вдруг засмеялся: — Я, бля, сам обнаглел, решил, с новым хозяином мне сам кум не брат. И влетел… За дело! Я не в обиде!
Нового хозяина Коля увидел впервые на разводе. После передачи бригад надзирателями конвою Волк, стоя в строю, услышал у себя за спиной тихий насмешливый голос зека:
— Идет! Сейчас начнется.
К выстроившимся бригадам быстрой походкой приближался незнакомый майор в сопровождении кума, который держался чуть позади. Хозяину было лет тридцать пять. Был он белокур, усат, с задорно вздернутым носом. Шел он с серьезным видом.
— Здравствуйте, граждане заключенные! — громко крикнул он, как полководец, останавливаясь посреди плаца перед строем бригад.
— Здорово!
— Привет, гражданин начальник!
— Пошел бы ты!
Нестройно откликнулись зеки, но все без исключения весело, с иронией. Даже ругательства были беззлобные.
— Граждане заключенные, начинается новый трудовой день. Результата вашего труда ждет вся Россия, весь мир. Я не оговорился, именно весь мир! Ведь, как вы знаете, из бревен, которых вы сегодня сработаете, будут изготовлены доски, добротные дома, мебель. Страна продаст древесину во все страны мира, получит валюту, на которую купит необходимое заводам оборудование! Вы должны ясно представлять себе, что труд ваш необходим государству. Но в то же время, как учили Маркс и Энгельс, труд создал человека, и я, майор Чернов, когда соглашался возглавить исправительно-трудовую колонию вместо положенного мне батальона, дал себе слово сделать из преступника нормального советского гражданина. И я своего добьюсь! Сегодня вы преступники, а завтра, благодаря моему участию в вашей судьбе, станете людьми!
Говорил он так минут десять, говорил складно, легко, быстро. Чувствовалось, что он наслаждался своей речью. Наконец с удовлетворением прокричал:
— А теперь за работу, граждане!
Он постоял на плацу вместе с кумом, проводил взглядом удаляющуюся к вахте колонну и пошел в контору.
Каждый день на разводе он выступал перед зеками, напутствовал их. И главное, повторялся только дважды. Всегда начинал свою речь словами: граждане заключенные, начинается новый трудовой день! А заканчивал: а теперь за работу, граждане! Каждый день он находил новую тему для речи.
Кроме этой слабости у майора Чернова было много других. Он любил женщин, любил выпить, брал взятки со всех бригадиров, любил изящные безделушки, которые делали зеки из корней деревьев, из лосиных рогов. Был случай, когда он захватил двух зеков за выпивкой. Хозяин страшно возмутился, воскликнул яростно, указывая на начатую бутылку под кроватью:
— Берите и ко мне!!
Ясно было всем, что дело окончится карцером. Не впервые такое случается. Но оба зека вернулись в барак через полчаса. Один из них ругался, обзывал хозяина садистом, а другой хохотал неудержимо. Они рассказали, что хозяин привел их в свой кабинет, сел за стол, оставив их стоять посреди кабинета. Достал стакан, налил в него водки из отнятой бутылки, выпил и начал доказывать им, что пить водку должен он, майор, а не заключенные, которые должны воздерживаться от выпивок, нести наказание за совершенные преступления, терпеть, пока не станут нормальными советскими людьми. Говорил он так, пока не спеша не опорожнил бутылку. Пустую передал им, приказав выбросить в урну.
За тринадцать лет, проведенных в лагере, Коля Волк повидал не одного хозяина. Но ни одного из них не запомнил. Они его не интересовали. Он был далек от них. А о майоре Чернове ему пришлось часто думать, изучать его привычки и использовать их для нужд зеков. Дело в том, что в это время произошло еще одно важное событие в его жизни. Блатные что-то не поделили между собой, произошла стычка, кончившаяся увечьем. И нескольких участников драки вместе со смотрящим (пахана не было в те дни в зоне) увезли в тюрьму.
Собрался сходняк зоны, в котором участвовали не только блатные, но и наиболее уважаемые мужики. Коля Волк принимал участие в нескольких общелагерных разборках и сходняках, и всегда к его мнению прислушивались. Он был старейшим зеком в лагере. Тринадцать лет оттрубил. И никто не знал за ним ни одного косяка. Он не раз слышал о себе: Волк — правильный человек! С ним постоянно советовались не только мужики, но и блатные. За эти годы он выучил наизусть Уголовный кодекс, знал его так же хорошо, как стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье». Научился мастерски писать жалобы заключенным. Они считали, что у него легкая рука. Что он ни напишет, не попросит, то и получится. На том сходняке выбирали смотрящего, который до прихода пахана должен был выполнять его обязанности. Большинство зеков указало на Волка. Не было в то время авторитетного блатного, которому бы вся братва верила.
Коля, когда понял, по ходу сходняка, к чему дело клонится, решил отказаться от этой высокой должности, но подумал, что, приняв ее, он автоматически становится авторитетом в мире блатных, а взаимовыручка у них высокая, значит, они помогут отомстить его высокопоставленным врагам, и согласился.
Он перестал ходить на работу. Майор Чернов сразу же узнал о решении сходняка и вызвал Волка к себе. Встреча закончилась полюбовно. Майор получил из общака пятьсот рублей за то, что не будет вмешиваться в дела блатных, а Коля Волк обещал ему, что в зоне будет тишина и покой.
Вскоре умер Андропов, который рьяно боролся за дисциплину и порядок, пришел к власти полуживой Черненко, и всей стране стало все до фени. Каждый думал только о своих интересах. И в зоне стало жить легче. Подчинялись зеки только своим внутрилагерным законам, правильным понятиям, которые особенно блюл Коля Волк. Нет, он не был мягким смотрящим. Дважды за год он твердо давал команду: опустить! Оба раза это были блатные. Один из них подал жалобу на разборку, послал ее старейшему вору в законе в далекую сибирскую зону. Волк знал, что, если там посчитают, что он поступил несправедливо, то могут его самого опустить. Через месяц пришел ответ: решение смотрящего правильное! Это еще больше укрепило авторитет Коли.
Была и крупная разборка. Мужик проиграл блатному непосильную сумму в карты. Все хотел отыграться. Возвратить деньги не мог. Не было их у него. Блатной включил счетчик. Но мужик оскорбил его. Физически он был сильнее блатного.
Карточный долг — святое дело. За невыплату обычно опускают. А этот должник нарушил все правильные понятия, и блатной требовал крови. У всех на виду, напоказ, чтоб другим неповадно было. Требовал назначить гладиатора, чтобы он ночью перерезал горло мужику. Участники разборки согласились с блатным, ждали, что скажет смотрящий. Его слово решающее. Коля всегда говорил мало на сходняках и тогда сказал кратко:
— Долг надо смыть кровью! Но не в бараке. Наедутся опера. Покоя всем не будет… Надо уронить сосну. Почему на него упало дерево, братва знает, а для хозяина несчастный случай...
И через неделю произошел несчастный случай.
39. Племяш
Когда в бараке появился Иван Егоркин, Волк не обратил на него внимания. Одни зеки освобождаются, другие приходят на их место. Так было, так будет. Иван Егоркин был примечателен только своим ростом. Был он худ, высок. Блатным он не был, простой мужик. Но срок большой имел, четырнадцать лет. За убийство. Вел себя он тихо, неприметно. На шутки, которые чаще всего относились к его росту, не отвечал, видимо, давно привык к ним.
Однажды в воскресенье, тренируясь, как обычно, на плацу, Волк заметил, что Егоркин наблюдает за ним. Сидит на лавочке в одиночестве и внимательно следит за его упражнениями. Волк не обратил на это внимания. Любопытствует новенький. Привычная картина. Но в следующее воскресенье снова увидел Егоркина на лавочке. И снова он не отрывал от него глаз. Через неделю Волк уже с некоторым любопытством ждал, придет или не придет Иван. Пришел, все также сидел, наблюдал за тренировкой Волка. Отработав положенные два часа, Коля Волк взял полотенце и, вытираясь на ходу, неторопливо направился к новенькому. Как его зовут, Волк еще не знал. Слышал, что кликуху ему дали опять же по необычному росту: Жердь.
Подходя к нему, Волк решил проверить, знает ли он приемы. Вероятно, знает, если так интересуется его тренировками. Егоркин глядел на него, не отворачивался, ждал, что будет дальше. Волк накинул полотенце на плечо и вдруг резко двинул кулаком, будто бы намереваясь ударить в лоб Егоркина. Иван мигом отклонился, не вскакивая со скамейки, перехватил руку Волка и рванул его на себя и в сторону, стараясь завалить на скамейку. Но Волк вывернулся и отскочил назад. Полотенце свалилось с его плеча на землю. Егоркин остался сидеть на месте, только зорко следил за Волком, который поднял полотенце и усмехнулся, спросил:
— Интересно?
— А вы, правда, тамбовский? — неожиданно спросил Егоркин.
— Ну да.
— Я тоже. Вы, правда, сидите ни за что? Вас оклеветали?
— Ну да.
— Я тоже. Меня оклеветали…
— Здесь все сидят ни за что. Покажи мне хоть одного, который говорит, что он сидит за дело, — усмехнулся Волк.
— Я серьезно. Они убили моего друга, мы с ним с Афгана вместе, а показали на меня…
На это Волк ничего не ответил.
— Вы из самого Тамбова? — снова спросил Иван.
— Родом я из Ржаксы.
— Из Ржаксы? Так это же совсем рядом с Уваровом! — воскликнул Иван.
— А ты из Уварово? — настороженно спросил Волк.
— Нет. Я из Масловки, деревня такая есть за двадцать пять километров от Уварово. Она в другую сторону от Ржаксы… А в Ржаксе я ни разу не был, проезжал мимо на поезде…
Волк вздрогнул, услышав, что парень этот из Масловки. Именно в этой деревне жила его старшая сестра по отцу, Любаша Егоркина. Видел он ее последний раз за год до тюрьмы. Мать просила его заехать к ней, когда он будет проезжать мимо Масловки по своим журналистским делам, узнать, как живет дочь первой жены её мужа, отца Анохина, передать ей гостинцы. Он заезжал, познакомился со своей племянницей Варюнькой. Ей тогда было четырнадцать лет. Красавица была, капризная, кокетливая. А братишка был совсем пацанчик. Лет девять-десять.
— Зовут тебя как? — спросил Волк, садясь рядом с парнем на скамейку.
— Иван… Егоркин…
Не может быть!? Егоркиных в Масловке, вероятно, полно. Не может быть, чтобы его племянник оказался здесь. Такого совпадения быть не может!
— Мое имя ты знаешь, надеюсь, — произнес он, стараясь не выдавать ничем заинтересованности и волнения.
— Слышал… Зовут тебя все Тамбовским волком.
— Ну да, Коля Волк. Так и зови! — Анохин боялся, что фамилия его хорошо знакома Егоркину. — Родители у тебя есть? Братья-сестры!
— Мать и сестра.
— Старшая сестра? Зовут ее как?
— Варюнька. На пять лет старше. А что? Знаком, разве с ней? — быстро спросил Иван.
«Племяш! Вот где встретились!» — с болью пронеслось в голове у Волка, и он быстро ответил:
— Откуда? Я же в Воронеже учился после школы, и работал там, пока не сел… Рассказывай, что у тебя произошло? Может быть, я помогу чем…
— Мне сказали, что ты можешь письма писать прокурору, — проговорил как-то просительно и смущенно Иван. — А я… не могу…
— Давай, давай, рассказывай, — перебил его Волк.
Егоркин рассказал, что он жил в Москве. Жена его работала в ДЭЗе техником-смотрителем. Однажды при обходе квартир на нее напали наркоманы, пытались изнасиловать. Он защитил жену. Одному гаду руку поломал. А он оказался сыном большого московского начальника. Ивана арестовали. В камере он встретился со своим бывшим другом: воевали вместе в Афгане, вместе приехали в Москву, а там пути разошлись. Друг его за легкой жизнью погнался. Связался с блатными и, видно, насолил чем-то им крепко. В камере его прирезали ночью, а свалили на Егоркина, как на самого беззащитного. На суде все блатные однокамерники указали на него, и он ничего не мог добиться правды. Судьи не верили ему.
— Кто на самом деле его прирезал? Имя знаешь?
— Нет… Я спал…
— А имена тех, кто в камере был помнишь? Кликухи?
— Главным у них был Барсук. Пожилой мужик. Видно, у него и работал Роман.
— Это друг твой?
— Да. Только по команде Барсука могли прирезать. По его милости и я здесь оказался.
— А ты с ним не сталкивался?
— Так, по мелочи… в первый день в камере… Я не знал тогда воровских законов. Да и то, скорее всего не с ним столкнулся, а с его шестерками. Потрепал я их малость. Они вроде простили…
— Они ничего не прощают… И прокурор тебе не поможет. Ему свидетели нужны. Укажи имя настоящего убийцы, да еще добейся, чтобы он признался, тогда ты на свободе. А это, как ты понимаешь, не реально… Я попробую узнать, кто такой Барсук. Но это, думаю, ничего тебе не даст.
— А что же мне делать? — растерянно и горько произнес Егоркин.
— Жить.
— Здесь? — ужас читался в его глазах. — Четырнадцать лет?
— Да здесь! Ты знаешь, сколько я здесь провел? И ничего, жив-здоров… В мои годы ты уже будешь на свободе.
— В твои годы… — прошептал Егоркин.
— Ну да. Мне же тридцать восемь, а тебе, видно, года двадцать два. В тридцать шесть ты будешь вольной птицей…
— Тебе всего тридцать восемь? — растерянно смотрел Иван на Волка. — А я думал, не меньше пятидесяти… Неужели и я…
— Не бойся, — перебил Волк, — ты не будешь таким… Тебя, кажется, кое-чему в Афгане научили, пошли, попробуем…
С этого дня они стали тренироваться вдвоем.
Этот год был райский для зеков. Водка, анаша, курево, чефир не переводились. Чуть ли не раз в месяц к блатным приезжали на свиданку марухи.. У майора больше не болела голова с похмелья. Мужики давали план, не перегружаясь, карцер пустовал. Поэтому, когда в зоне появился вор в законе и собрал сходняк, чтобы взять власть, стать паханом, блатные встретили его без энтузиазма, настороженно. Усугублялось недоверие к нему еще и потому, что большинству он знаком не был, коронован был недавно. Но Волк встретил его радушно. Он не хотел быть паханом, не хотел короноваться в воры в законе. Достаточно слыть авторитетом, стать своим среди блатных. Этой цели он добился, и соперничать с новым паханом не хотел.
Они уединились, и Коля Волк два часа рассказывал Захару, так звали вора в законе, о делах зоны, о взаимоотношениях с хозяином. Волк узнал, что весь этот год воры в законе получали информацию из зоны о его действиях, следили за ним, и деятельностью его удовлетворены. Знают, что цель его жизни — месть. И готовы содействовать. Но многие воры в законе опасались, что он почувствовал вкус власти и не уступит ее Захару. Такое бывало. Начнется соперничество, которое навредит обоим.
— Мне власть не нужна. Ты знаешь мою цель. Поможешь, скажу спасибо, нет — добьюсь сам. Здесь я тебе не соперник. Но имей в виду, жизнь со мной братве понравилась. Будь терпелив, не гони коней. И к тебе привыкнут. А я помогу! Это я обещаю!
На сходняке Коля очень хорошо отозвался о Захаре, просил помогать ему во всем. Волк остался смотрящим по зоне при пахане Захаре. Жизнь пошла дальше также мирно.
Не долго правил в стране и Черненко. Пришел Горбачев. И сразу страна всколыхнулась. Даже в зоне начали надеяться на перемены к лучшему.
40. Журналист
Библиотека зоны всегда получала журнал «Огонек». Читали его редко, больше рассматривали цветные иллюстрации. Но неожиданно в журнале пошли такие статьи о жизни страны, что оторваться от них было невозможно. Коля Волк стал с нетерпением ждать поступления нового журнала и первым читал его.
Однажды он наткнулся на статью о зеках. Впервые он такое в журнале читал. С нее и началась для Волка перестройка. Автор статьи хотел рассказать о зеках как можно правдивее, но чувствовалось, что сам он никогда не сидел, и жизнь зоны глубоко не знал. О правильных понятиях знал понаслышке. С огорчением отмечал Коля неточности и провалы в статье, и впервые за долгие годы почувствовал журналистский зуд. Как давно он написал последнюю статью. Шестнадцать лет брал в руки ручку только для того, чтобы помочь написать очередную жалобу зеку. Это зуд не проходил, не давал покоя.
Наконец Волк решился написать письмо в «Огонек» в ответ на статью. Письмо получилось довольно длинным, растянутым и каким-то вялым. Коля не решился отправить его в журнал, но не выбрасывал. Он надеялся. Что удовлетворил зуд этим письмом, и теперь успокоится. Но нет. И письмо, и статья не выходили из головы.
Времени у него было больше, чем достаточно. В карты он не играл. Только тренировался, качался, да читал. На работу, как приближенный пахана, он не ходил. Голова всегда была свободна. Волк не выдержал однажды, начал переделывать письмо в очерк. Он решил написать его по законам драматургии: с завязкой, развитием действия, кульминацией и развязкой, чтобы редактор, зацепившись за первую фразу, читал дальше не только с неослабевающим интересом, но с каждым абзацем этот интерес должен был возрастать, и чтобы очерк был эмоционально насыщен и как можно краток.
Почти каждый день Коля переписывал его заново в течении месяца, и все казался он ему то растянутым, то скучноватым, то язык слишком казенный, не образный, то не слишком насыщен фактами, то наоборот перегружен незначительными фактами. Наконец он устал, но все же был не удовлетворен очерком. Казалось ему, что он не добился того, чего хотел. Но как улучшать дальше не знал, силы кончились.
Решил послать таким, подписал: Николай Волков, передал вольняшке, который поставлял водку в лагерь, попросил его написать на конверте свой адрес и отправить в редакцию журнала «Огонек». Ожидал он ответа месяца через два-три. Но три недели спустя вольняшка принес ему письмо на имя Николая Волкова в фирменном конверте журнала.
«Отказали!» — мелькнуло в голове, когда он, чувствуя нарастающее волнение, взял конверт и сразу стал его вскрывать. Вытащил белый листок с тремя строками. Краткий текст он охватил одним взглядом. Волнение мгновенно исчезло, восторг вспыхнул в груди, овладел им, заполнил душу. Взяли! Обещают поставить в ближайший номер и просят присылать другие материалы!
С каким нетерпением ожидал Коля Волк очередной номер журнала «Огонек»! Как поспешно просматривал содержание, когда он попадал в его руки! И с каким огорчением не находил имени Волкова! Потом внимательно перелистывал, лихорадочно вглядываясь в страницы, думая, что, возможно, почему-то не указали его очерк в содержании. Всякое бывает. Может быть, поставили как обычный отклик на ту лагерную статью. Нет. Не было его материала.
И вот наконец-то! Наконец-то он увидел то, что искал. Распахнул очередной номер журнала, взглянул в содержание и оцепенел, увидев два слова — Николай Волков. Ноги задрожали, его бросило в жар. Давно он так не волновался. Кажется, даже первая статья, подписанная его именем, не произвела на него такого впечатления. Давненько это было. Тогда ему шел девятнадцатый год, а теперь начался пятый десяток. Сорок один год. Может быть, волновался он так потому, что подсознательно догадывался, что родилось новое имя в журналистике, которое вскоре станет знаменитым не только в мире пишущих, но и во всей стране.
Коля Волк проглотил очерк, охватывая взглядом целые строки, потом перечитал не торопясь, увидел, что ни словечка не выброшено из него. Ни одно предложение не отредактировано. Недаром он его столько раз переделывал, переписывал, мучился над ним, доводя до совершенства. Читался он легко.
Коля принес журнал в барак, небрежно сунул одному из блатных, который интересовался книгами:
— Посмотри, тут о нас написано!
Отошел от него, лениво улегся на нары с книгой.
Минуты через три услышал возглас блатного:
— Во, братва, мотри, дает фраер! Прямо, как у нас побывал! Бля буду, если б надыбал его, водяры литруху поставил… Не все журналюги продажные! — громко восхищался он.
— Чо там? — заинтересовались блатные.
— Ща прочту, дам!
Коля смотрел в книгу, не видел строк, с бьющимся сердцем слушал восхищенные возгласы. Он был счастлив. Весь день был под этим впечатлением. Так хотелось сказать братве, которая обсуждала его очерк: Это я! Я написал! Но он сдержался.
На другой день начал обдумывать следующий очерк из лагерной жизни. Написал он его довольно быстро, легко. Очерк нравился ему, но Коля заставил себя три дня не заглядывать в него, только думать. Потом переписал дважды и прежним путем отправил в редакцию вместе с заявлением, в котором писал, что гонорары за очерки он оставляет в пользу редакции журнала.
И этот очерк быстро напечатали. Из редакции ему переслали пакет писем-откликов на первый очерк с просьбой прокомментировать их. Писали в основном зеки, писали они о своих болячках, так хорошо знакомых Волку, отвечать было легко, просто. Писал он с фактами, примерами, подробностями, опираясь на статьи Уголовного кодекса. Редакция печатала его ответ в двух номерах журнала.
В «Огоньке» был раздел: письма читателей. В каждом номере в этом разделе мелькало имя Николая Волкова. Одни восхищались глубиной его материалов, другие редким мастерством слова публициста, третьи — смелостью автора. Ободренный такой поддержкой, Коля писал очерк за очерком. Однажды он получил письмо из редакции, что они физически не могут напечатать все его материалы, поэтому показали некоторые его статьи другому перестроечному еженедельнику «Московские новости». Там согласились печатать его материалы. Теперь он может посылать туда часть своих очерков.
Коля Волк ни разу не видел этот еженедельник, не знал о его существовании. Он выписал его, чтобы посмотреть, почитать, понять какие материалы его интересуют. «Московские новости» оказались политической газетой. Но смелостью своей она не уступала «Огоньку», напрямую громила партократию, критиковала власть.
Читая «Огонек» и «Московские новости» Коля решил, что приходят последние денечки его врагов. Это против таких, как они, были направлены все статьи.
Сердце его рвалось на свободу. Полтора года оставалось до выхода на волю! Полтора годочка! Из долгих восемнадцати лет. Страшно хотелось увидеть своими глазами падение Долгова, Сарычева, Перелыгина, Климанова. Где они теперь? Что с ними? Десять лет прошло с тех пор, как он пытался бежать с Левитаном. Десять лет ничего не знал о них Коля Волк! Что сталось с ними за эти годы? Делали ли они дальше карьеру или, может быть, давно мотают срока в лагерях за свои деяния? Вряд ли! Такие при Советской власти, как рыба в воде! Непотопляемы. Чем ближе к Кремлю, тем выше покровители, тем неприкасаемее они. Климанов уже тогда был в правительстве. Но и он, Волк, теперь тоже не лыком шит.
Есть авторитет в уголовном мире, знают его и в мире журналистики. И «Огонек», и «Московские новости» присудили ему ежегодные премии за его материалы. Просили прислать фотографии. Он отмолчался, не послал. Не пошлешь же им отсюда. Не было его портрета среди лауреатов, было только названо имя и очерки, за которые ему дали премию. С грустью разглядывал он портреты известных всей стране поэтов, писателей, публицистов, которые, как и он, стали лауреатами. Его портрет тоже должен был быть рядом с ними, его обезображенное шрамами лицо тоже сейчас разглядывали бы миллионы читателей. Тираж «Огонька» был свыше трех миллионов экземпляров. Не дано его портрету быть среди известных имен.
Печально было глядеть в зеркало на шрамы. Особенно глубок и страшен был средний. Нижнее веко правого глаза из-за шрама было опущено вниз, обнажало красные прожилки глазного яблока, и этот же шрам поднимал уголок верхней губы вверх, чуточку обнажая зуб. Получалось, что он всё время зловеще скалится, особенно, когда пытается улыбнуться. И сед, до безобразия сед! Как древний старик! Да, не красавец, далеко не красавец. А в молодости хорош был. Не замечал этого, не думал, не придавал значения. Сорок второй год отстукивает последние дни. И старость близка, а не жил еще.
41. Свобода
В стране разворачивалась перестройка, набирала обороты гласность. Критиковались такие имена, в сторону которых раньше косо взглянуть было страшно. О времени правления Брежнева писали, как о времени застоя, загнивания общества. Один за другим вылетали из Кремля его соратники. О них шли разоблачительные материалы. Волк и хотел, и боялся увидеть в печати имена своих врагов в рубрике «Из зала суда». Если разоблачаются такие неприкасаемые ранее люди, то их-то уж непременно не обойдут. Неужели никому не известна их настоящая деятельность? Такого не может быть. Но он так ни разу не встретил в печати их имена.
Очерки и статьи Николая Волкова появлялись в московской печати не только на лагерные темы. Вступил он в литературную полемику на страницах «Книжного обозрения» и «Литературной газеты». Читал Коля много. Особенно когда стал смотрящим и прекратил выходить в лес на работу. Времени стало много. Брал он книги и журналы в библиотеке. Каких там только литературных журналов не было! Поэтому Коля хорошо знал все новинки русской литературы. Обо всех популярных писателях Николай Волков писал с иронией, зло, насмешливо, понимал, что человеку свойственно с большим удовольствием читать о смешных сторонах другого человека.
Не было жалости в сердце Волка к тем, кого сладко кормила власть, которая прокатилась по нему асфальтовым катком, раздробила, поломала косточки, посчитала, что уничтожила.
Да, она уничтожила, сожгла Николая Анохина, но встал из пепла Николай Волков, Тамбовский волк — ангел мести. Гордо, с обновленной силой поднялся, крепко встал на русской земле Николай Волков! Нет ни одной газеты в Москве, которая не ссылалась бы на его статьи, не цитировала бы их, не спорила бы с ними. Скольких газетчиков имя Волкова раздражает, как красная тряпка быка, они начинают шипеть, огрызаться, брызгать слюной! А скольким молодым журналистам имя его придает силы, уверенности, вдохновения.
Говорят, что последний год в лагере для зека тянется вечность. Но для Коли Волка он промелькнул быстро. Насыщен был работой за столом, чтением. Свои очерки и статьи он давно уж читал спокойно, вырезал, аккуратно складывал. Знал, что непременно кто-то попытается пнуть его, передернуть мысли, и нужно будет отвечать едко, зло, так, чтобы ночами корежило борзописца так, чтобы где бы он ни появлялся, все глядели на него насмешливо, чтобы постоянно оправдывался перед знакомыми, и никогда не покидало бы его чувство неполноценности. Лакеи должны дрожать!
Сколько раз представлял себе Коля Волк, как он будет покидать лагерь вольным человеком! Раньше он считал, что никому не будет нужен на воле. Выйдет отсюда, как одинокий тамбовский волк. Вольный. Как ветер. Ни одного адреса в кармане. Будет начинать жизнь с нуля. Главная цель — месть! Как он будет мстить, Коля представлял по-разному. Но никогда не думал, что будет убивать из-за угла. Нет! Они должны знать от чьей руки умирают. Должны содрогнуться перед смертью. И должны страдать! Хоть маленькую долю его страданий они должны ощутить на себе.
По-разному рисовал в своем воображении месть Николай Анохин, Коля Тамбовский волк, Николай Волков. По-разному! Но завершалась в его мечтах она всегда одинаково — смертью врагов. Только кровь окупит его страдания! Смерть, заслуженная смерть!
Покинул Коля Волк лагерь не так, как ожидал. Блатные устроили ему проводы с застольем, с тостами. На столе стояли и шампанское, и водка, и коньяк, и икра, и балык форели. Стол был накрыт так, что Коля и на воле ни разу не видел его таким. Пили за него, пили за смерть его врагов. Клялись в вечной дружбе. Блатные обнаглели до того, что пригласили на проводы хозяина. И Чернов пришел. Был он теперь подполковником. Постарел, опустился. Лицо обрюзгло. Произнес он только один тост, держа в руках граненый стакан, доверху наполненный коньяком.
— Чтоб я тебя больше никогда не видал! — произнес он, одним махом вылил в свое горло коньяк, взял бутерброд с икрой и вышел из барака.
С Иваном Егоркиным Коля поговорил ещё до этих проводов, твёрдо обещал, что не пройдет и полгода, как тот будет на свободе с полным оправданием, пообещал, что им ещё долго работать вместе на воле, в Москве.
Провожали Колю до вахты, обнимали. Все карманы его были набиты московскими адресами. Везде его ждали. В блатном мире о нем легенды ходили. Вновь прибывшие в лагерь блатные знакомились с ним с уважением, чуть ли не с подобострастием. Они рассказывали, какие байки ходят о нем на воле. Будто бы он кума из окна барака выкинул, когда был смотрящим.
Не было такого! Просто Волк однажды схватил за грудки одной рукой зря разбушевавшегося кума, поднял над полом, тряхнул раза два, поставил на пол и сказал спокойно:
— Не шуми зря! Тут тихо!..
Ходили слухи, будто бы сидит он за то, что, когда однажды менты окружили малину, он один взял на себя целый взвод ментов, двух из них уложил кулаком насмерть. Пока с ним возились менты, вся братва ушла. А его раненого скрутили, и за это он сидит восемнадцать лет. Поговаривали, что он людоед, трижды из лагеря бежал. Два раза в одиночку, а один раз с Левитаном. Вместе с Левитаном они и сожрали человека, кабана. Брали его менты в побеге только тогда, когда он падал без сознания от голода. Говорили, что он с голыми руками один на один на медведя ходил. Хоть и подрал его здорово медведь, но все же он придушил зверя. Многое говорилось о нем. Ждали в Москве. Там нужны были бесстрашные люди. Время пришло интересное.
Давно приглашали его в Москву и многочисленные редакции газет и журналов, где он печатался. В литературном мире о нем тоже слагали байки. Две вещи не могли понять столичные журналисты. Какая сила держит такой талантище в тайге вдали от кипящей страстями столицы? Почему Волков отказывается от гонораров? Только на одни гонорары любой из них давно бы уже стал состоятельным человеком. Что же за тип этот Волков?
Поговаривали, что это псевдоним известного писателя. Называли разные имена. Удивлялись, зачем нужно скрываться от такой бешеной славы. Пытались объяснить тем, что этот человек был обласкан Брежневым, увенчан им, а теперь, мол, он прозрел, и неудобно ему перечеркивать прежнюю славную жизнь. Но Волков вдруг едко, очень едко прошелся по творениям того писателя, которого прочили на его место. Нет, значит, не он! Конечно, писатель мог раскритиковать сам свои прежние романы, но не с таким же убийственным сарказмом, не так ядовито.
Почему Волков не показывается в Москве, и не слишком ли он плодовит для одного человека? Не группа ли писателей стоит за ним? Волков — человек загадка!
Однажды, было это за месяц до освобождения Коли Волка, в «Правде», центральном коммунистическом органе, напечатали статью-расследование под названием: «Волков — мистификация!».
Газета «Правда» направила своего корреспондента в таежную деревушку, куда направлялись письма из редакций на имя Волкова. Корреспондент не нашел там ни одного человека с такой фамилией. О Николае Волкове там никто никогда не слышал. Более того, почтальон утверждала, что никогда сюда не приходили письма Николаю Волкову. В таежной деревушке, насчитывающей двадцать два двора, жили охотники-промысловики, да вольнонаемные рабочие из обслуги исправительно-трудовой колонии, расположенной неподалеку. В основном жили здесь бывшие зеки.
Появилась новая легенда. Мол, под именем Волкова скрывается бывший политический заключенный, который не пожелал вернуться в цивилизованный мир, либо современный диссидент.
Опять вопросы! Зачем диссиденту скрывать свое имя? Все они обычно чрезвычайно тщеславны. Даже, если как личности они ничем не примечательны, пусты, ничего не значат, и все их диссидентство заключалось в том, что они вышли на Пушкинскую площадь и подержали пять минут самодельный плакатик с невинным лозунгом, после чего их сразу арестовали, то все же теперь они ежедневно пыжились на экране телевизора, мелькали всюду, давали интервью, доказывали, что это они сыграли выдающуюся роль в приближении гласности и перестройки. Такие диссиденты писали статейки, которые редактора переписывали заново, чтобы скрыть безграмотность автора и вложить в них хотя бы полторы мыслишки. Зачем же тогда действительно талантливому диссиденту скрывать свое имя? Но бывшие борцы за свободу и гласность все же пытались утверждать: это наш, наш! Увидите, он не выдержит, не усидит в тайге, появится!
И он появился!
Часть вторая. РАСПЛАТА
1. Здравствуй, Москва!
Коля Волк, конечно, не знал о кипении страстей в журналистском мире вокруг его имени. Статью в “Правде” “Волков — мистификация!” он прочитал, посмеялся над корреспондентом, похвалил деревенского почтальона за то, что не выдал его журналисту: “Молодец, так и надо с этими поганцами!”.
В Москве Колю Волка встречали на Ярославском вокзале два парня из группировки вора в законе Захара, который прежде был паханом зоны. Освободился он раньше. Встречали на белом мерседесе. Распахнули перед ним заднюю дверь машины, ждали, когда он сядет. Коля заметил, что прохожие обратили внимание, как услужливо его обхаживают. Невольно отметил, что ему приятна такая встреча.
Привезли его в спортзал, где на кожаных матах, застеленных по всей площади, с шумом и частыми вскриками тренировалось не менее двадцати бойцов. То и дело слышались шлепки падающих тел. Все бойцы были в одинаковых спортивных брюках, голые по пояс. Среди них быстро скользил, двигался коренастый, широкоплечий, с коротким ежиком на голове и короткими черными усами тренер. Он останавливался то возле одной пары, то возле другой и что-то коротко и быстро бросал им.
Один из встречавших Волка блатных ушел доложить Захару, другой, Леха Кадык, остался с ним, Коля Волк стал с любопытством наблюдать за тренировкой бойцов. Он сразу почувствовал, как мышцы его непроизвольно напряглись, тело легким стало, потянуло на маты, попробовать, испытать себя. Тренировался он в колонии с Егоркиным почти ежедневно, но с настоящим бойцом, можно сказать, ни разу не пробовал, если не считать двух давних лет, которые он занимался с каратистом, чемпионом Свердловской области. На Волка тоже обратили внимание. Он видел, как то один, то другой боец бросают в его сторону взгляды.
— Можно мне? — кивнул Коля в зал, обращаясь к Лехе.
— Зубр! — крикнул Леха, позвал тренера.
Тренер подошел, познакомились.
— Волку хочется размяться с дороги, — сказал Леха.
— Санек, — повернулся тренер к ближней паре, остановил тренировку. — Уложи его!
Санек был стройный, сухощавый, жилистый, гибкий. Его никак нельзя было назвать амбалом. Обычный паренек. Ловкий, видать, юркий, решил Волк, ступая на маты, навстречу сопернику. Санек гибкой пантерой метнулся навстречу и оказался на полу.
— Не понял, — сказал он удивленно, поднимаясь. — Ну-ка, еще разок! — принял он стойку, впился глазами в Волка и стал мягко подкрадываться.
Бойцы прекратили тренировку, глядели на них. Волк внешне, казалось, совсем не готовился к схватке, стоял, покачиваясь всем телом влево-вправо и не мигая глядел на Санька. Тот вдруг остановился, выпрямился, сильно зажмурился, морщась, и замотал головой, словно его ослепило вспышкой сварки.
— Не могу! — пробормотал он, отходя.
— Давайте вы, вдвоем, — быстро указал Коля на двух стоявших рядом бойцов. На вид они были оба мускулистые, крепкие, сложены одинаково. Два крепыша, два брата. Может быть, они действительно были братьями. — Можете нападать одновременно!
— Не глядите ему в глаза! — буркнул им Санек.
Коля Волк увидел, что из открытой двери, в которую исчез один из его встречавших, быстро вышел Захар и хотел отставить схватку, но оба парня уже шагнули к нему. Волк сжался, приготовился, следя за ними. Кинулись они одновременно. Коля шагнул навстречу, и оба они покатились по полу.
— Интересно! — проговорил тренер. — Ну-ка, давай со мной… Иди на меня, иди! — поманил он Колю к себе обеими руками.
Волк остался на месте, только раскачивался и смотрел на Зубра.
— Иди на меня! Трусишь! Иди, иди! — подзадоривал, манил тренер.
— Волк первым нападать не может! Он только защищается! — громко и спокойно произнес в тишине Захар и шагнул к Коле.
Они обнялись, похлопали по плечам друг друга.
— Рад видеть, рад! — проговорил Захар, а когда отстранился, взглянул на тех двух бойцов, которых только что уложил Коля, и сказал: — Плохо тренируетесь! Человек на баланде восемнадцать лет сидел, а вас, как цыплят…
Он увел Колю в комнату, достал “нарзан” из холодильника.
— Жарковато сегодня… Может, покрепче чего. За встречу!
— Ты же знаешь…
— Помню… — Он налил шипящей воды в стаканы, засмеялся, поднимая бокал: — В первый раз за встречу воду пью!.. Я рад тебя видеть, очень рад… Беспредел в Москве начинается. Отмороженные, как грибы в теплый осенний день… Только силу понимают… А с другой стороны, кооперативы с такой же скоростью появляются. Брать под крышу не успеваем. За всем не уследишь… Ты чем решил заняться? К нам или, по-прежнему, одинокий волк?
— Дай оглядеться.
— Это понятно… А мысли какие?
— Мысль одна. Ты ее знаешь.
— На помощь всегда можешь рассчитывать. Помни, Захар всегда с тобой!.. И все-таки жить как-то надо, что-то делать.
— Да, помощь мне твоя нужна будет… Во-первых, деньги…
— Уже ждут.
— Жилье.
— Квартира снята.
— Потом люди будут нужны, с головой… Директора кооперативов и совместных предприятий. Думаю, целая сеть их будет вскоре… Половина прибыли — в общак.
— Найдем людей.
— И последнее. Мне нужна информация об этих людях, — протянул Коля листок. — Адрес, работа, семья. О членах семьи все. Но это потом. А сейчас документы на имя Николая Волкова, машина поскромнее… надо в стрельбе потренироваться, в спортзале бывать…
После этого разговора Колю отвезли в Замоскворечье, на Полянку, где ему сняли квартиру.
Было четыре часа дня, когда он вошел в свое новое жилище. Вечером нужно было идти в ресторан, знакомиться с двумя ворами в законе, которые были наслышаны о нем и пожелали встретиться немедля.
Коля принял душ. Долго разглядывал в зеркало свое лицо, искал черты Николая Анохина. И не находил. Он уже неделю не брился, щеки покрылись густой короткой седой щетиной. На ощупь она была жесткой, колючей. Вместе с густыми седыми волосами она придавала лицу некоторое благородство. Лоб из-за залысин высокий.
Но главной чертой его лица был грубый шрам, на месте которого не росла щетина. Особенно жутковат был правый глаз с оттянутым вниз веком. Казалось, что этот глаз совсем не моргает. Вспомнилось, как Санек кинул братьям-бойцам: “Не глядите ему в глаза!” Подумалось: “Да, взгляд жутковат!.. Ничего, не любви я приехал добиваться… Надо хорошенько приодеться, принять облик респектабельного человека… Прощай, Николаша!.. Где ты моя Зиночка?.. Нету Зиночки! Нет! И умер, убит Николаша!”
Отдохнув немного, Коля Волк поймал такси и поехал в ГУМ. Купил там самую дорогую одежду, обувь. Переоделся в комнате и снова остановился перед зеркалом. Не появилось ли теперь сходство с Анохиным? Думал он о себе, как о постороннем. Нет, не было сходства. И голос изменился после побега с Левитаном, после жуткой простуды, стал хрипловатым. Если смотреть на его лицо в профиль справа, где был шрам и оттянутое им вниз нижнее веко с красным глазным яблоком и приподнятом вверх уголком губы так, что виднелся клык, он производил жуткое впечатление, а если смотреть слева — приятный интеллигентный человек перед тобой.
В ресторане его уже ждали. Встретили, как равного. Наслышаны были. Говорил он, как всегда, мало. Слушал. Захар, чувствовалось, уже рассказал им о разговоре с Волком, о его планах. Воры одобрили его намерение открыть совместные предприятия и кооперативы. Люди с головой нужны им, ох как нужны. Бойцов много, мозгов мало. Обещали всяческое содействие.
Встречей воры в законе были удовлетворены. Они опасались, что Волк начнет бороться за лидерство в уголовном мире Москвы, соберет свою группировку. Сделать ему это будет просто. Слишком много легенд о нем ходит. Стрельба начнется. Лишняя кровь. Поэтому им хотелось вызнать его планы. За этим и встречались.
Когда Волк ушел, заговорили о нем.
— Не хотелось бы мне встретиться с ним на узкой дорожке. Бр-р-р! — встряхнулся вор в законе, что сидел справа от Волка и постоянно видел его шрам.
— Да ну-у! Приятный парень! — возразил другой, тот, что сидел слева. — Я даже не ожидал, думал, войдет квадратный монстр с пустыми кровожадными глазами. Как-никак людоед! Ни за что не поверю, что он жрал человечину!
— Так он и есть монстр! — воскликнул первый. — У меня сомнений нет, что он живьем сожрет и не облизнется. Нет, я б никогда не встал на его пути. От него за версту жутью несет! Недаром вся зона перед ним трепетала…
Они сошлись на том, что вмешиваться в их дела Волк не станет. Слышали, верили, если он сказал что, так и будет. На этом и успокоились.
Пригнали ему к подъезду Жигули, привезли водительские права, адреса тира и спортзала.
2. Легендарный Волков
Получив паспорт, Коля Волк долго изучал его. Не заметно ли, что он фальшивый. Потом позвонил в редакцию журнала “Огонек”, узнал по справочному телефону, как зовут секретаршу главного, и позвонил ей.
— Елена Сергеевна, главный у себя? — стараясь говорить как можно доброжелательней и мягче, спросил он.
— Кто его спрашивает? — Голос у секретарши уверенный, как у человека довольного собой и своей жизнью. Немножко за тридцать ей, видно.
— Николай Волков, — и быстро сознательно поправился. — Николай Петрович Волков.
Некоторое замешательство. Молчание. Удивленный голос.
— Волков? Тот самый?.. Вы существуете?
Легкий приятный смешок в ответ. И чуточку, самую малость, игриво, с ней можно:
— Я так же реален, как те цветы, который, я надеюсь, вручу вам минут через сорок. Какие цветы вы любите? Впрочем, что я, извините, какая женщина не любит розы?.. Но вначале доложите обо мне Анатолию Борисовичу. Примет ли он меня сейчас? Я хочу наконец-то познакомиться с ним… Но в первую очередь, конечно, с вами! — снова легкий смешок в трубку.
Как давно он не разговаривал с женщинами! Лагерные врачи не в счет. Это такие же надзиратели. Не переборщил ли он со своим смешком и нежными интонациями с незнакомой женщиной? Вроде бы нет, не переборщил.
— Знаете, — пришла в себя, затараторила секретарша. — Анатолий Борисович будет весь день на месте. Приезжайте без предупреждения. Он примет, будет рад, увидите! Сделайте ему сюрприз. Ведь он считает, что вы не существуете!
— Я есмь! — засмеялся на этот раз решительней и громче Николай Волков. — Заказывайте пропуск. Приеду, паспорт покажу! Ждите!
Розы он купил роскошные. Свежие, огромные алые бутоны с капельками воды на лепестках.
Шел по широкому коридору редакции с легким изящным кейсом в левой руке и с букетом роз в правой. Встречные люди оглядывались, смотрели ему вслед. Слишком необычен был вид у него. Толкнув дверь с надписью: приемная, вошел, увидел в кабинете три женщины. Все они показались ему ослепительно очаровательными. Остановился у двери на миг. Женщины повернулись к нему. Николай сразу определил, что та, что за столом, Елена Сергеевна. Улыбнулся ей сдержанно, сказал:
— Здравствуйте! Вот он я… Как видите, во плоти! — шагнул к столу и протянул секретарше цветы, оказавшись между двумя женщинами, которые не сводили с него глаз. Та, что справа, глядела, как завороженная на его рваную щеку, на широко открытый жуткий глаз, на ощеренный белый клык. Беспокойство читалось в ее взгляде. А та, что была слева, улыбалась приветливо и мило. Николай улыбнулся ей в ответ, не поворачивая головы, и легонько подмигнул левым глазом. Он догадался, что секретарша сказала им, что сейчас приедет Волков, и они пришли взглянуть на него.
— Ой, как хороши! — воскликнула Елена Сергеевна, принимая розы. Ей, действительно, было чуть за тридцать.
— Так и хочется, глядя на них, повторить классика! — засмеялся Николай Волков. — Как хороши, как свежи были розы!.. У себя? — кивнул он на дверь.
— У него гость, но я доложу, ошарашу! — засмеялась секретарша, вышла из-за стола и распахнула дверь в кабинет главного.
Николай увидел просторную комнату. Прямо напротив двери в глубине большой письменный стол, за которым располагался лысоватый, круглолицый человек с маленьким носом. Над ним между двумя шкафами на стене портрет Горбачева. К письменному столу торцом приставлен другой длинный стол для заседаний с рядами кресел вокруг него. В одном сидел высокий худощавый человек в белой сорочке с короткими рукавами и с галстуком. Главный тоже был без пиджака. Оба они оглянулись в сторону двери.
— Николай Волков! — громко произнесла Елена Сергеевна.
Мужчины замерли, глядя на него, словно увидели нечто чрезвычайно поразившее их. Оба они не сводили глаз с Волкова, ждавшего приглашения войти.
Анатолий Борисович, наконец, опомнился, вскричал:
— Входите!
Живо вскочил с загремевшего кресла, откатившегося к стене на своих колесиках, и побежал вокруг стола. Он был невысок ростом, плечист и с небольшим брюшком.
— Ох, и страшен! — тихо проговорила заведующая отделом писем, когда закрылась дверь за Николаем Волковым. Она видела его с правой стороны.
— Ты что? — удивленно воскликнула другая женщина, редактор отдела публицистики, через которую проходили все статьи и очерки Николая Волкова. — Я наоборот подумала: какой красавчик! Седой, а хорош, благороден на вид. Только в тайге такие мужчины водятся.
— Ну, у тебя и вкус! — засмеялась первая. — Не дай Бог с таким оказаться в постели. Утром проснешься, глянешь — и кондрашка хватит!
— Издеваешься? — недоумевала редактор, решив, что та ее разыгрывает, почувствовав, что Волков ей понравился, и что она непременно будет подбивать к нему клинья, как не один раз случалось с ней. Она была популярна у авторов журнала и считала, что зав отделом писем ее успеху завидует.
А Николай Волков, между тем, неторопливо шел по мягкому ковру навстречу радушному редактору, думая, что Анохин, вероятно, на его месте с трепетом бы входил в этот кабинет, хозяин которого автоматически становился членом ЦК КПСС. И этот всесильный человек, быстро катился навстречу, радостно, восторженно вскрикивая:
— Волков! Волков! Неужели легенда в яви! Не верю! Не верю! — Он выкинул правую руку навстречу, а левую с растопыренными пальцами поднял и отставил в сторону, как бы давая выбор гостю: обнять или пожать руку. Волков обнял кругленького тугого редактора, как давнего друга, с которым не виделся годы и наконец-то встретился.
— Рад, рад! — приговаривал Анатолий Борисович, обнимая, хлопая ладонями по спине Волкова, который вспомнил, что совсем недавно он точно так встречался, обнимался с вором в законе Захаром. — Леночка, кофе!.. — крикнул редактор в сторону двери и снова глянул на Волкова. — Так неожиданно! Дай-ка я гляну на тебя! — Он ко всем журналистам обращался на “ты”. Николай этого не знал и тоже решил называть Анатолия Борисовича по-дружески. — Понятно, понятно, почему ты прятался в тайге! А зря, зря! Мы мужчины, нам к лицу и рубцы и морщины, — продекламировал он. — А кто рубцов стесняется, пластическая операция и следа не останется. В наше время просто…
— Зачем операция? — картаво подал голос, сидевший и смотревший на них краснощекий человек, курносый, лобастый. — Один сеанс Кашпировского и любой рубец рассосется!
Редактор засмеялся.
— Да-да, Кашпировский… Знакомься, — глянул он на Волкова. — Бабцов Игорь Максимович, главный редактор “Советской молодежи”. Слышал, надеюсь?
— Кто о нем не слышал? — Волков пожал руку, поднявшегося из кресла, Бабцова, хотя имя его он слышал впервые.
— Только не говори, что присылал мне свои материалы, а мои ребята отказали, — весело говорил Бабцов, проглатывая букву “р”. — Огорчишь!
— Читаю журнал с удовольствием, но не присылал, — улыбнулся Волков.
— Теперь, надеюсь, пришлешь… Уговорю!
— Считай, уговорил… Только присылать не буду, сам передам. Я теперь москвич. Молодой москвич, со вчерашнего дня…
— У-ух ты, молодец! — восхитился радостно Анатолий Борисович. — А я гляжу, думаю, откуда такие денди в тайге? А передо мной москвич, истинный москвич… Москвич — это хорошо! Видишь, — радостно глянул он на Бабцова, — нашему полку прибыло! Такой боец армии стоит… Давай садись, садись, чего мы стоим, будем знакомиться ближе…
«И здесь бойцы, — подумал Волков, — прямо как на фронт прибыл».
Елена Сергеевна принесла кофе. Милая улыбка не сходила с ее лица. Анатолий Борисович стал расспрашивать Волкова о нем, о его жизни, о тайге. Искренне обрадовался, когда узнал, что Волков окончил МГУ. Николай рассказал, что родом он из Архангельского поселка, после МГУ работал в Сыктывкарской областной газете. Не очень нравился партийному начальству. Слишком был независим, неуправляем и непослушен. Ему тоже не нравились отношения в газете. То нельзя, этого не трожь. Поработал пять лет и ушел в тайгу. Охотился, писал книгу о природе в духе Пришвина. Материала, наверно, на пять книг хватит. Нужно основательно засесть за книгу на месячишко и подготовить рукопись. А когда пришла перестройка, понял, что это его время, и снова стал писать для печати.
— А теперь как, книгу будешь доделывать или, засучив рукова…
— Именно, засучив рукова! Это меня больше прельщает, здесь я в своей стихии! Теперь не до книги!
— Верно, верно! — подхватил Анатолий Борисович. — Ты уже местечко присмотрел себе? Такому, как ты, несложно… Я тоже могу у Яковлева выбить еще одну единицу политического обозревателя в журнал.
— “Московские новости” зама ищут, — сказал Игорь Максимович. — Можно посоветовать. Ты же там печатался… А впрочем, вот, лучшего не придумаешь! Чем идти в сложившийся коллектив, где все отношения давно устаканились, лучше начинать с начала. Все в твоих руках! Сам созидаешь… Иди к Перелыгину, советую. Он открывает новую демократическую газету “Российская жизнь”, будет центральной в России, вместо «Правды».
— Перелыгин — это совсем неплохо! — подхватил Анатолий Борисович. — Демократ, боец, друг Ельцина, депутат Верховного Совета. Мы с ним в Межрегиональной группе…
— Кадры, новые кадры сейчас везде нужны. Во время ты приехал к нам, — продолжил Игорь Максимович. — Перелыгин мне предложил стать его замом, но зачем мне шило на мыло менять?
— Новое дело начинать… это по мне, — согласился, качнул головой Волков.
— Я Леше сегодня же позвоню.
— А чего тянуть, прямо сейчас и поговорим! — воскликнул Анатолий Борисович. — Ему уже вертушку поставили!
Волков не понял о чем речь, не знал, что вертушкой называют кремлевский телефон. Он старался скрыть волнение и напряжение, смотрел, как редактор набирает номер на телефонном аппарате с золотистым гербом на диске. Может, зря он сразу прыгает в пасть к тигру. Вишь, как обернулось! Оказывается Перелыгин снова на коне, а он считал, что в перестройку их отправят за решетку. Нигде не потопляемы, сволочи!.. А если Перелыгин узнает его? Что тогда? Нет, не узнает. Анохина нет! Если он попадет сейчас к Перелыгину, это удача! Большая удача! Наверняка они все общаются по-прежнему. Бог помогает ему. Бог с ним. Если чуть ли не в первый день он вновь познакомится со своим бывшим другом, даже станет его замом, значит, он сразу войдет в круг своих врагов. Всегда будет рядом с ними.
— Алеша, привет! Ты о Волкове слышал? — спросил Анатолий Борисович в трубку и ткнул пальцем в кнопку на белом аппарате рядом с телефоном. Разговор их стал слышен в кабинете.
— О твоем авторе? — голос у Перелыгина был грустный, вялый.
— Ну да.
— Кто о нем не слышал.
— Хочешь познакомиться?
— А разве Волков не легенда? — вяло, без интереса спросил Перелыгин.
— Вот он, сидит передо мной, красавец! Живой, во плоти! Кстати, он окончил МГУ, как и ты…
— А сколько ему?
— Лет пятьдесят… Точно, пятьдесят, — сказал уверенно Анатолий Борисович, увидев, как Волков кивнул, подтверждая, что ему пятьдесят лет.
— Значит, он пораньше меня получил диплом… На семь лет старше, — Перелыгин почему-то вздохнул.
— Кстати, Волков, оказывается газетчик, в Сыктывкаре работал. Мы вот с Бабцовым сидим, уговариваем его к тебе идти, в замы.
— А как Яковлев?
— Яковлева я беру на себя. Это не проблема…
— Ну, тогда надо знакомиться, — снова как-то тяжко вздохнул Перелыгин.
— Что это ты такой вялый, без огня сегодня… Заболел? С похмелья?
— Беда у меня! — вздохнул еще горше Перелыгин.
— Что такое?
— Сына, Олежку, украли…
— Кто? — воскликнул Анатолий Борисович.
— Бандюки!
— А не оттуда?
— Не, Сарычев знал бы…
— Ну да, у тебя же друг генерал. А он-то что? Он как?
— Что он… Роет землю. Но те предупредили, если милиция ввяжется, конец Олежке…
— Что они хотят? Требуют что?
— Бабки… Большие деньги…
— Если Сарычев не поможет, надо платить… Скидываться будем, что делать… Да-а, история… Любаша теперь в шоке…
— Не то слово.
— Держись! Помни, мы с тобой… Лучше деньги отдать, чем рисковать.
— Ты мне это говоришь! — Горестный Перелыгин сделал ударение на слове мне.
— Извини, держись! — положил трубку Анатолий Борисович и глянул на гостей. — Вот так! Дела-а-а!
Николай Волков сначала слушал о горе Перелыгина с некоторым злорадством: пострадай, мол, и ты! Потом в его голове стал зреть план.
— Что же твориться-то, а? — возмущенно воскликнул Бабцов. — Это КГБ! Точно! Запугать нас хотят!
— У него близкий друг генерал МВД. Узнал бы.
— КГБ с МВД всегда вот так! — постучал Бабцов сжатыми кулаками друг о друга. — Хорошо хоть моя дочь в Англии, беспокоиться за нее не надо…
— Слышал? — глянул на Волкова Анатолий Борисович. — Он — не против. А в ЦК я помогу решить…
Расстались грустновато. Ни у кого не выходило из головы похищение сына Перелыгина.
3. Знакомство с другом
Из фойе здания, где была редакция журнала, Коля Волк позвонил Захару и сказал, что нужно срочно встретиться. Есть дело.
Встретились снова в спортзале. Захар не узнал Волка. Долго восхищенно крутил головой, глядя на него.
— Я думал, что в этой жизни меня ничто поразить не сможет… Вижу, ошибался. Новые времена, новые люди!
Волк рассказал Захару, что у нужного ему человека выкрали сына и требуют выкуп: нельзя ли найти этих людей и освободить мальчика.
— Поищем, — ответил Захар. — Если кто из наших, то это просто… Но сейчас отморозков развелось в Москве… Каждый день появляются…
Договорились встретиться через два часа. Захар надеялся, что за это время он что-то узнает о мальчике. И точно. Уже через час, проведенный у телефона, он узнал, что Олега Перелыгина украла дагестанская группировка.
— Я с ними не в дружбе, — говорил он Волку. — И не хочу с кавказцами разговаривать. Но я попросил Меченого. У него с ними контакт. Надеюсь, договорятся… Жду звонка…
Меченый договорился. Но теперь он был у кавказцев в долгу. Волк выспросил, где и как будут передавать мальчика Меченому, и в два часа ночи сидел в кустах напротив подъезда пятиэтажного дома неподалеку от Бескудниковского бульвара, ждал. Ровно в два часа услышал тихое ровное урчание мотора и увидел медленно приближающуюся машину с включенными фарами. Остановилась она напротив подъезда в пяти шагах от куста, за которым прятался Волк. В машине было трое. Кавказцы. Значит, они. За мальчиком приехали. Двое из них спокойно вышли из машины и неторопливо направились к двери подъезда. Скрылись. Водитель остался в машине, сидел за рулем, покачивал головой в такт негромкой музыки. “Он помешает!” — подумал Волк и осторожно, потихоньку, скрываясь за кустами, отошел от машины. Выбрался на тротуар и спокойным шагом пошел к машине, зная, что чеченец увидел его в зеркало и теперь следит за ним. Волк шел как бы мимо машины по своим делам, но, увидев водителя, остановился, спросил:
— Сигаретки не найдется?
— Топай, отец, топай! — недовольно бросил парень с настороженностью наблюдая за Волком в окно дверцы с опущенным стеклом.
— Жалко ему, — пожал Волк плечами и, как бы намереваясь уходить, быстро ткнул пальцем в глаз бандита. Тот откинул назад голову, хватнув открытым ртом воздух. И в этот момент Волк сильно ударил его ребром ладони по горлу, чуть пониже кадыка. Парень задохнулся, икнул. Голова его отвалилась на плечо, на сиденье.
Волк метнулся к подъезду, спрятался за бетонную стену отделяющую вход в подъезд от входа в мусорную кабину. Весь превратился в слух. Ждать пришлось недолго. Из подъезда донеслись быстрые шаги нескольких человек. Волк напрягся: а если их человек восемь… Парня только погублю. Напрасный риск! Но из подъезда вошло трое бандитов. Два из них держали под руки худого косматого парня с опущенной головой. Руки у него были связаны за спиной. Едва они поравнялись с Волком, как он выскочил из-за стены и резко ударил под дых идущего впереди бандита. Потом мгновенно уложил двух других, которые не успели опомниться, не поняли, что происходит, ухватил за локоть ошеломленного парня, дернул, шепнув громко:
— Бежим!
Они кинулись мимо дома, потом за угол, запетляли меж пятиэтажек, выскочили к ожидавшему Волка такси. Волк распахнул заднюю дверцу, втолкнул парня на сиденье, сам упал рядом, бросив таксисту:
— Гони, шеф! — и взглянул на тяжело дышавшего от бега парня, который за все время не издал ни звука. Только теперь Волк увидел, что у парня заклеен рот. — Потерпи немного! — подцепил Волк ногтями скотч на щеке парня и резко сорвал его.
Парень охнул и открыл рот, быстро хватая воздух. Такси выскочило на освещенный бульвар и полетело в сторону центра. Волк оглянулся назад: нет ли погони? Позади было всё спокойно. Только вдалеке светились фары одинокого автомобиля. Видно, кавказцы не успели опомниться.
— Ничего, ничего! — проговорил Волк, снова оборачиваясь к парню. — Руки!
Он ножом разрезал бельевую веревку, которой были связаны руки парня, и сказал:
— Теперь можно и познакомиться, держи лапу! Меня зовут Николай Петрович!
Растерянный и испуганный парень тер онемевшие руки, не верил еще в свое спасение, но руку Волка пожал, ответил, заикаясь:
— Ол-лег…
— Успокаивайся, успокаивайся, Олег, — приобнял его Волк, — едем домой. Сейчас ты обнимешь папу-маму. Представляешь, каково было им без тебя? Что они пережили? Слава Богу, теперь все позади… Где ты живешь? Адрес?
Олег почувствовал себя в безопасности, стал приходить в себя, наконец-то поверил, что все ужасное позади. Он свободен.
На звонок в дверь Перелыгин откликнулся быстро, несмотря на то, что уже было около трех часов ночи. Видимо, не спалось.
— Кто? — спросил он из-за двери громко и тревожно.
Сердце у Волка колотилось, грохотало в груди. Сейчас он увидит своего бывшего друга, друга, который растоптал его жизнь, и отмстить которому Волк мечтал восемнадцать лет.
— Папа, это я! — вскрикнул Олег.
Звякнули засовы, замки. И сын повис на шее отца. Донеслись из коридора радостные рыдающие вскрики матери. Алексей Перелыгин прижимал к себе сына и смотрел на Николая Волкова. Радость в его глазах сменялась тревогой. Изменился Перелыгин сильно за эти годы, показалось, что стал ещё крупнее, потолстел, живот выпирать стал, на лбу морщины появились, в мощной гриве седые пряди. Встретив на улице, Николай не узнал бы его. Значит, он тем более не узнает Анохина. Подумав это, начал успокаиваться Волков.
— Кто это? — спросил у сына Перелыгин, ослабляя объятья.
— Папа, это он! Он спас меня, отбил у кавказцев! Папа, как он их бил! Ой!
— Сынок, Олежек! — рвалась мать к сыну, и он, высвободившись из объятий отца, шагнул к ней, обнял.
— Заходите, — пригласил Перелыгин Волка, отступая вглубь коридора, и легонько похлопал по спине Любы, приговаривая: — Ну, хватит, хватит, не терзайся! Все позади! Встречай гостя… — Потом протянул руку Волку, представился: — Алексей Андреевич.
— Николай Петрович Волков…
— Волков?.. Николай Волков?
— Ну да…
— Вы не журналист? — удивленно всматривался в него Перелыгин.
— Ну да…
— С Севера?
— Оттуда…
— Господи, Любаша! — воскликнул Перелыгин, обращаясь к жене, которая всё обнимала сына, вглядывалась в его лицо. Кажется, она до сих пор не заметила Волкова, так была счастлива, поглощена неожиданным появлением сына. — Ты знаешь, кто наш спаситель?! Это же Волков, Волков! Мы его статьи читали, помнишь? Это о нем мне сегодня Короткий звонил… Я тебе говорил… Проходите, проходите! — потащил за руку Перелыгин Волкова в комнату, усадил в кресло. — Любаша, да идите же сюда!
Мать вошла с Олегом вслед за ними, спрашивая у сына на ходу:
— Они тебя били?
— Нет, так издевались? Хотели уши отрезать и вам послать, если вы сегодня денег не дадите…
— Ну вот! Ну вот! Я говорила! Бандюки на что угодно пойдут… Для них жизнь человеческая — тьфу! Ну, Слава Богу, Слава Богу…
— Это не Богу слава, а ему, — сказал Перелыгин, глядя на Волкова. — Как вам удалось?
— Случайно, — пожал плечами Волков. — Все случайно вышло… Был я сегодня вечером в ресторане, а за соседним столом кавказцы сидели…
— Это кавказцы его?! — ахнула Любаша.
Она все не могла успокоиться, была в возбуждении, сидела на диване рядом с сыном, прижимала его к себе. А Перелыгин с Волковым были напротив в креслах.
— Кавказцы, да мам!
— Это же не люди, звери, звери! Ох, господи!
— А дальше, дальше! — нетерпеливо воскликнул Алексей Андреевич.
— Сидели они, разговаривали мирно: стоит, мол, убивать заложника или подождать. Папаша, мол, шум поднял, милицию надо ждать.
— Откуда же они узнали? — ахнул Перелыгин.
— Откуда, удивился! Да у них пол милиции, небось, в осведомителях, — еще сильнее прижала к себе сына Любаша.
— Договорились они сейчас же отвезти мальчика на дачу куда-то, мол, там безопасней, и там же решить его судьбу…
— Ой-ой-ой! — вздыхала, качала головой Люба. — А мы на Сарычева надеялись…
— Я невольно подслушал все это, а когда они вышли: поехал за ними, выследил… И когда они выводили его из подъезда…
— Папа, ты знаешь как он их там! — не удержался, воскликнул парень. — Раз, раз, раз! И все трое на земле! Не копнулись! Хвать меня за руку и — бегом. Потом в машину и — погнали, погнали!
— Так у них же пистолеты, небось? — снова ахнула Люба.
— У них и автомат есть! — быстро подтвердил Олег. — Я сам видел… А пистолеты у каждого…
— Ой-ой-ой, застрелить могли!
— Не, мам! Они очухаться не успели, а мы уже удрали!
— Так все и было! — засмеялся Волков.
Смех его как-то сразу снял напряжение, волнение, эмоциональный всплеск счастливых родителей, которые вторую ночь не спали, мучились, не знали, что предпринять? Как спасти сына? Боялись, что бандиты, взяв деньги, все равно убьют его, как свидетеля. И вдруг он является — жив-здоров!
— Любаша, за такое счастье выпить не грех! — радостно сказал Перелыгин. — Приготовь-ка коньячку да закусь… Времени-то, смотри, сколько… Четвертый час… Теперь сегодня не спать! А ты, Олежка, успокаивайся и бай-бай, быстро!
Люба и Олег вышли из комнаты. Перелыгин с Волковым остались в своих креслах.
— Я думаю, вы понимаете мое состояние, мои чувства к вам, — заговорил Алексей Андреевич сентиментальным голосом. — Чуть не потерял сына! Ах, Олежек, Олежек! Представить себя не могу без него… У вас дети есть?
— Нет.
— Тогда, может, вам не совсем понятно мое состояние…
— Почему, легко представить.
— Да-да… Вы в Москве недавно?
— Вчера приехал… Женюсь я на москвичке.
— Вот оно что? Мне звонил редактор “Огонька”, говорил, что вы работу ищете… Вот и славно! Мне как раз поручили новую газету делать, кадры нужны… Помещение есть, кое-какие отделы уже работают, ищу замов… Одно место предлагаю вам. На выбор, пока имеется, — засмеялся он радостно. — Надеюсь, сработаемся…
— Жизнь покажет…
— А теперь пошли коньячку примем, сердце успокоить надо. Теперь я тебя до утра не отпущу. Здесь поспишь…
— От кофе не откажусь, а с выпивкой — в завязке… Выпил свое. Север, понимаете, спирт, без него там нельзя… А меры русский человек не знает, особенно в молодости. Всяко было… А теперь, пятый год уже ни грамма. И организм не просит, видно, насытился.
Утром Перелыгин взял Волкова с собой на работу. Редакция временно, как сказал он, находилась на Пушкинской улице в Доме печати. Настоящее здание для газеты сейчас ремонтируется. Нескольким техническим сотрудникам, которые уже работали в новой газете, Перелыгин представил Волкова как своего заместителя, даже приказал срочно изготовить ему визитку. Договорились, что Волков приступит к своим обязанностям через неделю, когда устроит все дела в Москве.
За эту неделю Алексей Перелыгин надеялся утвердить в ЦК КПСС Николая Волкова своим заместителем. Но это оказалось сложнее, чем он предполагал. Александр Яковлев, который курировал в Политбюро ЦК идеологические вопросы, после звонка редактора “Огонька” Короткого сразу согласился подписать, но нужна была не только его подпись.
Впрочем, Волков не торопился приступать к обязанностям заместителя главного редактора газеты. Дел у него было в Москве полно. Но визитке с указанием своей будущей должности был рад. Надеялся, что она ему поможет. И не ошибся. В райисполкоме, где кооператив обычно регистрировали в течение месяца, ему открыли за три дня без всяких придирок и проволочек.
4. Клад
В ожидании утверждения заместителем главного редактора Николай Волков без дела не сидел. Наоборот: все дни были расписаны чуть ли не по минутам. Открывал кооператив, оффшорную фирму в США в штате Делавар, готовил документы к организации совместного советско-английского предприятия с этой оффшорной фирмой, искал Веню Веника, который сидел в одной камере с Иваном Егоркиным, когда убили его друга и свалили вину на него. Волк уверен был, что он знает настоящего убийцу. В эти же дни учился ездить на машине с инструктором, тренировался в стрельбе из пистолета с обеих рук в загородном спортзале. Там же, помимо каратэ, часами оттачивал приемы самбо и кикбоксинга.
Каждое утро начинал с чтения газет. Хотелось поскорее узнать, чем и как живет Москва, чтобы быть готовым к разным неожиданностям. Вечера проводил на демократических тусовках, куда водил его Перелыгин. Знакомился, знакомился, знакомился. Многих знал по публицистическим статьям, по интервью. Его всюду встречали хорошо, радовались, что он перебрался в Москву и встал в их ряды. Демократы нужны ему были потому, что все враги его оказались прогрессистами, реформаторами, демократами.
Климанов Сергей Никифорович за эти годы успел побывать министром легкой промышленности, послом в Польше, поработать в Министерстве иностранных дел и теперь был депутатом Верховного Совета СССР, одним из руководителей Межрегиональной депутатской группы. Друг Горбачева и Ельцина одновременно, известнейший прораб перестройки. Долгов Виктор Борисович был заведующим отделом в аппарате Президента СССР Горбачева, дружил с отцом перестройки Александром Яковлевым, который теперь был членом Президентского совета. Сарычев Александр Кириллович, генерал-лейтенант, начальник отдела в МВД СССР. В общем, политическая элита. Так просто не достанешь. За каждым огромная сила. Поэтому Николаю Волкову нужно было войти в их круг, встать рядом. Только так можно было Волку отомстить за Анохина. И Волк верил, что день икс придет. Начало было хорошим. Но сколько еще нужно сделать!
Но прежде всего надо получить наследство Левитана.
Утром, захватив с собой миноискатель, который ему дал Захар, рюкзак, Коля Волк покатил по Новорижскому шоссе в Раково. Ездил он пока с инструктором, но чувствовал себя за рулем уверенно даже в Москве. По городу он почему-то быстрее наловчился ездить. Машин много, встанет в ряд и катит за впереди идущей машиной. Она остановиться, и он остановиться. Она тронется, и он следом. А за городом на шоссе опасней казалось, не научился он еще сливаться с машиной в одно целое. По Новорижскому шоссе катить ему понравилось. Дорога новая, без выбоин, широкая, и встречная полоса далеко в стороне. Пейзажи за окном радовали глаз: леса, перелески, зеленые холмы. Шоссе лежало в стороне от деревень. Ничто не мешало спокойной езде, и скорость нигде не ограничена. Раково, судя по карте, было километрах в десяти от шоссе. В этой деревне тонкая красная линия дороги на карте упиралась в зеленое поле и обрывалась. Дальше, вероятно, либо лес, либо болото. Тупик. И точно. Дорога в конце деревни выскочила на площадь и уперлась в павильон автобусной остановки. Здесь автобус разворачивался и ехал назад, в Новый Иерусалим. На скамье в павильоне сидел мужик, курил. У ног его лежали, свернувшись, две собаки.
— Отец, — обратился к нему Волков, — где здесь рыбхоз?
— Неизвестно еще, кто кому из нас отец, — буркнул мужик, сплюнул на сигарету, растер ее ногой и только после этого, сделав перед собой широкий круг рукой, ответил: — Это и есть рыбхоз!
— А мост где?
— Там, — ткнул пальцем себе за спину мужик.
— Жди меня здесь, — сказал Волков инструктору, взял рюкзак с миноискателем и саперной лопатой с короткой ручкой и отправился по тропинке через луг к мосту.
Вскоре вышел на широкую дорогу, которая привела его на берег большого искусственного озера. Дальний берег его порос густым камышом. За озером лес. Вероятно, тот самый, о котором говорил Левитан. Волков заволновался: увидит ли он те две сосны? Узнает ли их?
Справа среди березняка виднелись крыши дач. А если и в том лесу за эти годы вырос дачный поселок? Может, сосны давно выкорчевали и нашли схрон Левитана? Без денег Левитана будет худо! По уши завязнет в долгу у Захара. А этого не хотелось! Волков торопливо прошел по дамбе мимо широкого сарая из потемневших бревен, вышел на железный мост, остановился посреди, в том месте, где, видимо, осенью спускали воду, чтобы выловить рыбу, остановился и стал смотреть на лес, искать выделяющиеся сосны. Но верхушка леса за озером была ровная. Ни одно дерево не выделялось, не выбивалось из ряда. Раз за разом окидывал взглядом Волк лес за озером. Но не за что было зацепиться глазу. Все деревья одинаковы. Беспокойство усилилось. Радовало одно: дачный поселок был в стороне, правее. Значит, надежда найти хотя бы пни от сосен оставалась.
Волк быстро направился по дороге по верху высокой дамбы, окружавшей озеро, к лесу. По обеим сторонам ее густо рос бурьян, а местами стояли высокие кусты ивняка. Дорога была засыпана гравием, и камешки шуршали под ногами. Слышно было, как справа журчит по камням вода. Часть реки отвели, отгородили дамбой, пустили вокруг озера. Волк не знал этого и оказался отрезанным от леса. Но он решил, что где-то непременно есть переход через речку к лесу. Грибники должны сделать. Поэтому он шел и поглядывал направо, искал тропинку и вскоре напротив того места, где начинался лес, увидел ее. Спустился по крутому склону дамбы к спокойной здесь реке, к перекинутым через нее двум бревнам, перешел на другой берег, на поляну, где, судя по остаткам от костра, мусору в кустах, притоптанной площадке с пивными и водочными пробками, часто отдыхали ребята. Волк пробрался сквозь кусты по молодой жгучей крапиве на брошенное горбатое поле, начинающей зарастать березками и вербой, поднялся на пригорок и стал разглядывать опушку леса. Он провел взглядом прямую линию от середины моста к середине леса, окаймляющего поле, определил, где должны были стоять сосны, и направился туда.
Сосны здесь стояли густо, между ними почти не росла трава. Вся земля покрыта коричневыми иголками. Пней нигде не видно. Ни одна сосна особенно не выделялась толщиной. Не здесь надо искать. Волк вернулся к краю поля, заросшему густым кустарником, бурьяном и крапивой, начал искать здесь, раздвигать кусты, бурьян, обжигаясь о крапиву. Долго лазил по кустам и наконец, увидел то, что искал. Пень, покрытый зеленым мхом. Второй должен быть где-то рядом. Если, конечно, этот пень остался от одной из Левитановых сосен. Стало жарко. Волк вытер ладонью лоб, разглядывая бурьян то справа, то слева от пня. Вот он же! Почти вровень с землей, полусгнивший, заросший крапивой. Жгучие стебли ее тянуться прямо из середины пня. Мощная сосна была. Спилили, видно, дачники.
Волк огляделся: нет ли людей поблизости? Вытащил из рюкзака и собрал миноискатель, надел наушники. Как только он поднес миноискатель к земле, просунув его меж веток ивняка, в наушниках сразу же запищало. “Не может быть, чтоб так везло!” — мелькнуло в голове. Волк отложил в сторону миноискатель и выдрал куст с корнем, взял лопату и ударил ею в землю. Лезвие заскрежетало по металлу. Волк выковырнул полусгнившую консервную банку и разочарованно отбросил в сторону. Снова поднял миноискатель и начал водить им над землей в бурьяне. Нашел еще одну банку и железный прут. Но на четвертый раз, сняв грунт на штык лопаты, ничего не обнаружил, а миноискатель уверенно пищал в этом месте, показывал, что в земле что-то есть. Грунт мягкий, копалось легко. Только корни мешали. Яма получалась глубокой, но миноискатель заставлял копать дальше. Углубившись в землю больше чем на полметра, Волк, наконец, наткнулся на что-то твердое. Ожидаемого стука о металл не было слышно, словно лопата ударилась о корень. Но на такой глубине они больше не встречались.
Волк стал ширять в землю лопатой. Что-то есть. Он снова огляделся: никого не видно. Копал Волк в кустах, не на виду. С поля его нелегко было заметить. Он начал быстро выбрасывать землю из ямы, и вскоре обнаружил большую кастрюлю, не менее десяти литров вместимостью, завернутую в несколько слоев целлофаном. Откопав наполовину, Волк ухватился за ручки кастрюли и дернул вверх. Она не шелохнулась. Ее словно засосало в землю. Пришлось откапывать дальше. Не терпелось заглянуть, что там внутри? Что за наследство ему оставил Левитан?
Наконец кастрюля шевельнулась и вышла из земли. Была она тяжелой. Волк быстро разорвал целлофан, обнажил крышку. Она была по краям кругом приклеена к кастрюле широкой лентой скотча, чтобы сырость не проходила внутрь. Сорвал скотч, снял крышку. Кастрюля было доверху набита газетными свертками, упакованными в целлофановые пакеты. Волк быстро перебросил все свертки в рюкзак, сунул туда же миноискатель. Кастрюлю столкнул в яму и забросал землей. Очистил лопату о траву, накинул растолстевший и потяжелевший рюкзак на плечо и зашагал через поле к речке, к переходу, думая о Левитане. Царствие ему небесное!
Теперь надо приступать к активным действиям.
5. Веник
Оставив инструктора в машине, Коля Волк поднялся в свою квартиру, заперся и стал разбирать рюкзак, выкладывать из него тяжелые свертки на стол. На ощупь чувствовал в некоторых пачки денег, в других, вероятно, были ювелирные изделия. В первую очередь он начал вскрывать свертки с деньгами и складывать стодолларовые пачки стопками на стол. Сложил, пересчитал. Получилось семьдесят пачек. Значит, семьсот тысяч. В остальных пакетах, действительно, были ювелирные изделия. Золото с бриллиантами. Отдельно, в небольшом сравнительно с другими свертками были завернуты прозрачные граненые камешки. Все это было упаковано в плотную белую бумагу. Только в одном пакете оказался футляр с удивительной красоты бриллиантовом колье. Рассмотрев наследство Левитана, полюбовавшись колье и необычными часами из белого металла, видимо, из платины, Волк снова завернул их в пакеты и сложил в спортивную сумку. Бросил ее у порога, думая, что сегодня же надо бы отвезти в банк, спрятать в сейф.
Но сначала надо душ принять, попотел в лесу. Но он не дошел до ванной комнаты, остановил телефонный звонок. Звонил Бедуин, которого откомандировал Захар для помощи Волку.
— Веник нашелся, — сообщил он радостно. — Что с ним делать?
— Вы его взяли?
— Нет пока.
— Срочно берите и на дачу. Только без шума… По дороге можете помять. Пусть знает, что с ним не шутят. Напугайте хорошенько. Надо, чтоб он был уверен, что вечером его казнят. Я буду часов в девять.
Все это Волк сказал спокойно, ровно, словно речь шла о покупке продуктов в магазине, и пошел в ванную.
Потом, чувствуя приятную свежесть и легкость, сел в кресло к телефону. Сначала позвонил в банк, спросил, есть ли у них сейфы для хранения ценных вещей частных лиц, договорился о встрече через час и набрал справочную, узнал номер телефона министерства внешней торговли. Там он представился заместителем главного редактора “Российской жизни”, что идеологический отдел ЦК КПСС поручил ему собрать материал для статьи о закупках компьютеров за рубежом, и назначил встречу в конце рабочего дня с человеком, который непосредственно занимался этим в министерстве. Переоделся в новый костюм серого неброского цвета и отвез наследство Левитана в банк. Это заняло немного времени.
Парень, встретивший его в министерстве внешней торговли, был невысок ростом, худощав, энергичен, улыбчив, не походил на настороженного дипломата, взвешивающего каждое слово, которого ожидал встретить Николай Волков. Звали его Виктором Сергеевичем Ляпиным. Он тоже слышал о Волкове, читал его статьи, и искренне был рад познакомиться с известным человеком, представлял, как он будет вечером рассказывать тестю о встрече с Волковым. Тесть особенно любил статьи Волкова, но, как и многие, считал, что за именем Волкова скрывается кто-то из известных писателей. Виктор Сергеевич сыпал цифрами, названиями фирм-поставщиков компьютеров. В основном это были западные фирмы.
— А что же наши дремлют? — спросил Волков.
— Раньше монополия государства была, только недавно разрешили кооперативам делать закупки за рубежом. Еще не раскачались…
Волков записывал его слова на диктофон. Главная цель его интервью была узнать, кто поставляет компьютеры, чтобы сделать закупки у них, но во время беседы с Виктором Сергеевичем у него стал зреть иной план. Задав еще несколько вопросов, он предложил ему прогуляться в ресторан, что он сегодня не успел пообедать, проголодался, там, мол, и продолжим разговор.
— Приглашаю, я при деньгах, — улыбнулся он.
Виктор Сергеевич согласился с удовольствием. В ресторане, поговорив еще немного о деле, Волков спросил:
— Сколько вы получаете, если не секрет?
— Какой там секрет, четыреста деревянных.
— Это, по-моему, сто баксов. Не густо…
— Сейчас нормально. В прошлом году вообще двести пятьдесят деревянных было. Я недавно завсектором стал, как раз компьютерами занимаюсь.
— У меня друг есть, хороший парень, он кооператив открыл, компьютерами торговать собрался, ищет толкового коммерческого директора. Он при деньгах, предлагает тысячу баксов в месяц плюс командировки за рубеж за счет фирмы плюс комиссионные с каждой сделки, да и с работы уходить не надо. Можно по совместительству. Это место просто для вас создано…
— Он не говорил, какие комиссионные? — заинтересованно и вместе с тем настороженно спросил Виктор Сергеевич.
— Намекал, что минимум “Жигуленок”.
— С одной сделки?
— Вроде так… Согласен? Там ничего криминального, все по закону…
— Знакомьте, поговорим… Может, договоримся. Дело мне хорошо знакомое.
— Считайте, что познакомились. Это я!
— Вы!? С вами я готов…
— Вот и ладно. С завтрашнего дня можешь искать партнера для закупки товара.
— На сумму?
— Начнем с пятисот тысяч долларов, потом видно будет.
— Отлично.
По дороге на дачу, где должны были ждать его Бедуин с Веником, Николай Волков переоделся в спортивный костюм, превратился в Волка. Следующую задачу должен решать именно Коля Волк. Дача была в лесу, в одном из многочисленных дачных поселках. Держали Веника в подвале. Встретил Волка Бедуин, сказал, что клиент подготовлен, и повел по крутой лестнице в подвал. Комната, где был привязан к стулу Веник, была тесной, мрачной и сырой. Волк, придавая себе вид разъяренного человека, ворвался в комнату и с ходу врезал кулаком в нос Веника. Он вместе со стулом кувыркнулся на пол. Кровь брызнула ему на подбородок. Волк выхватил заранее приготовленный нож и заорал, бросаясь на лежавшего вверх ногами Веника:
— Тащите с него штаны! Я его гада кастрировать буду! — и ткнул ножом в губы.
Тот должен почувствовать вкус своей крови.
Веник дико заорал от страха, не понимая, что от него хотят и кто этот страшный человек.
— Говорить будешь! — быстро провел ножом Волк перед глазами Веника.
— Буду, буду! Не убивай! — визжал, дергался Веник.
— Говори, кто убил в камере в Бутырке шесть лет назад Романа Палубина? Кто!?
— Я не убивал! Не убивал! Не знаю!
Волк ударил его по зубам рукояткой ножа.
— Приказал Барсук! А кто убил! Кто? — яростно кричал Волк. — Я буду сейчас на кусочки резать!
— Они меня убьют!
— Я раньше убью! Ты будешь долго умирать! Кто?
— Бульдог… — прошептал Веник.
— Имя его, фамилия?
— Юрок… фамилию не знаю… то ль Сипягин, Синелин, Сибелин…
— Ладно. Живи, — как бы успокаиваясь, спрятал нож Волк. — Развяжите его… Сейчас ты собственной рукой напишешь в прокуратуру заявление. Я тебе продиктую…
— Они меня убьют… — всхлипывал Веник.
— Кто? Бульдог тоже напишет заявление, что убил он. А ты будешь свидетелем… Из-за вас, гадов, человек уже шестой год сидит… Вот ему, когда он выйдет, на глаза не попадайся…
Сказал это Волк и подумал: “Ничего, Иван, скоро ты будешь со мной. Потерпи еще немного!”
6. Бульдог
Дела у Николая Волкова налаживались стремительно и в газете, и в бизнесе. Виктор Сергеевич Ляпин без проволочек закупил партию компьютеров, и уже в августе пришла в Москву первая фура с товаром, как раз перед самым путчем ГКЧП. Волков узнал о нем на складе во время выгрузки коробок с компьютерами, узнал, что возглавляет его вице-президент Янаев, посмеялся, пошутил, что от этого урода никакого толка не будет.
— Если хочешь власти, действуй безжалостно, без оглядки, турманом! Уничтожь президента, не запирай на даче.
Захар, наблюдавший вместе с Волком за выгрузкой компьютеров, наоборот огорчился, помотал головой, говоря:
— Эти шакалы дорезвятся, страну просрут.
— Горбачев уже просрал, дальше некуда.
— Если Ельцина с Поповым и Ландсбергисом арестуют, я — с ними!
Волков с удивлением и недоверием взглянул на Захара:
— Державу жалко! Раздербанят на куски, — пояснил тот.
Но ГКЧПисты испугались, никого не арестовали, стали оправдываться, в результате их самих арестовали, и униженный растерянный президент СССР Горбачев вернулся в Москву, где уже реально правил страной президент России Ельцин.
Но все эти события мало касались Николая Волкова, несмотря на то, что в эти дни, да и после газета «Российская жизнь» активно пропагандировала дела Ельцина. Ведь это была его газета. Перелыгин, в первые дни ГКЧП был мрачен, пуглив, как-то умалился, будто пытался стать незаметным, чувствовалось, что опасается, что его арестуют, но когда стало ясно, что ГКЧПисты проиграли, распрямился, засиял, стал энергичен. Для него наступили праздничные дни. Проводил ежедневные планерки с торжественным видом, стал каким-то внушительным, величественным. К Волкову по-прежнему относился как к близкому другу.
Волк до сих пор не познакомился со своими врагами Климановым, Сарычевым, Долговым хотя их имена не раз звучали в разговорах между Перелыгиным и Волковым. Перелыгин говорил, что рассказывал им о нем, что знаменитый Николай Волков работает у него в замах, что спас его сына. Они интересовались им, но случай познакомиться не выпадал, и Волк не торопился. Надо укорениться в Москве, подготовить почву. Расправиться с ними в беспокойные дни Августовского путча можно было проще простого, но Волку хотелось заставить их страдать, хоть в малой дозе перенести то, что перенес он по их воле. Поэтому не торопился, ждал своего часа.
В эти дни его люди, а команда росла, когда пошли деньги от продажи компьютеров, большие деньги, фура за фурой шли из Европы, его люди нашли Бульдога, который в камере зарезал Романа Палубина, друга Ивана Егоркина, а обвинили в этом самого Егоркина. Бульдог был киллером в группировке Барсука, которого воры в законе звали отмороженным. По словам Веника именно Барсук приказал зарезать Палубина. Барсук держал два рынка. Один из них был компьютерным на Савеловском вокзале, где продавалась большая часть компьютеров Волкова. Этот рынок особо интересовал Захара, так и эдак пытался он умыкнуть его, но это ему не удавалось. Барсук не шел на контакт с ворами, а охрана у него была хорошая.
И однажды Бульдога привезли к Волку, который предложил киллеру выбор: либо тот напишет явку с повинной по давнему убийству в камере арестованного Романа Палубина, за что он может получить не так уж много лет, либо Волков передаёт в милицию документы о недавних убийствах Бульдогом нескольких человек, за что ему непременно намажут лоб зелёнкой, правда, дожить до расстрела он вряд ли сможет, ведь среди убитых один вор в законе. Ещё до суда в камере придушат. Чтоб легче было делать выбор Бульдогу, Волк рассказал, что о том, что именно он зарезал Палубина в прокуратуре уже известно. Веник месяц назад накатал туда заяву, и теперь сидит в СИЗО в ожидании, когда Бульдога возьмут, чтоб убедиться в достоверности его заявления.
— А я гадаю, за что его замели, — с огорчением помотал головой Бульдог.
Как и ожидал Волк, киллер оказался сообразительным, недолго думая, выбрал первый вариант.
«Пока дело об освобождении Егоркина решается, пора ехать на родину!» — решил Волк.
7. Мишка-выродок
Многие видели его в тот осенний день на улицах городка. Утром видели, как понурив голову, сутулый, унылый, брел он к автобусной остановке от пятиэтажки, где имел комнату с трехногим столом, плотно прижатым к стене, чтобы не упал, с топчаном, сколоченным из досок. Кровать он пропил за бутылку гнилухи года три назад. Из комнаты никогда не выветривался ужасный запах помойки.
Путь его к остановке лежал мимо белого бетонного забора школы. Со двора доносились голоса школьников, вскрики, смех, какие-то хлопки, топот ног. Вероятно, была перемена. Из ворот вдруг вылетела девочка лет восьми: коричневое платье, белый фартук, счастливое лицо с горящими серыми глазами, полуоткрытый рот, готовый завизжать от восторга. За ней с таким же счастливым лицом выскочил мальчик. Девочка чуть не врезалась в сутулого мрачного человека, шарахнулась в сторону и остановилась, глядя на его понурую спину, на забрызганное грязью старое осеннее пальто с надорванным карманом и лопнувшим по шву меж лопаток. Счастливое лицо девочки стало растерянным и испуганным.
— Ты чего? — подлетел к ней мальчик.
— Какой страшный! — прошептала девочка.
— Кто? — Мальчик оглянулся и засмеялся. — Это же Мишка-выродок!
— Все равно страшный, — так же тихо повторила девочка.
— Ничуть он не страшный. Я его давно знаю. Папа его на работу устраивал. Они, когда маленькими были, вместе играли…
— Кто? Твой папа? Не ври! Опять врешь… — недоверчиво и насмешливо крикнула девочка. — Папа у тебя молодой, а он старик, смотри, седой!
— Старик, — засмеялся мальчик. — Седой с бородой! Он притворяется!
Сутулый человек слышал этот разговор, обернулся, мрачно взглянул через плечо на детей. Девочка от этого взгляда съежилась, бросилась назад во двор школы, а мальчик крикнул звонко и сердито:
— Чего смотришь?! Иди-иди! Дам по рогам, копыта отбросишь!
И побежал вслед за девочкой.
Мужчина зябко встряхнул плечами, словно на шею ему давил засаленный, протертый до дыр воротник, и хотелось его ослабить, и побрел дальше. На многолюдной остановке, автобусы ходили редко, на него сразу обратили внимание.
— Ты чего это, Михась, смурной? — спросил насмешливый и веселый парень в дутой темнозеленой куртке. — Глянь, день-то какой. Солнце, а ты январем смотришь!
Мишка, молча, оглянулся по сторонам: на освещенную солнцем ослепительно белую с утра, недавно побеленную стену частного дома напротив остановки, на клен под окнами дома за невысоким забором из штакетника, полуголый, с редкими яркожелтыми на солнце листьями, на пожелтевшую траву под забором, усыпанную большими кленовыми листьями, на пожухлые цветы на газонах с обеих сторон автобусной остановки. В саду яростно и страстно орали воробьи, суетились чего-то, перелетая с ветки на ветку.
Потом он поднял голову, взглянул из-под сломанного козырька кепки на небо, голубизна которого была разбавлена тонким тающим слоем высоких облаков. Может быть, это были не облака, а дым, который густо валил из труб химзавода и рассеивался по небу. Сквозь запах прелой листвы, мокрой земли, вонючего газа, доходившего сюда от завода, пробивался тонкий аромат грибной сырости.
— Ему бы сейчас стаканчик, — подхватила слова насмешливого парня в куртке полноватая улыбчивая женщина, — сразу бы в душе заиюнило.
— Это так, — засмеялся парень. — Со вчерашнего хлорофоса теперь душа колом стоит…
Мишка вчера действительно пил хлорофос с пивом, пил вдвоем с Олегом Махно, а откуда этот говнюк знает? Имени насмешливого парня Мишка не знал, По обличью знаком, может, и пивали когда вместе. С кем только не пивал? Но как он, гад, посмел таким тоном говорить о нем?
Вспомнилось, как мальчишка, Вовки Синицына щенок, грозился по рогам дать. Это что же, он посмешищем становится? Значит, Митьки-дурачку замену нашли? Нет, ну нет! Мишка посмотрел на парня в куртке таким долгим взглядом, даже как-то потянулся к нему, хотя на месте стоял, взглянул так, что парень заткнулся на полуслове, покосился зачем-то назад и с виноватым видом отошел к бетонной стене павильона остановки, растворился среди людей. Это заметили, притихли люди, старались не смотреть на Мишку, чтоб не встретиться с ним взглядом. И как-то незаметно пространство рядом с ним метра на два вокруг опустело.
Потом видели его возле чайной. Долгоногий, нескладный, худой, с длинными давно нечесаными волосами, свисавшими с затылка из-под кепки на засаленный воротник серого пальто, он, горбясь, неподвижно стоял у чайной, ждал, когда откроется дверь, сумрачно смотрел на две потрескавшиеся колонны, с осыпавшейся местами штукатуркой, возле выщербленных гранитных ступеней, ведущих к двери, стоял один, несмотря на то, что несколько человек, таких же, как он, алкашей, кучковались неподалеку, вяло разговаривали. К нему тоже не подходили, не здоровались.
Он догадывался почему: думали, наверно, что у него денег нет, боялись, что будет примазываться к ним, чтоб выпить на халяву. Ждали десяти часов. Пиво с недавнего времени стали продавать с этого часа. Вера, буфетчица, пока нет десяти часов, гнала из чайной, чтоб не толпились, не мешали работать. Сегодня она была особенно криклива, ругалась, говорила, что пива не будет. Ей не верили, ждали. Не верил и Мишка. Он подставлял спину солнцу, дремал стоя, как старая уставшая лошадь, дремал с полуоткрытыми глазами, вдыхал запах осенней свежести, а душа постанывала, тосковала, жалость непонятная томила, хотелось идти куда-то, что-то сделать, чтоб радостней стало, чтоб исчезла тоска, ставшая ежедневной.
Пива, действительно, не привезли. Он торчал еще довольно долго у чайной, топтался на базаре, где в этот будний день было пустынно. На прилавках разложены мешочки с семенами цветов и овощей, стеклянные банки с мочеными яблоками, солеными огурцами и помидорами. Старушки, скучающие за прилавками, смотрели на него с жалостью. Одна из них подозвала его, всыпала в карман подсолнечных семечек. Он молчком подошел, оттопырил надорванный карман пальто.
— Не худой, не просыплется? — спросила старушка, опрокидывая стакан в карман.
Он не ответил, не поблагодарил, отошел безответно, сунув руку в карман, стал шуршать семечками, перебирать их, тереть пальцами, но не доставал, не лузгал.
Видели его потом на улицах Уварово неторопливого, никуда не спешащего, задумчивого и мрачного. Каждый, кто встречался с ним, испытывал чувство смутного беспокойства, старался поскорее пройти мимо. Он замечал это, усмехался и чувствовал еще большую тоску и жалость к себе. Видели, как он долго стоял возле зеленого свежевыкрашенного дощатого забора, за которым стоял добротный дом из белого кирпича, веселый дом. Красный кирпич прожилками, треугольниками, узорами расцвечивал стены. Наличники окон резные. Карниз тоже резной. На коньке крыши из белой жести вытянул шею железный петух. О чем он думал, стоя возле этого дома? Что вспоминал? Он не слышал, как подкатили сзади «Жигули», остановились. И вдруг резко просигналили. Он встрепенулся, обернулся, но не двинулся с места, стоял, смотрел, как из машины неторопливо и вальяжно выбирается высокий человек в черном кожаном пиджаке. Вылез, взял с сиденья кейс, захлопнул дверцу и запер ее на ключ. Лишь после этого, подойдя к Мишке, он небрежно, свысока кинул:
— Привет, ты чего здесь околачиваешься?
— Ходил… Весна, — буркнул Мишка, глядя холодными тяжелыми глазами на приятеля своей юности Юрку Кулешова.
Ровесниками их трудно было представить. Вальяжный, уверенный в себе Кулешов выглядел лет на пять моложе своих сорока пяти лет, а Мишке любой человек дал бы не меньше шестидесяти даже со скидкой на его вид опустившегося пропойцы.
— Весна, — хохотнул Кулешов, открывая ворота. — Выпить охота, вот и весна. Пошли налью… Но больше здесь не торчи. Понял?
— Где хочу, там и торчу, — буркнул Мишка.
В сенях Кулешов приостановился, оглядел Мишку, указал на табуретку возле стола, накрытого клеенкой:
— Жди здесь!
И вошел в дом. Когда он открыл дверь, Мишка увидел в комнате хрустальную люстру, импортную мебель: бархатный диван, кресла, овальный стол с резными ножками.
“Окопался, гад! — подумал с ненавистью Мишка. — На порог не пускает, как паршивую суку!” В сенях было прохладно. Холоднее, чем на улице. Мишка поежился. Снова вспомнился ему недавно умерший Митька-дурачок, над которым весь городок потешался, душу отводил, вспомнились бабки на базаре с жалостливыми взглядами. На Митьку они теми же глазами смотрели. Был Митька, теперь Мишка? Он пошелестел семечками в кармане, и стало жалко себя до слез. Злоба на Кулешова сжала горло. В детстве Кулешов жиже был, слабее, глупее, трусливее. Мишка не раз выручал его, когда на танцах схлестывались в драке. Ухарь был Мишка! Силен, изворотлив, ловок, умен! Атаман! Не думал никто тогда, глядя на него, что спустя пятнадцать лет будет он за пьяным столом рвать у себя рубаху на груди, кричать в пьяных слезах: “Плюйте на меня! Выродок я! Падаль!” А чуть раньше, возвратясь из многочисленных и недолгих путешествий на стройки коммунизма, Мишка, напившись, гордо стучал себе в грудь и кричал: “Я — сын вселенной!” Никто не догадывался, глядя на молодого Мишку-атамана, что придет время, и он будет известен в Уварово как Мишка-выродок, Сын вселенной, а худой, трусливый Юрка-гнус превратиться в уверенного нужного всем завскладом райпотребсоюза Юрия Сергеевича Кулешова.
Помнил Мишка, кем был он и кем был Кулешов. От этого и сжимала ему горло злоба, от этого и смотрел он с ненавистью на дверь, оббитую коричневым дерматином, на золотистые шляпки гвоздей на перекрестьях проволоки и думал с тоской: “Окопался, гад! Но я тебя раскулачу, раскулачу!”.
Кулешов вынес миску с квашеной капустой, куски колбасы, хлеба и бутылку, на донышке которой плескалась синеватая жидкость.
— Чего поблагородней нет, что ли? — буркнул Мишка, увидев в бутылке технический спирт с химзавода. Мужики его пили за милую душу. Мишка буркнул и снял кепку, пристроил ее на уголке стола и добавил: — Коньяку, небось, полон бар…
— Ух ты! — хохотнул Кулешов. — Губа не дура… Может, и полон, да не про тебя. Скажи за это спасибо… Пей, да проваливай… Не дай Бог, жена придет.
— А ты?
— Я за рулем… Да и на работу.
Мишка выпил, поперхнулся, закашлял, схватил щепоткой капусту из миски и сунул торопливо в рот.
— Вилка вон… — брезгливо кивнул на стол Кулешов.
Мишка, словно не слышал, взял рукой колбасу и стал жевать медленно, тупо уставившись мутными пустыми глазами на Кулешова. Тот тоже смотрел на него по-прежнему брезгливо и нетерпеливо.
— А ты меня не боишься, — тяжело и глухо выговорил Мишка.
— Чего мне тебя бояться, — усмехнулся Кулешов.
— Устал я, — скрипнул зубами Мишка, на миг перестав жевать.
— Отчего? От веселья? Иди, работай…
— Вижу, не боишься… а зря… должен бояться… Забыл, как боялся? — Мишка, как все пьяницы, хмелел быстро, хотя выпил чуть больше полстакана.
— Это когда же? — насмешливо спросил Кулешов. — В детстве, что ли? Это тебе казалось, что тебя боятся. А был ты обычным холуем при мне. Подхвалишь тебя, и ты готов на ушах по соплям ходить. Кто тебя боялся? Холуй, он и есть холуй? Попрошайка, ходишь — куски сшибаешь…
— Я — холуй? Я — попрошайка?! — Мишка бросил кусок хлеба в миску с капустой, оперся обеими руками о стол и попытался вскочить грозно, но только качнулся, повело его в сторону. Он устоял, ухватился рукой за край стола, сдвинул его чуточку в сторону и закричал, брызгая слюной и стуча себе кулаком по груди: — Я интеллигент в пятом поколении! Я интеллигент по крови! А ты хамло! Родился хамлом и сдохнешь хамлом!
— Сядь! — смеясь толкнул Кулешов Мишку в плечо, и тот упал на табуретку. — Интеллигент… Сам знаешь, кто ты есть. Выродок, а не интеллигент.
То, что Кулешов даже не обиделся на оскорбление, больше всего взбесило Мишку. Он вскочил на этот раз уверенно, схватил пустую бутылку за горлышко и заорал, выпячивая небритую нижнюю губу:
— Гнус, я разотру тебя! Раскулачу!
Кулешов через стол схватил его за руку, дернул на себя, свалил лицом на стол, легко вырвал бутылку, приподнял со стола за шиворот, натянул на лоб кепку и, подталкивая коленом под зад, поволок из сеней на улицу. Тяжелые ботинки Мишки прогрохотали по деревянному полу веранды, по ступеням. Выволок за ворота, оглянулся, нет ли людей. Улица была пуста. Дал пинка так, что Мишка еле удержался на ногах, и крикнул негромко:
— Еще раз увижу возле дома, на заборе повешу!
Оскорбленный, оплеванный, растоптанный Мишка быстро, не оглядываясь, затрусил по улице. Хмель покидал его так же быстро, как входил.
Видели его снова в центре города. Шел он стремительно мимо длинного ряда магазинов, с надвинутой кепкой на глаза, козырек на бочек, как натянул ему на голову Кулешов, так и осталась, шел, не глядя по сторонам, никого не замечал. Его окликали иногда, но он не оборачивался, бормотал что-то. Знакомые смеялись ему вслед, крутили пальцем у виска, свихнулся, мол, совсем, а те, кто не знал его, с опаской уступали дорогу, оглядывались. А бормотал он беспрерывно два слова в такт быстрым шагам: “Разотру — раскулачу!” Как он хотел растереть Кулешова? Как раскулачить? Когда немного успокоился, сбавил шаг, стал различать звуки по сторонам, услышал веселый окрик:
— Эй, Мишка!
Он поднял голову со сдвинутой набок кепкой. Небритый, жалкий, смешной. Окликнул его милиционер Потапов. Стоял он на ступенях возле входа в районный отдел милиции и с улыбкой смотрел на Мишку.
— Вытрезвитель ищешь? — спросил милиционер. — За углом он, неужели забыл?
Мишка, молча, стоял и смотрел не на Потапова, гревшегося на солнце, а на коричневую доску с белыми буквами на стене возле двери. Здание это он старался обходить подальше. Доска с белыми словами всегда вызывала неприятное ощущение, опаску. Но на этот раз вызвала какую-то неясную надежду на что-то мстительно хорошее. Мишка тупо глядел на доску, на веселого милиционера, и вдруг растянул губы в улыбке и прогыгыкал два раза радостно, словно пролаял, качнул головой, пробормотав: раскулачу!
— Иди сюда, — позвал милиционер Потапов.
Мишка бодро и уверенно подошел к нему, посветлело на душе. Готовым достойно ответить обидчику чувствовал себя он.
Милиционер поправил кепку на голове Мишки, приладил, осмотрел свою работу.
— Во, видал, — сказал он весело, с усмешкой любуясь Мишкой. — Тебя бы сейчас побрить, помыть и хоть под венец. Хочешь, невесту найду?
Мишка хотел ответить, что у него невеста есть, Валька: бросит пить и женится, если захочет. У нее квартира. Дочь в Тамбове в ПТУ. Валька одна живет, всегда его принимает. Но не сказал, почувствовав в голосе милиционера такие нотки, словно он с дурачком разговаривает, спросил:
— Начальник ОБХСС на месте?
— Здесь. А чего? Мафию раскрыл?
— Спрут, — брякнул Мишка.
— Ух ты! Пошли, — притворно забеспокоился, потянул милиционер Мишку к двери, вероятно, надеясь от скуки позабавиться. — Тамбовский спрут самый лучший спрут в мире!
В другом конце коридора Потапов увидел начальника районного ОБХСС, и крикнул:
— Лев Лазаревич, товарищ капитан! К вам.
Капитан затушил сигарету, кинул ее в урну и двинулся навстречу. Шел спокойно, уверенный, смуглый, чернявый. По мере того, как он приближался, уверенным становился и Мишка. Этот враз раскулачит!
— Что случилось?
— Вот, спрута разыскал, — радостно проговорил Потапов.
Мишка с досадой глянул на милиционера. Лев Лазаревич перехватил его взгляд и коротко бросил:
— Пошли ко мне!
В кабинете Мишка снял кепку и сел на стул напротив Льва Лазаревича.
— Вы знаете… — начал Мишка и запнулся, отыскивая глазами место, куда положить кепку. Стол был небольшой, папки, бумаги на нем, потому он пристроил кепку на колени.
— Пока не знаю, — ответил капитан, разглядывая Мишку, его поросшее щетиной серое худое лицо, мохнатые растрепанные брови, давно нечесаные длинные волосы.
Работал Лев Лазаревич в Уварово недавно, месяца три назад был почему-то переведен из Тамбова с понижением в должности. С Мишкой никогда не сталкивался, но краем уха слышал о нем, знал, что Мишка сын директора трикотажной фабрики, который умер от инфаркта в своем кабинете еще лет семь назад, а мать Мишки, лет двадцать бывшая заместителем председателя райисполкома, умерла недавно, в феврале. Лев Лазаревич был на ее похоронах. И теперь ему не верилось, что перед ним сидит отпрыск таких родителей. Весь вид его вызывал пренебрежение, настраивал на несерьезный иронический лад.
— Вы, эта, знаете, зачем я пришел? — заговорил таинственным голосом Мишка, наваливаясь грудью на стол, подавшись к капитану.
Он не заметил, что кепка его при этом свалилась с колен на пол.
— Скажешь, узнаю.
— О Кулешове, завскладом, слыхал?
— Есть такой.
— Он вор! — бросил быстро Мишка и откинулся на спинку стула.
— Да ну? Что же он у тебя украл?
— Не у меня, — протянул Мишка, мол, что же здесь непонятного. — Ну что у меня… Я б не пришел… У государства, — последнее слово Мишка произнес, возвышая голос, значительно, чуть ли не по слогам.
— И что же он украл?
— Все.
— Как это?
— Все, что есть на складе.
— Значит, все, что есть на складе, украл, спрятал, и склады теперь стоят пустые, так?
— Да не так… Ох! — простонал Мишка и сжал лоб ладонью, досадуя на непонятливость начальника ОБХСС. — Вы зайдите к нему в дом… Люстра — тыща рублей, диван бархатный — две, про машину, про что иное — не говорю. А зарплата — двести рэ. Вопрос — где взял? Ответ — коту ясно! Бери, сажай, не спросит за что…
— Ну да, сажай, — усмехнулся капитан. — Он скажет, мать деньги честно заработала.
— Так у него, эта… мать десять лет, как умерла.
— Ну вот он и скажет, умерла, а деньги ему оставила, и отваливай. Понятно?
Мишка задумался на мгновенье, потом стал медленно наваливаться грудью на стол, говоря полушепотом и неотрывно глядя на капитана:
— Мы с ним маленько, эта… поддавали щас, и знаете, какой он тост закатил?
— И какой же?
— Пьем за главного бича Михаила Горбача!
Проговорив это шепотом, Мишка медленно поднял глаза и голову вверх, к потолку, выставив кадык на худой щетинистой шее.
Капитан тоже машинально взглянул на потолок и спросил:
— Ну и что?
— Как что? — Мишка снова выставил кадык.
— А может? — Капитан, подражая ему, медленно вытянул голову вперед, подбородком указывая на Мишку.
— Как эта?
— Зовут тебя как?
— Мишка…
— Михаил… А ходишь ты как? — Капитан сгорбатился, показывая, как ходит Мишка. — Значит, горбач. А уж бич — бывший интеллигентный человек — это уж прямо о тебе сказано. Вот он и предлагал выпить за тебя. — И никакого… — Лев Лазаревич медленно поднял глаза к потолку.
— Ловко, — прошептал Мишка, выдыхая и отваливаясь от стола, потом что-то вспомнил и снова прильнул к нему грудью. — А частушку какую он пел… Как эта… Щас вспомню… Ага… Спасибо партии родной, и Горбачеву лично. Приходит трезвый муж домой… — Мишка запнулся. — А дальше, эта… неприлично.
— Ну и что? Благодарит партию, Михаила Сергеевича за то, что борьбу с пьянством повели. Весь народ благодарит…
— А дальше-то! — вскрикнул, перебил Мишка. — Там-то совсем неприлично!
— Где? Насколько я понял смысл частушки: приходит трезвый муж домой, и все у них отлично. Значит, мир, покой в семье. К этому мы и стремились. Что же тут неприличного?
— А еще он пел так, — громко и сердито бросил Мишка и скороговоркой зачастил: — Перестройка — мать родная, хозрасчет — отец родной… На хрен мне родня такая, лучше буду сиротой… Во, кра-мо-ла!
— Ну да, чего ж тут крамольного? — усмехнулся Лев Лазаревич и посмотрел на часы. Ему надоело развлекаться. — Гласность, свобода слова… Кто что хочет, то и поет. — Он развел руками.
Мишка испугался, что капитан выпроводит его сейчас, что придется уйти несолоно хлебавши, и он быстро заговорил, глотая слова.
— А еще, а еще у него на складе наркота… Я знаю где…
— Так, так, — оживился, подался к столу Лев Лазаревич.
Наркотики в Уварово поступали. Откуда, непонятно.
— Да-да-да, в пакетиках нашего химзавода “Белизна”… В них не “Белизна”, а наркота…
— Та-а-к! Так! — Лев Лазаревич сжал задумчиво подбородок в кулак. — Понято…
Мишка не врал. Говорил ему об этом постоянный собутыльник, тоже бывший интеллигентный человек Олег Махно. Однажды он помогал разгружать мешки с мукой на складе за стакан водки, а потом уснул на складе за ящиками. Проснулся и услышал, как Кулешов отпускал кому-то наркотики.
— Ты, вот что, — заговорил капитан после некоторого раздумья. — Бери трояк, — протянул он Мишке бумажку. — И не болтай об этом! Никогда! Понял? И дуй отсюда! Давай, давай… Узнаешь еще что-нибудь подобное, приходи!
Мишка скомкал зеленую бумажку в кулаке и поднялся, забыв о кепке. Когда он вышел в коридор, капитан увидел ее на полу, поднял брезгливо и выглянул из кабинета.
— Эй, шляпу забыл! — и не стал ждать, когда Мишка вернется, подойдет к нему, кинул навстречу.
Мишка не поймал. Кепка шлепнулась на пыльный пол. Он поднял ее и, не отряхивая, натянул на голову.
Милиционер Потапов по-прежнему на улице грелся на солнце, видно, поджидал кого-то.
— Ну, как поживает спрут? — радостно спросил он у Мишки.
Мишка взглянул на него, усмехнулся независимо и значительно, словно он знал то, чего не дано знать милиционеру, и гордо прошел мимо.
— Ух ты-ы, — протянул милиционер изумленно и больше ничего не добавил, видимо, не нашел, что сказать.
А Мишка шагал бодро по пыльной улице с выщербленным потрескавшимся асфальтом, сжимая в руке скомканный трояк. Направлялся он к винному магазину, который с минуты на минуту должен был открыться после обеденного перерыва. В Уварово осталось только два таких магазина. Один в центре, к нему и торопился Мишка, а другой в рабочем поселке.
К полудню солнце нагрело асфальт, землю, стены каменных домов. Стало жарко. Совсем по-летнему пахло пылью. Мишка вспотел, сдвинул кепку на затылок, чтоб ветром обдувало лоб. Трешница в запотевшей руке стала липкой, неприятной, неожиданно возникло желание выбросить ее, но Мишка только крепче сжал кулак. В груди снова заныло, затеснилось, снова стало муторно. Он сбавил шаг, сунул трояк в карман, к семечкам, и побрел, опять согнувшись старчески, ничего не замечая вокруг. Переходя улицу, чуть не угодил под машину. Водитель самосвала, молодой усатый парень, испуганно тормознул так, что машину занесло боком к бордюру. Мотор заглох. Парень высунул в окошко голову и, с побелевшим лицом, заорал матом. Мишка даже не оглянулся на него. Шел, горбатясь.
Видели его у винного магазина перед самым открытием. Очередь была, как всегда, огромная, человек сто. Видели, как окликнул Мишку из синего “Жигуленка” седой мужик с глубокими шрамами на щеке.
“Жигуленок” давно уж торчал у магазина, но мужик со шрамами из машины не вылезал, сидел, ждал чего-то. Окликнул он Мишку по отчеству. Очередь это удивило. Многие не знали его отчества, хотя отец его был известным человеком в Уварово, но даже те, кто помнил директора трикотажки, давно уж не связывали его с Мишкой-выродком, Сыном вселенной. А седой мужик со страшно изуродованным лицом назвал этого выродка по отчеству, значит, давний знакомый, хотя и не местный. Номера, вишь, у машины, московские.
Мишка на зов не обернулся, хотя не слышать не мог, шел рядом с машиной, чуть не задевая ее полой грязного пальто.
— Сын вселенной, зовут, оглох?! Зазнался. Что ль? — крикнул пьяненький паренек из очереди.
Мишка остановился, глянул сначала на паренька, потом обернулся к “Жигуленку”, подошел, закрыл своей сутулой спиной водителя от заинтересовавшейся очереди. Седой мужик что-то сказал ему негромко и распахнул дверцу. Все видели, что Мишка заколебался, оглянулся на очередь. Мужик снова что-то коротко бросил ему из машины, и Мишка, неловко согнувшись, неуклюже полез в машину. “Жигуленок” сразу тихонько заурчал и быстро тронулся.
— Во, барон! — крикнул вслед машине пьяненький паренек. — В ресторан покатил!
Алкаши, хорошо знавшие Мишку, шутку не поддержали, озадачены были, недоумевали: что за мужик этот седой? Откуда он взялся? Зачем ему Выродок понадобился? Мишка, сидя в машине, тоже не смог бы ответить на эти вопросы. Но они его не занимали. Мужик предложил ему выпить, поговорить. Ну и что? Разве мало он пил с незнакомыми людьми? Разве не предлагал он в былые времена незнакомым выпить с ним? Пили, знакомились. Познакомятся и с этим. Не удивило Мишку и то, что “Жигуленок” уверенно свернул к пятиэтажке, в которой он жил, и безошибочно остановился возле нужного подъезда.
В комнате седой бросил свой новенький кейс на топчан, на прикрывавшее матрас засаленное, протертое во многих местах одеяло с торчащими клочьями ваты, щелкнул, распахнул его. Мишка, стягивая с себя пальто, увидел в кейсе бутылку водки, блокноты, книгу, газету, маленький японский диктофон в коричневом кожаном футляре и большой нож-финку, вероятно, самоделку. Ручка у него затейливая, резная, а лезвие широкое, страшное. Седой взял бутылку за горлышко и посмотрел на стол, заставленный грязной посудой, бутылками, объедками так, что на нем не было места, куда поставить водку. Мишка суетливо бросил пальто и кепку на топчан, скинул одну пустую бутылку из-под пива на пол, и седой поставил на ее место свою. Потом он взял нож и со стуком захлопнул кейс. Обернулся к Мишке, поигрывая страшным ножом в руке, и спросил:
— Николая Анохина помнишь?
— Анохина?.. Чей-та не припомню, — покачал Мишка головой, с опаской косясь на нож. “Зачем он его вынул? Зачем трясет перед носом?”.
— Надо, чтоб сам вспомнил. Вспоминай, вспоминай!
Говоря это, седой прошел мимо Мишки к двери, осмотрел. Была она обшарпанная вся, разбитая. Видно, ее не один раз выбивали, а потом ремонтировали. Седой защелкнул замок, обернулся.
— Ну!
Мишка перебирал в памяти Тольятти, Нарым, Тюмень, Урал, те места, где он мог видеть седого. Но память ни за что не зацеплялась.
— Поднимись на восемнадцать лет, в семьдесят третий. — Седой неторопливо подошел к Мишке. — Вспомни Славку Зубанова, Юрку Кулешова, лесопосадку, изнасилование, когда вы подставили Анохина, за что его и шлепнули… Но он успел все это рассказать мне…
Мишка издал непонятный звук, то ли икнул, то ли простонал и быстро попятился, не спуская глаз с седого, ткнулся в топчан и сел, упал на него, на свое пальто.
Седой засмеялся странно, забулькал, но ни губы его, ни глаза не смеялись.
— Умирать не хочется?
— Не, не! — тонко вскрикнул Мишка, судорожно махая вытянутой рукой в сторону седого, словно пытался избавиться от виденья.
Седой снова забулькал и резко замолчал, быстро шагнул к Мишке:
— Кто насиловал?
— Васька Ледовских, — выдохнул Мишка, отшатываясь, косясь на нож.
— Где он?
— Спился… сдох…
— Жаль! Ты ему позавидуешь! Кто девку убил? — крикнул вдруг седой, схватил Мишку за горло левой рукой и ткнул ножом в верхнюю губу под нос.
Мишка, словно в яму глубокую полетел, от ужаса он закатил глаза и только зевал, широко открывая рот, чувствуя солоноватую кровь. Седой отпустил его, крикнул:
— Кто?
— Погоди… Я все скажу… — прошептал Мишка, вытирая кровь с порезанной губы. — Сарычев это, начальник милиции… Он сбросил… Мы со Славкой помогали. Он приказал…
— Врешь, — прошептал вдруг седой. Нож со стуком выскользнул из его руки на пол к ногам Мишки. Седой, словно не заметил этого, опустился на топчан рядом с Мишкой и покачал головой. — Нет, не Сарычев…
— Сарычев, — снова жалко подтвердил Мишка.
— Зачем он?.. Из-за Зины…
Мишка вспомнил давнюю сплетню, будто бы Сарычев женился на невесте Анохина, расстрелянного за изнасилование, и что дочь, родившаяся у Сарычева, вовсе не его дочь, а Анохина.
— Сарычев говорил, эта… что у Анохина документы какие-то… Там и мать моя… продажа квартир… И отец, эта… И если мы его… не того… то всем сидеть… С этим… с девкой, Сарычев придумал… — Мишка, говоря, косился то на нож, лежавший у его ноги, то на седого, который обхватил лоб ладонью и давил пальцами на виски. — Сарычев теперь в Москве… генерал, эта… — Мишка рванулся, схватил нож и вскочил, замахиваясь, но тут же полетел к двери, стукнулся об нее головой и сполз на пол.
Седой, спокойный и мрачный, подошел, взял нож.
Мишка завыл, кинулся на коленях к нему, обхватил одну ногу руками:
— Убей меня! Убей! Выродок я, падаль! Зачем мне жить? Убей! Режь на куски!
— Ты уже мертв. Это не жизнь… В зоне лучше… Анохин отомщен!
Седой стряхнул его с ноги, и Мишка замолчал. Страшный человек вернулся к топчану, сунул в кейс нож, достал из него диктофон, включил его и вернулся к Мишке.
— Рассказывай всё, как было! С именами, с подробностями. Нам торопиться некуда.
Мишка начал, заикаясь, рассказывать. Седой изредка уточнял, задавал вопросы. Мишка, видя, что Седой спокоен, не бьёт его, не угрожает, стал приходить в себя, говорить уверенней, рассказал и о том, что Юрка Кулешов теперь большой человек, завскладом, наркотиками торгует.
Седой выслушал его, отключил диктофон, положил его в кейс, с хрустом, резко захлопнул его и без слов пошел мимо Мишки. Дверь он тихонько притворил за собой. А Мишка долго сидел на полу, опустив голову, потом поднялся и стал дрожащей рукой распечатывать бутылку.
Очнулся он на топчане, когда в комнате стало темнеть. Лежал, вспоминал страшный сон. Временами казалось, что не сон это, что действительно был у него в комнате страшный седой мужик, Анохин, пришедший к нему с того света. Мишка потрогал пальцами верхнюю губу. Нащупал в щетине засохшую кровь, почувствовал боль, болела и челюсть. Мишка повернул тяжелую голову к столу. Там, на краешке, стояла недопитая бутылка водки. Тупо смотрел на нее Мишка и стонал, вспоминая прошедший день; как попал к Кулешову, как был в милиции, как садился в машину к седому. Вспоминал себя прежнего, лихого, вспоминал суд в Тамбове, приговоривший Анохина к высшей мере. Мишка на суде был свидетелем, оговаривал Анохина.
Всю остальную жизнь носил в своей душе две загубленные души: Анохина и той девчонки, случайно попавшей им под руку. Пытался в водке утопить свою память. Не помогало. Ненавидел Кулешова, который на этих смертях сумел устроиться, заставил секретаря райкома Долгова сделать его завскладом, а Сарычева покрывать все его делишки до тех пор, пока оба они не ушли в Тамбов на повышение. Памяти у Кулешова не было, нечего было топить в вине. Стемнело, а Мишка все лежал, думал. Жалко было себя, свою загубленную жизнь.
Нет, он не заменить Митьку-дурачка, он остановиться, найдет силы, чтобы все переиначить! Ему сорок пять, всего сорок пять! Он бросит пить, он уедет отсюда туда, где его никто не знает… Нет, одному не выдержать! Валька! Как же он о ней забыл?
Вспомнив о Вальке, Мишка поднялся, сел на топчан. В груди его зашевелилась надежда. Валька, Валька! Она спасет его, она его жалеет! Он ей нужен. Он больше никому не нужен. Он даст ей слово: ни капли в рот! И сдержится, сдержится…
Мишка включил свет. Пыльная лампочка тускло осветила хаос на столе, недопитую бутылку. Мишка прямо из горлышка вылил в себя остатки водки. Его передернуло, мурашки побежали по коже, стянули голову. Но через минуту отпустило, стало легче. Надежда все крепче овладевала им, верилось, что впереди у него много хорошего. Мишка достал из ящика стола безопасную бритву, мыло и пошел в ванную бриться. Морщась, скреб тупой бритвой шею, щеки, выпирающие скулы. Умылся, нашел в ящике стола обломок расчески и кое-как разодрал спутавшиеся грязные волосы.
Ребятишки, игравшие во дворе в этот теплый весенний вечер, видели, как он бодро вышел из подъезда и торопливо направился к соседнему дому, где на первом этаже в однокомнатной квартире жила его подруга Валька, сорокалетняя женщина, работавшая дворником. “Только бы она была дома, — думал Мишка. — Не дай Бог куда-нибудь замандалилась! Испортит все!” С радостью увидел свет в окошке ее кухни. Окно было, как всегда, плотно зашторено. “Дома, дома!” — радостно, с надеждой колотилось сердце.
На звонок из квартиры никто не откликнулся. Он снова позвонил, давил на кнопку долго. Отпустил, постучал кулаком, крикнул:
— Валя, это я!
Прислушался. Осторожный скрип донесся из коридора. Мишка знал, что так скрипит доска возле двери в ванную. Легкий щелчок. Свет на кухне выключила, догадался Мишка.
— Валя, я же слышу, открой! — крикнул он сердито и снова замер.
Вроде бы тревожный быстрый шепот послышался.
— Кто у тебя, Валя! Дверь выбью! — сильно ударил Мишка в дверь плечом.
Она задрожала, хрястнуло что-то возле замка. Мишка озверел, с размаху прыгнул на дверь плечом вперед. Она распахнулась. Навстречу ему в полумраке кинулась Валька. Он оттолкнул ее, ударил ладонью по панели с выключателями. Свет вспыхнул разом в коридоре, в кухне и в ванной.
В кухне никого не было. На столе неубранная посуда, пустая бутылка. Мишка назад, в коридор, чтоб в комнату влететь. Валька вцепилась в него, не пуская, крича. Он ударил ее, оттолкнул. В комнате пусто, но диван разложен, застлан, простыня сбита. У дивана на полу мужские туфли, носки на них. Знакомые туфли!
Окинул ошалелыми глазами Мишка комнату и кинулся к шкафу, заглянул за него. А там Олег Махно, друг его и постоянный собутыльник, анекдотчик и частушечник. Маленький, босой, в майке, брюки он успел натянуть, но застегнуть времени не хватило, поддерживал их руками.
Мишка с каким-то диким рыком схватил его руками за горло и вырвал из-за шкафа. Олег выпустил брюки и больно вцепился ногтями в руки Мишки. Рвал их, царапал, хрипел открытым ртом и двигал высунутым языком, словно дразнил. Мишка сжал его горло так, что под пальцами что-то хрустнуло. Руки Олега сразу упали вниз, вяло дернулись два раза и повисли вдоль тела. Мишка разжал пальцы, и Олег рухнул ему под ноги. И сразу Мишка услышал визгливый крик Вальки, доносившийся с улицы.
— Помогите! Спасите!
Когда приехала милиция, Мишка сидел на полу возле дивана, уткнувшись лицом в свои поднятые колени. Потом он молчал, смотрел на всех пустыми глазами, видимо, не понимая, что у него спрашивают, что от него хотят.
В камере он тоже почему-то сел не на нары, а на холодный бетонный пол, опять уткнулся в колени лбом, разглядывая свои кирзовые ботинки, которые подарил ему знакомый бетонщик из РСУ. Такие ботинки входили в спецодежду и выдавались строителям.
На потолке камеры горела лампочка, освещая темные потрескавшиеся стены, голые доски нар, сидящего на полу в ужасной тоске Мишку-выродка, Сына вселенной. Сидел он долго, не чувствуя холода от пола, потом стал медленно расшнуровывать ботинки. Шнурки были длинные, крепкие, из сыромятного ремня. Знакомый сонный милиционер, вероятно, поленился вынуть их из ботинок Мишки.
Вытянув шнурки из ботинок, Мишка стал, сидя, искать глазами на потолке, на стенах, за что их можно было привязать, но стены были гладкие, мрачные, потолок тоже гол, до лампочки не достать. Взгляд его остановился на батарее, вспомнилось, что кто-то рассказывал, что его знакомый повесился на батарее.
Мишка сделал петлю из шнурков, проверил, чтоб узел петли свободно двигался по сыромятному ремешку, тяжело поднялся, шагнул к батарее и стал привязывать свободный конец к батарее. Потом встал на колени и начал натягивать петлю на шею.
Он не слышал, как распахнулась дверь, как быстро подскочил к нему молодой милиционер. Опомнился только тогда, когда милиционер вырвал у него из рук петлю, оттолкнул его от батареи с криком:
— Э! Э! Ты чо? Очумел?
Мишка свалился на пол и остался лежать, тупо глядя, как милиционер суетливо отвязывает шнурки от батареи. Отвязал, повернулся к Мишке, говоря сурово:
— Ты чо? Ну и посадят! Большое дело! Не ты первый. Зона тебе от такой жизни раем покажется. Живи, болван! Садись!
Милиционер ухватил Мишку за шиворот, поднял с пола и усадил на нары.
Мишке вдруг с тоской вспомнилось, что и седой страшный мужик говорил, что в зоне лучше. Он, безропотно, лег на нары и отвернулся от милиционера к стене.
— Вот так, — удовлетворенно, примирительным тоном проговорил милиционер. — Проспись… Утром голова посветлеет. Везде люди живут.
8. Юрка Кулешов
Юрий Сергеевич Кулешов с накладной в руке наблюдал, как два грузчика загружают товар в машину, чтоб везти в Березовский магазин. Осматривал ящики и отмечал галочкой в накладной. Раздражение, чувство гнева, злобы на Мишку-выродка, который обозвал его детской кличкой — гнус, давно забытой кличкой, почти растворились в его душе особенно после стаканчика водки, выпитой с экспедитором. Больше всего мерзко было на душе от того, что обозвал его никто-то другой, а Выродок, спившееся существо, к тому же доля правды, как знал это Юрий Сергеевич, была в словах этого ничтожества. Юрка в детстве был маленький, корявый, всякий обидеть мог, а Мишка, действительно, иногда защищал его.
Когда уже изрядно выпивший грузчик весело и легко кинул в кузов последнюю картонную коробку со спичками на деревянный ящик с бутылками водки, которые тихонько звякнули, экспедитор сердито прикрикнул на него:
— Полегче!
— А чо им, спичкам, станется? — беспечно откликнулся грузчик, закрывая борт машины.
— Водку разобьешь!
— Она рази стеклянная? — засмеялся грузчик.
— А то какая же!
— Жидкая…
— Ишь, умник!
В это время ко входу в склад подкатили новенькие «Жигули» с седым мужчиной за рулем. Номера были московские, водитель в шляпе, в модном французском плаще. «Такой даже в Москве не просто достать, — отметил про себя Юрий Сергеевич. — При деньгах мужик! Что ему понадобилось? Что бы ни было, а денег он не пожалеет». Мужчина неторопливо вылез из машины и повернулся к смотревшим на него с любопытством грузчикам, экспедитору и Кулешову. Юрий Сергеевич, увидев его обезображенное лицо, замер встревожено, какая-то непонятная робость охватила его. «Бандюга!» — мелькнуло в голове. Грузчики и экспедитор тоже смотрели на мужика пугливо, но тот добродушно, с улыбкой, которая ещё сильнее обнажила белый клык на его страшном лице, спросил:
— Мне бы увидеть Юрия Сергеевича Кулешова?
Грузчики и экспедитор дружно взглянули на завскладом, а тот растерянно закивал головой, говоря:
— Я… я это…
— Хорошо, — так же добродушно ответил Волков и спрятал клык, посерьезнел: — Дело у меня к вам!
— А к нему без дела не приезжают, — пошутил подвыпивший грузчик, и все заулыбались.
Юрий Сергеевич глянул на экспедитора:
— Пошли, печать поставлю и — в путь! — Потом кивнул Седому: — Идемте ко мне!
В кабинете он указал на стул седому, стоя, шлепнул печать на накладную и протянул экспедитору:
— Поосторожней… дорога после дождей в колдобинах…
— Довезем, — взял накладную экспедитор и кивнул: — Бывайте!
Юрий Сергеевич сел на свой стул за столом и взглянул на Седого. Смутное и непонятное беспокойство не покидало его. «Если речь заведет о наркотиках, нет у меня их, и никогда не было!», — подумал Кулешов и спросил.
— Ну, чем я могу быть полезен?
— Дело давнее, — по-прежнему добродушно заговорил Волков. — Почти двадцатилетней давности, — уточнил он. — Помните, вы тогда на «Волге» шоферили?
— Было дело, — кивнул Кулешов.
Тревога всё сильнее охватывала его.
— Помните, Николая Анохина…
Юрий Сергеевич тут же вспомнил бедного журналиста, которого подставили по приказу Долгова, а потом суд приговорил к расстрелу, и он быстро закачал головой, бормоча:
— Что-то не припоминаю…
«Неужто это Анохин!?. — металось в его голове. — Нет, нет, того расстреляли. Сарычев узнавал! Не он, не он! Не похож!».
— Всё ты помнишь, — жестко проговорил Волков. — Анохин мне в тамбовском СИЗО всё рассказал. Всё! А Михал Андреич только что подтвердил… Сейчас послушаем…
Седой взял с пола свой кейс, положил на стол, щелкнул замками. В кейсе лежал большой страшный охотничий нож. Седой взял его, подкинул на руке, глядя в испуганные глаза Кулешова, поймал за ручку, потом взял из кейса диктофон и закрыл крышку.
— Кто такой… Михал Андреич? — пролепетал Кулешов.
— Мишку Семенцова не знаешь? Забыл?
— А-а… это Выродок… он наплетет спьяну…
— Он о тебе не особенно-то плёл. Говорит, что ты просто возил на машине убийц и насильников, и на суде клеветал. Может, Мишка выгораживал по старой дружбе. Сейчас сам расскажешь…
В это время дверь в кабинет распахнулась, ворвались Лев Лазаревич с двумя милиционерами. Все трое с пистолетами в руках.
— Сидеть! — грозно скомандовал Лев Лазаревич, направляя пистолет на Волкова.
— Сидим, сидим, — спокойно ответил тот, поднимая руки и показывая ладони.
— Кто такой? Паспорт! — по-прежнему грозно командовал Лев Лазаревич.
Волков всё также спокойно вытащил из бокового кармана удостоверение, что он зам. главного в центральной газете «Российская жизнь», и протянул Льву Лазаревичу. Тот спрятал пистолет в кобуру, взял удостоверение, прочитал, растерянно взглянул на Николая Петровича, потом снова посмотрел в удостоверение, говоря:
— Волков… Николай? Неужели тот?
— Собственной персоной, — кивнул Николай Петрович.
Радость в душе Юрия Сергеевича при виде знакомого ему зав. отделом ОБХСС капитана Льва Лазаревича, которому он на прошлой неделе доставил из Тамбова чешскую люстру из хрусталя, и надежда, что он сейчас избавит его от страшного бандюгана, стали меркнуть, когда капитан вдруг с таким удивлением и почтением начал разглядывать удостоверение Седого.
Лев Лазаревич взглянул на милиционеров, и они тоже стали прятать пистолеты, а он обратился к Волкову, возвращая ему удостоверение.
— И что вас привело в нашу дыру?
— Думаю то, что и вас.
— Нужто до Москвы дошло?
— Работаем. Ниточка привела…
— И что он вам наговорил? — глянул Лев Лазаревич на микрофон на столе.
— Не успел включить… Опередили. Оперативно сработали, молодцы! Так и запишем.
— Только, пожалуйста, наши имена не упоминайте. Ладно?
— Я же не спрашиваю, как вас зовут…
Лев Лазаревич взглянул на Кулешова и опять жестким строгим голосом спросил:
— Сами покажете или искать будем?
— Что? — съёжился, умалился на стуле Юрий Сергеевич.
Он понял, что пришли не за Седым, а за ним. И это его порадовало.
— Наркотики!
— Какие наркотики? Вы о чём, Лев Лазаревич! Вы же знаете, я не употребляю наркотиков, арестовывайте, везите в больницу, проверяйте, — заюлил, забормотал он, протягивая обе руки к капитану, как бы для того, чтобы тот надел на них наручники.
— Разве я сказал, что вы употребляете наркотики? Я сказал, показывайте, где наркотики?
— Нечего показывать… нету их…
— А если мы проверим пакеты с «Белизной» нашего химзавода, там тоже ничего не найдем? Чистосердечное признание уменьшает срок. Нам всё известно!
Юрий Сергеевич, сгорбившись, тяжело, обреченно поднялся со стула, пробормотал:
— Я… покажу…
Лев Лазаревич с улыбкой кивнул Волкову:
— Идёмте с нами!
Тот поднялся, протянул, прощаясь, руку Льву Лазаревичу:
— Работайте! Мне здесь уже нечего делать.
Все вместе вышли из кабинета. Кулешов повел милицию вглубь склада, а Волков направился к выходу, с удовлетворением думая про себя: «Так-то лучше… в камере Кулешов сам опишет прокурору, как он возил на райкомовской «Волге» насильников и убийц… Так… Со Славкой Зубановым будет проще, он оказывается в Москве».
9. Алина
В Москве Волку сообщили собранную информацию об осудившей его неправедно судье Анне Романовне Чеглаковой. Она жила на Кутузовском проспекте в трехкомнатной квартире с двумя детьми: двадцатидвухлетней дочерью Алиной и сыном Эдиком семнадцати лет, который учился в школе в одиннадцатом классе. Алина нигде не работала, жила у матери с парнем. Все трое: и сын, и дочь со своим парнем были наркоманами. Значит, подход к Анне Романовне можно найти легко, к тому же, по слухам в криминальной среде, она охотно брала взятки. Сведения эти удовлетворили Волка. Но пока беспокоить эту семейку рано, решил он.
У Алины этот день не задался с утра, и теперь она металась по кровати, постанывала. На улице темнело, скоро мать должна прийти с работы, а Гришани всё нет.
«Где Гришаня? Куда он пропал? Почему не идет? Гриша, Гришаня, где ты?» — Алина мучилась, не находила себе места в постели. Ныла, болела голова, словно кто-то периодически стучал изнутри в черепную коробку, просился наружу. Алина постанывала в такт пульсирующей боли, тёрла пальцами вспотевшую голову, разминала икры, которые будто кто-то выкручивал, чесала кожу на животе. Её тошнило, бил озноб. «Кто спёр гердос? Эдик? Мамашка? — в который раз мелькало в больной голове. — Если Эдик… Убью гада! Зачем ему Гриша дал нюхнуть? Оставался бы бээфником. Раскушал, гад! Теперь и он белодвиженник… Он… это он гердос тяпнул… Придушу! А если мамашка?.. Ой, как тошнит!».
Алина в последнее время стала про себя звать свою мать Анну Романовну мамашкой. Так ее между ними называл Гриша, парень Алины, однокурсник, который полгода жил у них. Два года назад они окончили институт международных отношений. Гришу родители пристроили редактором во Всесоюзное объединение «Внешторгиздат» при Минвнешторге, но вскоре директор объединения приватизировал фирму и сразу уволил Григория, который не скрывал, что принимает наркотики. Подсел он на них ещё в институте, а когда закрутил с Алиной, то и ее постепенно посадил на гердос, так он называл героин. Его родители, узнав, что сын сел на иглу, попытались его вылечить, отправили в строгую лечебницу, но Гриша сбежал оттуда и поселился у Алины, своей подружки.
Мать Алины, Анна Романовна Чеглакова, народная судья, имела хорошие связи, длительное время была любовницей известного теперь политика Сергея Никифоровича Климанова, который и вытянул ее из Тамбова в Москву. Связь их давно прервалась, но они изредка продолжали перезваниваться, когда нужно было что-то решить в судьбе общего сына. А Эдик, надо сказать, не особенно-то радовал мать. В двенадцать лет, а он выглядел старше своего возраста, Эдик задружился с токсикоманами, пристрастился нюхать клей, а нанюхавшись, любил покуражиться, понимал, что мать его всегда выручит. И она выручала, плакала, но выручала.
Дочку Анна Романовна пропихнула секретарем в народный суд, но Алине не понравилось ходить на работу каждый день, хотелось жить весело, бесшабашно, быть вольной птицей, каким был ее орёл Григорий Бестулин. Алине он понравился в институте с первого взгляда, а Гриша обратил на нее внимания только на последнем курсе. И теперь она была счастлива с ним.
Сегодня с утра они обнаружили, что пакет с гердосом, который они планировали растянуть на полмесяца, исчез. А вместе с пакетом исчез и Эдик. Проснулись они с Гришаней в десятом часу. Дома тихо. Мать — на работе, и Эдика не слышно. Гришаня пошел приготовить ширево, перед завтраком хотелось впрыснуть, и не нашел гердос.
Они некоторое время лежали перед телевизором, ждали, что вот-вот появится Эдик и вернет героин, но шло время, а того не было и не было. Алину начало мутить, появился озноб, и она попросила Гришаню сбегать к шустриле, взять дозу.
Гриша убежал и исчез. На улице темнеть начинает, сейчас мать придет с работы, а его всё нет. Куда он делся? Если с шустрилой безмазняк, у басурмана всегда есть! Тошнота резко подступила к горлу, Алина вскочила и чуть не упала от слабости, задержалась руками о стену и кинулась в туалет. Там упала на колени перед унитазом, её вырвало. Она тяжело хватала воздух носом, и с каждым вдохом ее передергивало судорогой, выворачивало. Она слышала, как стукнула входная дверь, решила, что пришел Гришаня, принес дурь, сейчас полегчает, потихоньку отходила, стонала над унитазом и вдруг услышала за спиной гневный голос матери:
— Это что такое?
Алина тяжело со стоном повернула голову к матери, по-прежнему стоя на коленях перед унитазом. Мать держала в руке шприц, который они утром, собираясь впрыснуть, приготовили и забыли на столе в своей комнате. Не спрятали. Алина считала, что мать знает про наркотики, но молчит, делает вид, что не догадывается, как проводят время её дети, поэтому отмахнулась, простонала:
— Отстань! Не до тебя… Уйди!
И снова дернулась, склонилась в рвоте к унитазу.
Стукнула входная дверь, Анна Романовна захлопнула дверь в туалет, и из коридора донесся её нервный вскрик:
— Это что такое!
И спокойный ответ Гришани:
— Альберка.
— Что за альберка? Это шприц!
— Да, шприц… Мы так зовем его.
— Кто мы?
— Бешеные.
— Кто? Кто?
— Ну, наркоманы. Если тебе это слово приятнее… Где Алина?
— Я здесь, — откликнулась Алина из туалета, поднялась с пола и начала умываться.
— Что с ней? Её рвёт, трясёт всю…
— Отходняк, абстяга, сейчас впрыснем, — Гришаня вдруг резко выхватил шприц из руки растерянной, ошарашенной от такой откровенности парня Анны Романовны.
Она догадывалась, что дочь подсела на наркотики, но старалась не думать об этом, мол, ничем не обоснованные подозрения, уговаривала она себя. Молодая, перебесится за ее спиной, пойдет на работу, станет такой же, как она, серьезной порядочной женщиной. И когда Гриша нагло, бесцеремонно выхватил у нее из руки шприц, молнией в голове полыхнуло, что дочь уже на дне, что посадил ее на иглу этот мерзавец, которого она сама приютила, и взъярилась неожиданно для себя, рассвирепела, схватила Григория за шиворот и рванула к двери, взвизгнув:
— Вон, из моего дома! Вон, сволочь, я не дам губить моих детей!
Гришаня легко сорвал ее руку с воротника своей куртки и сильно оттолкнул от себя. Она ударилась спиной о шкаф.
— Уймись, — спокойно сказал он. — Сейчас подлечу Алину и почирикаем. Дочь пожалей!
Он прошел мимо нее к туалету, открыл дверь. Алина, дрожа, вытирала лицо полотенцем.
— Пошли, — взял ее за руку Гришаня, подождав, когда она вытирет лицо. — Сейчас полегчает.
Они быстро прошли мимо рыдающей на диване матери и заперлись в своей комнате.
Анна Романовна чувствовала себя так, словно на нее свалилась и раздавила громадная каменная глыба. Ни вздохнуть, не шевельнуться. Казалось, всё погибло, всё, чем жила она. Она всегда считала себя сильной волевой женщиной, а тут вдруг мигом ослабела до зелени в глазах, до непрерывного какого-то визгливо тонкого непрерывного воя в ушах. Она не слышала, как прошли в комнату Алина с Григорием, рыдала, обхватив голову руками, содрогалась вся со стоном и странным воплем.
Минут через десять, когда Алина с Гришаней вышли из комнаты, Анна Романовна уже не плакала, но по-прежнему, сгорбившись, сидела на диване, спрятав голову в руки. Щеки Алины зарозовели, она чувствовала приход нежного кайфа, успокоение и легкую приятную дрожь во всем теле.
— Успокоилась? — обратился Гришаня к Анне Романовне. — Так и надо. Теперь давай почирикаем.
— Вон! — взорвалась снова, вскочила Анна Романовна, вытянутой рукой указывая на дверь. — Вон из моего дома! Чтоб запаха твоего вонючего я больше не слышала!
Гришаня спокойно пожал плечами и с сожалением взглянул на Алину.
— Я пошел! Насильно мил не будешь.
И направился к двери. Алина потерянно засеменила вслед за ним, говоря заискивающе:
— Я с тобой!
— Где Эдик? — крикнула им вслед Анна Романовна. — Его-то вы не посадили на иглу?
Алина резко сняла куртку с вешалки и обернулась к матери.
— Он ещё раньше меня наркоманить стал. Разве не замечала, ослепла!
— Как ты с матерью разговариваешь? — закричала Анна Романовна.
Но в ответ услышала стук закрывшейся двери. Она снова зарыдала, снова её охватило отчаяние, снова тяжесть придавила к дивану.
Но на этом несчастья ее в этот вечер не кончились, впереди ждал новый удар. На это раз от сына.
Успокоившись немного, Анна Романовна побрела на кухню, достала из холодильника и поставила на плиту разогревать кастрюлю со вчерашним супом. Заметила, что Алина с Григорием к нему не притронулись. Потянувшись к хлебнице на холодильнике, услышала в коридоре резкий звонок телефона. Даже вздрогнула от неожиданности, с беспокойством заторопилась к телефону, схватила трубку и услышала незнакомый мужской голос.
— Анна Романовна?
— Да!
— Капитан Разумихин, — представился мужчина. — Эдуард Сергеевич Чеглаков ваш сын?
— Да! — сердце у нее снова заныло, когда она услышала имя сына. — Что с ним!
— Сидит передо мной, ухмыляется… Задержали мы его с большой дозой наркотиков, сбыть хотел... Он говорит, вы — судья, значит, знаете, какой срок ему светит?
— Погодите! — воскликнула Анна Романовна. — Прошу вас, товарищ капитан, не заводите дела, он несовершеннолетний…
— Семнадцать есть, — перебил капитан Разумихин.
— Погодите, вам сейчас позвонят! С самого верха позвонят! В каком он отделении? Адрес ваш, адрес? Я сейчас прилечу!
Капитан назвал адрес отделения милиции и предупредил, что ждет час, если звонка или ее не будет, он подпишет дело о задержании сбытчика героина.
Анна Романовна стала нервно набирать номер телефона Климанова. Палец срывался, приходилось заново крутить диск.
— Сережа!.. Прости! Сергей Никифорович, беда! Помоги…
— Опять Эдик? — недовольно и сурово перебил Климанов.
— Ну да, ну да, опять в милиции!
— Что ещё натворил?
— Сбыт наркотиков!
— Этого не хватало!
— Обсудим потом… Спаси, спаси нашего сына! Заведут дело — будет поздно!
Из трубки донесся глубокий недовольный выдох, молчание.
— Это в последний раз… Не могу я вечно опекать его. Натворит — пусть отвечает! Запомни! В последний раз! — грозно подчеркнул он.
— Спасибо, спасибо, Сереженька! Я лечу за ним!
Анна Романовна назвала адрес отделения милиции и имя капитана и начала торопливо одеваться, чтоб мчаться в милицию, суп на плите выключить забыла, а Климанов, хмурясь, с раздражением стал набирать номер телефона генерала милиции Сарычева.
Анна Романовна быстро поймала такси. По Кутузовскому проспекту они шныряли часто. Капитану Разумихину уже позвонили из МВД, когда она появилась у него. Он встретил ее неприветливо, проговорил брюзгливо:
— Я отдам вам сына… отдам, подчинюсь, — глянул он на потолок, — но имейте в виду, рано или поздно он сядет. Не все такие податливые, как я…
— Я понимаю… всё я понимаю, товарищ капитан… Будем спасать! — Она протянула милиционеру свою визитку. — Вдруг пригодится, звоните, не стесняйтесь. Я вам очень благодарна!
На лестничной площадке перед дверью в ее квартиру резко пахло гарью.
— Суп, — воскликнула она испуганно, нервно распахнула дверь и кинулась на кухню.
Квартира была заполнена едким дымом. Из кастрюли валил черный чад, но пламени пока не было. Суп выкипел, коптил, но вспыхнуть не успел. «Ещё минут пять и пожара не миновать!» — мелькнуло в ее голове, представилась выгоревшая дотла квартира, она мигом выключила газ и скинула дымящую кастрюлю в мойку.
Потом обессилено опустилась на табуретку и зарыдала, затряслась от рыданий, кашляя от дыма, а Эдик бросился к окну, распахнул его.
10. Судьбоносный вечер
Николай Волков неторопливо катил по Рублевско-Успенскому шоссе в Жуковку, где была дача у Алексея Андреевича Перелыгина, который пригласил своего знаменитого заместителя встретить новый 1992 год вместе со своими друзьями Сергеем Никифоровичем Климановым, Виктором Борисовичем Долговым и Александром Кирилловичем Сарычевым. Все они будут с женами, а Сарычев с дочерью Леной, которая была студенткой факультета журналистики МГУ. Когда она узнала, что на даче будет журналист Николай Волков, статьи которого они изучали в университете, она уговорила родителей взять ее с собой. Ей очень хотелось лично познакомиться с Волковым.
Волк уже многое вызнал о своих мучителях и, когда Перелыгин мельком высказался, что на Новый год к нему на дачу приедут его давние тамбовские друзья, разными намеками навёл своего начальника на мысль пригласить его, мол, в одиночестве придется ему встречать Новый год, не к кому приткнуться. И тот посчитал, что Николай Петрович будет полезен при важнейшем разговоре о дальнейшей судьбе всей компании, ведь в стране произошли чрезвычайные и неожиданные события, которые перевернули жизнь всех людей. СССР неожиданно для всех рухнул, распался. Президент Горбачев ушел в отставку. Теперь надо было думать, как лучше воспользоваться новой ситуацией, для этого в основном они и собирались.
Но против присутствия постороннего человека на судьбоносном вечере стали возражать Климанов с Долговым. Перелыгин убедил их, что Волков пригодиться им в будущем, ведь он был не только прекрасным журналистом, но и неожиданно оказался удивительно предприимчивым человеком, создал свой бизнес, раскрутил его всего за полгода так, что к нему потекли миллионы долларов. Он уже катается на шестисотом «Мерседесе». Это убедило их, и они согласились. Долгов решил, что такой удачливый бизнесмен будет полезен в его новом начинании.
Обо всем этом Волков не знал, и катил теперь потихоньку по заснеженному шоссе. Не торопился. Не хотелось приезжать раньше всех, но и опаздывать тоже не желательно. Времени было достаточно. Сбор был назначен на половину десятого.
Шоссе в этот час было пустынно. Небольшой снежок, освещенный фарами, кружился над дорогой, осыпал машину, скользил по лобовому стеклу и исчезал сзади во тьме. Морозец за окном «Мерседеса» был небольшой, легкий. Волков не слышал мягкого урчания мотора, не замечал ни снежок, ни заборы вдоль шоссе, за которыми виднелись ярко освещенные в это час дачи, ни редкие встречные машины, он в тысячный раз представлял себе свидание с теми, кому долгие годы жаждал отомстить, представлял, как увидит Зину! А вдруг она узнает его? Это ужасно осложнит выполнение задуманного. Не дай Бог, не дай Бог этого? Надо всё время держаться к ней с правой стороны, ошеломить ее изуродованным лицом, не заговаривать с ней, не обращать на нее внимания. Не дай Бог, не выдержит сердце, дрогнет, и она заметит это.
То, что Климанов не узнает его — это факт! Его остерегаться не стоит, да и Сарычеву с Долговым сейчас не до него. Если даже Перелыгин, с которым он дружил несколько лет, не узнал в нем Анохина, а эти и подавно. Но Зина, Зина со своим женским чутким сердцем! Снова и снова возвращался он мыслями к своей первой незабываемой любви. И сердце тревожно щемило. Даже на мгновение мелькнуло в голове — не вернуться ли назад, сказать потом Перелыгину, что не смог приехать. Но эту мысль он отбросил сразу, надо ближе узнать своих врагов, приучить их к себе и отомстить, не из-за угла, не в спину, а лицом к лицу, чтоб знали, из-за чего и за что их настигла кара Божия. Вся эта поганая четверка не только перед ним преступники, но и перед всем народом, перед Россией, перед Богом, и он выступает, как десница Божия.
С этими мыслями подкатил Волк к даче Перелыгина. Он ее узнал издали, новенький двухэтажный кирпичный коттедж выделялся среди одноэтажных деревянных домов. Перелыгин рассказывал, что купил в Жуковке небольшой полуразвалившийся домишко на участке в тридцать соток и за год построил добротный коттедж. Перед дачей стояли три машины, значит, кто-то ещё не приехал. Все окна за закрытыми шторами ярко освещены. Мелкий пушистый снежок беспрерывно появлялся из темноты на свет от окон и неспешно ложился на крыши машин, стоявших у стены, на молодую разлапистую сосенку с заснеженными ветками.
Волк, ощущая себя разведчиком при приближении к стану врага, вылез из машины, осторожно, чтоб не хлопнуть громко, прикрыл мягко стукнувшую дверь «Мерседеса» и направился ко входу меж двух белых колонн, увидел у двери на стене кнопку звонка и позвонил. Кто откроет? Открыл Олег, сын Перелыгина, увидел его, обрадовался, стал трясти его руку, поздравлять с наступающим Новым годом.
— Мама боялась, что вы не приедете. Она счастлива вас видеть, а уж папа — сами знаете!
Олег повел его в просторный коридор, стал неуклюже помогать снимать волчью шубу, отряхнул от снежинок, повесил в шкаф. Из зала доносились веселые голоса, смешки. Оттуда в коридор выглянула Любаша, увидела Волкова, радостно ойкнула, заторопилась к нему, обняла, чмокнула в щеку.
— Ой, как хорошо, что ты приехал!
Волк тоже приобнял Любашу, чувствуя пальцами ее мягкое располневшее тело.
— Пошли, познакомлю тебя с нашими друзьями. Они о тебе наслышаны от Алеши, жаждут познакомиться.
Входя в зал, где был накрыт большой стол, и располагалось несколько человек, кто — сидя в кресле, кто — на диване, кто — стоя. У противоположной от двери стены на высокой новенькой тумбочке негромко работал большой телевизор, шел концерт, но никто его не смотрел. Волк быстро окинул взглядом всех гостей и с облегчением отметил, что Зины среди них нет. И самого Сарычева тоже. Значит, ещё не приехали. При его появлении, все сразу замолчали и повернулись к нему. Климанов встал с кресла, рядом с которым стояла молодая девушка. Волк принял ее за дочь Сергея Никифоровича. Климанов сильно постарел, поседел за эти годы, глубокие морщины появились на лбу. Выглядел он среди прочих гостей отцом большого семейства. Его первым представила Любаша.
— Сергей Никифорович Климанов, вы, должно быть о нем слышали? — обратилась ласково, с улыбкой к Волкову Любаша.
— Рад знакомству, — пожал Волк протянутую руку Сергея Никифоровича, и глянул с ответной улыбкой на Любашу, подтвердил ее слова: — Ну, кто не слышал в Москве о делах Сергея Никифоровича? Читаю, слышу, восхищаюсь!
— А эта супруга его, Наташенька, — представила Любаша молоденькую девушку.
Волков кивнул ей с прежней улыбкой и слегка, мягко коснулся ее руки, пожал и тут же повернулся к Долгову, стоявшему у дивана рядом с пожилой небольшого росточка худенькой женщиной.
— Виктор Борисович Долгов, — представила его Любаша.
Долгов пожал руку Волкова, говоря:
— Я не столь известен, как Сергей Никифорович?
— Почему же, Алексей Андреевич не раз говорил мне о вас, Виктор Борисович, о ваших замечательных делах, давно хотел познакомиться.
— Ну вот, и познакомились! А эта моя любимая супруга Алла Васильевна, — повернулся Долгов к пожилой женщине, которая с некоторым смущением и состраданием не отводила глаз от его изуродованного лица.
Когда муж произнес ее имя, назвав любимой, она постаралась оживиться, протягивая руку навстречу Волкову.
— Обо мне вряд ли вы слышали?
— Как же, как же! Алексей Андреевич признавался, что мог бы завидовать вашей счастливой и долгой семейной жизни, если бы сам не был так счастлив в своей семье. Называл вас большим ученым в микробиологии. А где же ваш сын?
— У него своя компания! Молодёжь, чего им с нами скучать.
— Любовь Михайловна, а что же вы меня хозяину дома не представили? — шутливо проговорил Волк, протягивая руку Перелыгину.
Все засмеялись, а Перелыгин, пожимая ему руку, проговорил с одобрением, как близкому другу:
— Ну, молодец! Всем любезностей наговорил, всех на праздничный лад настроил, — и обратился ко всем: — Я же говорил вам, что Николай Петрович чудесный человек во всех отношениях. Я считаю, что с этой минуты давайте к нему обращаться на «ты», и он к нам на «ты». Все мы друзья! Не возражаешь, Николай Петрович?
— С чего бы это?
— Ну вот и хорошо… А вот, кажется, и Сарычевы подкатили, — обратился он к окну, занавески которого осветили снаружи фары машины. — Олежек, встречай, подружка твоя Леночка тоже должна приехать.
Николай Петрович напрягся, сейчас появится она. Он перешел к окну, встал так, чтоб правая изуродованная сторона его лица была обращена к двери, где появится та, которая не выходила у него из головы все восемнадцать тяжких лет.
Сарычевы не появлялись томительно долго. Женщины, раздевшись, по очереди прихорашивались у зеркала. Первым вошел Сарычев, был он в гражданском костюме, вошел шумно, раскинув руки:
— Все в сборе! Как я рад видеть вас, друзья мои! С Наступающим, побольше благ всем в новом году. Он ожидается очень интересным!
Он стал жать руки всем по очереди, когда дошел до Волкова, взглянул на его лицо, некоторое смятение на миг возникло в его глазах, но тут же прежний веселый блеск вновь озарил их:
— Николай Петрович Волков, как я понимаю!
— Он самый! И я наслышан о вас, Александр Кириллович? Алексей Андреевич часто восхищался вашей жизнелюбивой душой!
— Почему не при параде в такой торжественный день? — спросил у Сарычева Перелыгин, когда тот протянул ему руку.
— Хотел быть поближе к народу в эту торжественную ночь! В ночь, в ночь, а не в день! Не хотел пугать своими погонами и орденами, — пошутил Сарычев и обратился к входившим в зал жене и дочери. — А вот и мои красавицы!
— Да, красавицы — это точно! — подтвердил Перелыгин.
Любаша обняла Зину на мгновение. Они поцеловались. Зина освободилась из ее объятий и поздравила всех с наступающим, мельком взглянула на Николашу и сразу опустила глаза, а дочь её Лена, поздравляя всех, остановила на нем взгляд и радостно улыбнулась, кивнув ему. Волков тоже кивнул ей в ответ. Он не понял, почему она улыбнулась именно ему, не знал, что ей давно хотелось увидеть его, поговорить со знаменитым журналистом. Волк почувствовал желание выдохнуть с облегчением: Зина не обратила на него внимания. Первые мгновения прошли удачно.
Зина не стала приветствовать всех персонально потому, что ей было неприятно касаться руки Климанова, который лет пятнадцать назад, ещё в Тамбове, несколько раз пытался соблазнить ее, однажды чуть не взял силой, еле отбилась. С тех пор неприязненное чувство к нему прочно укоренилось в ее душе, не ослабевало со временем, несмотря на то, что Климанов помог мужу получить работу в Москве, и после той жесткой попытки, больше не посягал на нее. Зина знала от мужа, что Любаша родила Олега не от Перелыгина, а от Климанова, и что Алеша не догадывается об этом. Знала, что у Климанова есть ещё один сын от любовницы, которую тот перетащил за собой в Москву, и что якобы Сергей Никифорович, старея, потянулся к несовершеннолетним девочкам. Всё это усиливало неприязненное чувство к Климанову.
О журналисте Волкове Зина впервые услышала от дочери, которой в университете преподавали его статьи, как образец журналистского мастерства. Зине его статьи тоже понравились, но вместе с тем вызывали всегда какую-то смутную, непонятную тревогу. В отличие от дочери желание познакомиться со знаменитым журналистом у нее не возникало. Когда она поздравляла всех с наступающим, мельком взглянула на единственно незнакомого ей седого мужчину с глубоким шрамом, уродующим его лицо, поняла, что это Николай Волков, и снова почувствовала какую-то глухую непонятную тревогу, и быстро отвернулась от него, решив, что беспокойство это из-за его обезображенного лица, на которое нельзя было смотреть без сострадания.
— Ну что ж, — обратился ко всем Перелыгин. — Стол накрыт. Время десять, пора провожать этот сумасшедший год. Располагайтесь, где кому удобно, — указал он на стол.
Волк сел подальше от Сарычевых, справа, так чтоб им было постоянно видно его изуродованное лицо, сел рядом с женой Долгова, Аллой Васильевной, с другой стороны оказался Климанов. Сергей Никифорович, как обратил внимание Волк, был всё время спокоен, солиден, немногословен, отвечал кратко, когда к нему обращались, а супруга его юная чувствовала себя стесненно, неуверенно, должно быть, ещё не освоилась в этой компании солидных людей. Лучше всех себя чувствовал Сарычев. Он был разговорчив, улыбчив, шутлив, обращался то к одному, то к другому. А Долгов напротив чем-то озабочен, хоть и улыбался, отвечал на шутки Сарычева, но, видимо, был сосредоточен на чем-то своём. Перелыгин, стоя, неловко открывал шампанское.
— Дай-ка сюда! — весело протянул к нему руку Сарычев.
Перелыгин передал ему бутылку, и тот ловко и быстро с легким хлопком открыл, не пролив ни капли шампанского, вернул бутылку Алексею Андреевичу со словами:
— Учись, студент! Открывать шампанское дело генеральское! — И тут же обратился к жене Перелыгина, которая несла из кухни новое блюдо. — Любаша, хватит хлопотать, — скомандовал: — За стол! Шампанское теряет пузырьки. Места на столе уже нет.
— Товарищ генерал, открой и нам, — обратился к нему, протянул бутылку Долгов. — Боюсь, стол залить!
— Всегда готов! — подхватил Сарычев бутылку, так же ловко открыл ее и вернул Долгову, который стал наливать шампанское жене, а потом Волкову.
Зина сидела рядом с оживленным мужем с вежливой улыбкой, не обращала внимания на шутки и слова Сарычева, изредка что-то кратко говорила дочери, сидевшей с другой стороны, та кивала и снова поворачивалась к Олегу. Видно были, что они дружны, хотя Лена была постарше парня.
— Итак, господа, у всех нолито, — по-студенчески коверкая слово и делая ударение на первое «о», стоя проговорил Перелыгин. — Давайте, проводим сумасшедший год. Слово Сергею Никифоровичу!
Произнес и сел, глядя на Климанова.
Тот возразил, вставая.
— Нет-нет, первое слово хозяину!
— Что ты, Сергей Никифорович, первое и последнее слово всегда за тобой!
— Ну, раз так, давайте подведем, так сказать, итог этому неожиданному году. Встречая его, мы и представить себе не могли, что он так закончится, что уйдет Горбачев, рухнет страна, исчезнет СССР…
«Вы и подточили его, как тля, вот он и рухнул», — сумрачно мелькнуло в голове Волка, а Климанов продолжал говорить.
— …грустно, конечно! Но самое главное, все мы живы-здоровы. Смотрю на ваши жизнерадостные светлые лица и чувствую, что все мы год этот провели удачно. Пусть уходит этот сумасшедший год, как называет его Алеша, в историю, проводим его с благодарностью, выразим ему признательность за то, что все невзгоды, которые он принес, нас не коснулись. За уходящий!
Он поднял бокал, и все стали чокаться, поздравляя друг друга. Волк решил не выделяться среди врагов, протянул свой бокал к бокалу Аллы Васильевны, легонько коснулся его, улыбаясь ей, выпил немного шампанского, поставил его на стол, взял ложку из глубокой тарелки с салатом и снова взглянул на соседку:
— Вам положить?
Она пододвинула свою тарелку к салатнице, и он стал накладывать салат.
Гости переговаривались пока приглушенно, закусывали, негромко постукивали ножами и ложками по тарелкам, но после второго-третьего тоста, когда мужчины перешли на французский коньяк, за столом стало оживленней, голоса громче. Когда Долгов хотел налить Волкову коньяк, тот быстро прикрыл рюмку рукой и тут же потянулся к бутылке шампанского, налил Алле Васильевне и себе, потом обратился к ней:
— Как дела в вашем институте? Работает? Не отразились на нем последние события?
— Как и везде… — с горечью ответила Алла Васильевна. — Зарплату четвертый месяц не выдают. Полинститута в челноки подались. Я-то за мужем держусь. Слава Богу, у него всё хорошо. Не нуждаемся. А так… Гулко стало в здании. Тишина. Того и гляди институт вообще закроют.
— Да, грустно, — проговорил Волков. — Давайте выпьем за лучшие времена!
Он снова немного пригубил из бокала.
11. Крутые перемены
По телевизору стали показывать концерт. Любаша включила его погромче, а Перелыгин поднялся, проговорил:
— Пусть женщины наслаждаются концертом, а нам пора перекурить. Идёмте ко мне в кабинет. Там мне Любаша дымить не запрещает…
Он направился в свой кабинет, мужчины потянулись за ним. В двери Перелыгин обернулся, обратился к жене:
— Когда новый президент поздравлять начнет, позови! Послушать хочется, что она скажет о будущей жизни!
Кабинет был просторный: массивный стол, книжные шкафы, забитые книгами вдоль стен, два кожаных дивана и два таких же кресла.
— Располагайтесь, — указал на них Перелыгин.
Климанов неторопливо, уверенно прошел к одному из кресел, как догадался Волк, тот любил сиживать именно на нем. Из кресла просматривался весь кабинет, и можно было следить за всеми присутствующими, не поворачивая головы. Волков подошел к книжному шкафу, стал разглядывать корешки книг, а когда все расселись, опустился на диван рядом с Перелыгиным. На миг наступила тишина. Перелыгин, Сарычев и Долгов неторопливо возились с сигаретами, зажигалками. Климанов с Волковым молчаливо наблюдали, как они закуривают, посматривают друг на друга. Первым заговорил Сарычев.
— Ну что, дождались перемен? За что боролись, на то и напоролись.
— Прикрывают ваше министерство? — спросил Долгов.
— Без нашего министерства ни одно государство не обходится. Были союзным, становимся российским.
— Сокращают сильно? Ты остаешься?
— Предлагают замом к Ерину.
— К Ерину? Кто он такой? — удивился Перелыгин.
— Будущий министр МВД страны.
— А Дунаев?
— Время его кончилось.
— Дал согласие? — поинтересовался у Сарычева Долгов.
— Раздумываю, цену себе набиваю. Конечно, соглашусь.
— Туповатый он твой Ерин, — покачал головой Климанов.
— А к умному я бы не пошел, — быстро шутливо подхватил Сарычев. — С умным одни хлопоты… Со мной ясно. У Алеши тоже хорошие перемены. Газета его теперь главной становится, вместо «Правды» будет указивки нам давать. Это хорошо! А ты, Сергей Никифорович, как я понимаю, теперь четвертый человек во власти страны.
Климанов только усмехнулся на это, чуть качнув головой, как бы возражая.
— Как же, как же, — с воодушевлением подхватил Перелыгин. — Саша прав. Если вдруг исчезнут Ельцин с Руцким и Хасбулатовым, то во главе страны по должности становится Председатель Совета республики Верховного совета России. Вы, вы, Сергей Никифорович! Поздравляю! Такие перемены мне нравятся!
— Ельцин никуда не денется, — как бы равнодушно ответил Климанов. — Неделю он всего рулит страной. Посмотрим, что он нам сейчас скажет? Куда поведет Россию?
— А у тебя, Виктор Борисович, видать, самые большие перемены? — обратился серьезным тоном Сарычев к Долгову. — Партию Ельцин прикрыл. Куда ты теперь?
— Да, работу я потерял. Это факт!.. — ответил Долгов. — Финансами решил заняться. Банк затеял. Приглашаю всех в учредители!
— Банк — хорошее дело! — одобрил Климанов.
— И каков Уставной фонд? — спросил Сарычев.
— Уставной фонд я один потяну. Главное, здание под банк надо покупать-ремонтировать, столы-шкафы-компьютеры. Много чего. Я посчитал, миллионов пятьдесять баксов уйдет, не менее.
— С компьютерами я помогу, — вставил Волк.
Все четверо с одобрением взглянули на него.
— Если примете в учредители, могу внести свою лепту, — добавил Волк.
— Сколько же? — спросил Долгов.
— Десять! Пять лимонов — хоть завтра, — ответил Волк. — Ещё пять недельки через две.
— Это кое-что. У меня тоже десяток имеются в загашнике. А что вы скажете? — взглянул Долгов на своих друзей.
— Я больше пяти не потяну, — первым ответил Перелыгин. — Поиздержался я с этой дачей.
— Можешь записать на меня восемь, — вслед за ним откликнулся Сарычев.
— Сколько не хватает до пятидесяти? — спросил Климанов.
— Семнадцати, — быстро и с надеждой ответил Долгов.
— Записывай на меня, — кивнул головой Климанов. — Если не хватит, найдем ещё.
— Вот и ладненько! Начнем Новый год с новой работы. Саша, без охраны банк не банк, — взглянул Долгов на Сарычева. — Надеюсь, ты подберешь мне в отдел охраны серьезных ребят из тех, кого у тебя сократят.
— Это не вопрос. Будут! — уверенно проговорил Сарычев. — Кроме того, я подгоню к тебе с полсотни фирм счета открыть.
Климанов одобрительно кивнул:
— О клиентуре мы все позаботимся. Возможности есть.
— А с меня реклама, — сказал Перелыгин. — Как зарегистрируешь, Николай Петрович возьмет у тебя интервью. Представим, как лучший банк России!
— Мужики! — со смеющимся лицом заглянула в кабинет Любаша. — Президент в телевизоре. Поздравляет!
И по-прежнему смеясь, скрылась в зале.
— Чего смешного? — удивился Перелыгин. — Пошли, послушаем, встретим Новый год. Он обещает быть для нас интересным!
Когда они вошли в зал, часы на башне в телевизоре показывали без десяти двенадцать, но вместо президента на экране торчал юморист Михаил Задорнов.
— Не понял! — воскликнул Перелыгин.
— Новый президент, — смеялась Любаша, и все женщины улыбались, глядя на юмориста. — Слушай, поздравляет народ!
Задорнов действительно поздравлял всех с наступающим Новым годом. Мужики застыли, не понимая, почему вместо президента поздравляет юморист.
— Да уж! — воскликнул Сарычев. — Веселый год предстоит нам. Что ж, встречать-то его всё равно надо.
И первым полез за стол на своё место.
Ближе к концу вечера, когда Любаша с Зиной и Аллой Васильевной ушли готовить постели, — гости, кроме Волкова, оставались ночевать, к Николаю Петровичу неуверенно подошла Лена Сарычева и смущенно обратилась к нему:
— Можно мне спросить у вас, Николай Петрович?
— Конечно, можно, садитесь, — указал он рядом с собой на свободный стул Аллы Васильевны. — Я слушаю.
— Мы в нашей группе в университете постоянно изучаем ваши статьи. Нашему мастеру они нравятся…
— А вам?
— И нам всем тоже. Вы не могли бы прийти к нам? Мы были бы рады встретиться с вами всей группой, задать вопросы, послушать.
— Когда? У вас же сейчас сессия начинается, не до встреч.
— Я поговорю с мастером. Мы найдем время.
— Хорошо, как договоритесь, звоните, — протянул ей визитку Николай Петрович.
— Ой, спасибо, спасибо вам! — радостно схватила визитку Лена, вскочила и убежала.
Волков видел, как она со счастливым лицом показывала визитку Олегу.
Сразу же после этого Волк стал прощаться. Ночевать здесь ему категорически не хотелось.
Он уехал, а гости сели за чай.
— Ну как он вам? — спросил о Волкове Перелыгин, обращаясь ко всем. — Я же говорил, милейший человек!
И все посмотрели на Сергея Никифоровича, ожидая, что скажет он.
— Я бы так не сказал, — ответил Климанов. — Без всякого сомнения, человек не глупый, толковый, энергичный, себе на уме, но от взгляда его, от всего лица веет какой-то непонятной угрозой, тревогой.
— Кажется, Гельвеций говорил, что всякое величие характера вызывает чувство опасности… Но я думаю, что это из-за шрама, — вставила Алла Васильевна, которая сидела от него слева и в основном видела его не обезображенное лицо. — А вообще-то он производит впечатления интеллигентного и обаятельного человека.
— Точно, из-за шрама, — поддержал ее Сарычев. — Когда он щерится, вываливается его клык и, кажется, что он сейчас перекусит тебя пополам. Жуть!
— Ну, если генерала жуть берет, то, что же говорить о нас, — засмеялся Долгов.
— Шрам убрать можно. Сейчас пластические операции запросто делают, — вставила Лена.
Зина неодобрительно взглянула на дочь: нечего вмешиваться в разговоры взрослых. Она вспомнила, что при первом взгляде на обезображенное лицо Волка почувствовала непонятную тревогу и потом старалась не смотреть на Волкова, а он за столом сидел тихо, был молчалив, не обращал на себя внимания, разговаривал только со своей соседкой, женой Долгова, которая, услышав слова Леночки, поддержала ее.
— Я ему сказала про пластическую операцию. Он говорит, что непременно сделает, как освободится, сейчас у него дел полно, — проговорила Алла Васильевна.
— Ну да, он крутится день и ночь, — произнес Перелыгин. — Всюду успевает. И в газете он работает больше других замов, и как-то успевает крупные сделки проворачивать. Я бы так не смог?
— Я договорился с ним встретиться завтра, — заметил Долгов. — Он обещал все счета своих фирм перевести в наш банк. Пригляжусь к нему наедине, и расскажу вам о своем впечатлении. Ну, а мне он показался деловым сдержанным человеком. Сразу виден северный характер!
Лена
Лена позвонила Николаю Петровичу после Рождества, сказала, что мастер наметил его встречу со студентами в феврале, после сессии, когда у них снова начнутся занятия, извинилась, что не вышло сразу, как ей хотелось.
— Ничего Леночка, не за что извиняться, встретимся в феврале. Куда нам торопиться, — успокоил ее Николай Петрович. — Как сдадите экзамены, позвоните мне, интересный материал появился. Направим от газеты в архив. Надо покопаться, можно хорошую статью сделать. Как ты к этому относишься?
— Ой, Николай Петрович, огромнейшее вам спасибо! Я сейчас прилечу, прямо сейчас. Можно?
— Во-первых, не торопись…
— А вдруг вы другому журналисту отдадите? — нетерпеливо перебила Леночка.
— Не отдадим, сдавайте экзамены, не забивайте голову. А во-вторых, давай перейдем на «ты». Видишь, я уже перешёл. Ведь мы с твоими родителями теперь одна команда.
— Ой, как-то мне неудобно, Николай Петрович! Кто вы, а кто я… Можно я буду звать на «вы», мне так… — Лена запнулась, видимо, подбирая слово, — уютней.
— Ну, раз уютней, — засмеялся Николай Петрович. — Пусть будет так, а я, как невоспитанный таёжный человек, всё-таки буду обращаться к тебе на «ты».
— Вам можно, — улыбнулась в ответ Лена, — после экзаменов позвоню.
Позвонила на Татьянин день. Николай Петрович поздравил с праздником, спросил:
— Как экзамены?
— Прекрасно!
— Ты у нас отличница?
— Не совсем. Есть и «хоры».
— Гуляешь с друзьями?
— Я хотела приехать к вам насчет работы в архиве. Вы на работе, не передумали?
— Приезжай! Это у вас праздник, а у нас обычный рабочий день.
Принял он ее в своем кабинете, угостил кофе с шоколадом, рассказал, что ему в руки попал интересный материал о неправедном судействе. Студента оклеветали, обвинили в убийстве. Девятый год в заключении. Недавно арестовали настоящих преступников, которые сознались и в том давнем преступлении, а дело студента до сих пор не пересматривают.
Лене выписали удостоверение спецкора, дали от газеты письмо в архив прокуратуры с просьбой предоставить дело Егоркина корреспонденту газеты. Потом Волков сам позвонил в архив, попросил руководителя посодействовать в изучении дела спецкору Сарычевой.
Ехала в архив Лена с тревогой в душе, сомневаясь, сможет ли она без юридического образования разобраться в уголовном деле, не провалит ли первое серьёзное задание, считала, что при неудаче опозорится, покажется неумёхой не только перед Николаем Петровичем, но и перед мамой, и перед подругами, которым она похвасталась таким серьезным заданием главной газеты страны. Лена думала, что привезут ей несколько томов дела, она видела однажды в американском фильме, как журналисту в таком же как у нее случае привезли на тележке гору папок, и приготовилась неделю-другую изучать документы. Но принесли ей всего одну не очень толстую папку.
— И это всё? — удивилась она, растерянно глядя на полную пожилую женщину, положившую перед ней дело.
— Всё.
Лена часа за два пробежала-пролистала дело. Знала бы она, что читает дело своего двоюродного брата. Узнать это ей предстояло через несколько лет. В деле было всё вроде бы логично. Убийство произошло в СИЗО, в камере. Почти все сокамерники, кроме одного и самого обвиняемого, утверждали, что Иван Егоркин был в ссоре с Романом Палубиным. Из-за чего, никто не знал. Ссора была на воле, до ареста. Сам Егоркин утверждал, что они с Палубиным были друзьями, служили вместе в Афганистане. В одном бою были ранены, вместе приехали в Москву, работали на одном заводе, женились, дружили семьями. И никогда не ссорились, делить было нечего.
Ей показалось странным только то, что судья Анна Романовна Чеглакова как-то доверчиво приняла показания сокамерников, ни тени сомнения у нее не возникло в невиновности Егоркина, и наказала она его слишком сурово, правда по совокупности. До убийства она же выносила Егоркину приговор по другому делу, за которое он и оказался в СИЗО, по статье за хулиганство с нанесением телесных повреждений средней тяжести. Защищая жену, он жестоко избил трех хулиганов. Зацепиться, по мнению Лены, было не за что, о чем писать, как выстроить статью? Она стала внимательно вчитываться в каждое слово в документах, но не успела перечитать, читальный зал закрывался. Она отложила дело на завтра.
Вечером позвонила Николаю Петровичу, рассказала о своих сомнениях. Он ещё был на работе.
— Я не думал, что ты прочитаешь дело за один день, — ответил Волков. — Приезжай ко мне на работу. Я тебе познакомлю с кое-какими документами.
Он передал ей копии заявлений в прокуратуру Веника и Бульдога о явке с повинной.
— Прочитаешь дома и поймешь, что писать. Будут вопросы, звони!
На другой день Лена уже по-иному читала протоколы допросов Бульдога — Юрия Сибелина, и Веника — Вениамина Круглова, да и другие документы виделись ей теперь совсем под иным углом.
Через неделю она принесла статью Николаю Петровичу. Он прочитал при ней, одобрил:
— Хорошо! Я чуточку поправлю. Совсем чуть-чуть, стилистически, и отдам в «Московские новости».
— Почему не у вас?
— У нас серьезная государственная газета. Судебные дела мы не трогаем. А тут дела московские… Не волнуйся, напечатают… Ты под своим именем хочешь напечатать, может, псевдоним возьмешь?
— Зачем? — удивилась Лена.
— Дело судебное. И прокуратура затронута, и суд… А они не любят этого. Подумай!
Другого опасался Волков, боялся, что газета со статьей случайно попадет в руки Климанову или Анна Романовна, прочитав, а она непременно прочитает, доброжелатели передадут, пожалуется Сергей Никифоровичу, и тот увидит, что статья написана дочерью друга, и у Лены будут проблемы. А Лена после его слов задумалась, и Волков предложил ей псевдоним.
— Фамилия твоя происходит от птицы…
— Да, я знаю, сарыч — это ястреб.
— Не просто ястреб, а змеелов. Хорошо будет звучать — Елена Змеелов. Как тебе?
— Звучит, — засмеялась Лена. — Подписывайте!
Через неделю статья появилась в либеральной газете «Московские новости». Николай Петрович отправил вырезку из газеты в лагерь на имя подполковника Чернова. А ещё через неделю Захар сообщил ему, что из лагеря поступил сигнал, что Егоркина с вещами отправили в Москву.
Алина и Гришаня
Алина с Гришаней возвращались в автобусе с рынка, где они время от времени подрабатывали. Жили они теперь на первом этаже пятиэтажки в однокомнатной квартире, которую снимали у древней старушки. Её взяла к себе доживать пожилая одинокая дочь. Снимали квартиру за небольшие деньги. Она была запущена, грязна, с пыльными стеклами на окнах без занавесок, с не выветриваемым гнилостным запахом старости и плесени. Стены и потолок душной от теплой сырости ванной комнаты была почти все в черной плесени. И сама ванна, бывшая когда-то белой, теперь была грязно желтоватого цвета, с темными разводами. В прежние времена ни Алина, ни Григорий, выросшие в интеллигентных семьях, которые следили за чистотой, убирали, мыли квартиру, если не сами, то приглашали уборщиц, в прежние времена они ни за что не полезли бы мыться в такую ванну, не задержались бы в такой вони больше пяти минут. Но денег на приличное жилье у них не было, а эта, вонючая, была им по карману. Приехали они снимать квартиру у толстой пожилой дочери старухи под кайфом, когда всё вокруг кажется радужным, запахи притупляются, а грязь не так бросается в глаза.
Алина, почувствовав себя хозяйкой квартиры, попыталась вечером почистить ванну, но застарелая грязь не поддавалась. «И так сойдет!» — решила она и стала набирать воду.
Только утром, когда они проснулись в чужой затхлой постели, свежими глазами оглядели своё первое жилище, ощутили запах, вызывающий тошноту, несмотря на то, что за ночь они немного придышались к нему, оба почувствовали беспокойство за своё будущее, непонятные печаль и тревогу, но дурь быстро прогнала душевное томление, снова стало казаться, что впереди будет всё прекрасно, впереди беззаботная жизнь.
Но деньги кончились, где-то нужно было их брать, и они подались на рынок, стали подрабатывать. Рады были каждой копейке. Они слышали разговоры челночников, слышали об их успешных выездах за границу, когда удавалось хорошо сбыть товар, быстро срубить хорошие бабки, и стали мечтать, обсуждать между собой тур за границу. Выяснили, что раз в неделю с рынка в Турцию ходит автобус с челночниками, можно договориться с водителем, заплатив ему. Но у них не было денег ни на оплату дороги, ни на закупку товара, а сумма нужна значительная, иначе смысла не было кататься в Турцию. Где взять деньги? Это был главный вопрос, который они обсуждали теперь каждый вечер, придумывая разные самые фантастические варианты.
И сейчас, когда они в переполненном автобусе возвращались с рынка, думы у Гришани были о том же: где взять деньги? Стоял он безмолвно в середине автобуса, прижатый пассажирами к Алине. Одной рукой обнимал ее за талию, а другой держался за поручень спинки сиденья, на котором читал распахнутую газету пожилой мужчина в потрепанной кроличьей шапке с вылезшим кое-где мехом. Изредка мужчина что-то негромко говорил сидящей рядом с ним пожилой женщине, видимо, жене. Гришаня не обращал на них внимания, пока не донеслись до него знакомые слова: судья Чеглакова. Он встрепенулся, стал прислушиваться. Мужчина показывал жене газету со статьей, название которой было написано крупно: Пора исправит кривосудие!
Гришаня толкнул рукой в бок Алине. Та взглянула на него. Он указал ей глазами на газету.
— Ты чего? — не поняла Алина.
— Статья, — шепотом ответил ей на ухо Гришаня.
Алина взглянула на газету и дернула плечом.
— И что?
— Потом, потом, — шепнул он ей, вспомнив, что на их остановке есть киоск «Роспечати».
Выйдя из автобуса, Гришаня сразу торопливо направился к киоску, купил «Московские новости», тут же развернул, нашел статью, взглянул на нее и указал Алине.
— Здесь о твоей мамашке!
— Не может быть?
— Дома почитаем.
Пришли, разделись и сразу за газету. Гришаня читал вслух, а Алина охала. Когда закончил, Алина проговорила с убитым видом:
— Её теперь судить будут…
— Вряд ли, — ответил Гришаня. — Судебная ошибка. Умысла нет. Могут выговор дать за халатность.
— Хороша ошибка… Десять лет почти человек потерял…
— Это да, выпустят, компенсацию дадут. А мамашку могут с работы погнать.
— Не выгонят! — уверенно ответил Алина, вспомнив о Климанове.
— Почему?
— Климанов защитит.
— Что за Климанов?
— Большой человек. Второй человек в Верховном совете после Хасбулатова. Председатель Совета республики.
— И что ему за дело до какого-то судьи?
— Он отец Эдика!
— Во как! Мамашка была женой такого человека?
— Женой не была… Он нас в Москву перевез из Тамбова…
— Интересно! Что же ты молчала?
— Я его уже лет семь не видала…
— А-а-а, — вдруг вспомнил Гришаня об аресте Эдика при попытке сбыть украденный у них героин и непонятном его освобождении, даже уголовного дела не завели. Гришаня считал, что мамашка помогла, а тут оказывается за их спиной такая сила. — Это он вызволил Эдика из ментовки!
— Он его оттуда раз десять вытаскивал.
— Может, к нему за деньгами обратиться? — осенило Гришаню. — Я думаю, у него бабками гараж забит.
— Нет, не надо, — покачала головой Алина. — Лучше к матери, пока она в суде работает. Выгонят, бабки кончатся.
— Нам нужна капуста… и не мало…
— У нее есть…
— Откуда?
— Все судьи взятки берут.
— И мамашка?
— Она разве рыжая?
— Она нам не даст. Не поверит после нашего скандала. Мы это уже обсуждали. От нее можно потребовать разменять квартиру, ведь в ней есть и твоя доля. Или пусть выплатить деньги за твою долю.
— Бесполезно. На это она не пойдет.
— Тогда только к Климанову. Это выход!
— Ну да, а как с ним встретиться?
— Позвонить!
— Ага, так он и возьмет трубку. У него теперь семь помощников.
— А ты представься дочерью…
— Нет… Не хочу…
— А тебя что, палкой ударят, представься и всё.
— Может, попробовать? — нерешительно проговорила Алина. — Вдруг получится? Он со мной всегда был ласков, подарки привозил.
— Ну вот, давай действовать! Проси в долг десять кусков капусты. Скажи, прокрутим, вернем до цента.
— Ты говорил, что на первый раз хватит пяти кусков.
— Проси больше. Для него десять кусков, как для нас десять копеек.
— А как мы его телефон узнаем?
— Поехали в Верховный совет. В справочной узнаем.
И они, не откладывая, тут же покатили на Краснопресненскую набережную. В справочной узнали телефон Климанова, и Алина, волнуясь, позвонила в приемную Председателя Совета республики, попросила соединить с Сергеем Никифоровичем.
— Кто его спрашивает? По какому вопросу?
— Алина, дочь… по личному…
— Дочь? — недоверчиво переспросил помощник Климанова. — Алина?
Помощник нажал кнопку аппарата и сказал:
— Сергей Никифорович, вам дочь звонит. Соединить?
— Дочь, — удивился Климанов.
— Говорит, Алина, дочь!
Сергей Никифорович хотел бросить трубку, но услышав имя, вспомнил дочь Анюты и с беспокойством и досадой запнулся на миг и, решая, отключиться или взять трубку, ему представился костлявый ласковый подросток, каким он видел в последний раз Алину, и, делая голос радостным, ответил помощнику:
— А-а, крестница! Алиночка! У меня этих крестников в Тамбове восемнадцать штук. Всех не упомнишь. Соединяй!.. — услышав голос Алины, продолжил говорить таким же благодушным голосом, стараясь не показать, что звонок его не обрадовал. — Здравствуй, Алиночка! Рад тебя слышать. Случилось что? С Эдиком? С мамой?
Он ещё не знал о статье в «Московских новостях».
— Нет, с ними всё в порядке. Я по личному… Сергей Никифорович, мне надо встретиться с вами на минуточку. Всего на минуточку!
— А по телефону?
— По телефону сложно.
— Ты где?
— Я в бюро пропусков Верховного совета. Закажите пропуск.
Он глянул на часы. Через сорок минут ему нужно было быть в банке Долгова. Машина ждет у подъезда.
— Я уезжаю… Я сейчас сам спущусь. Жди меня там.
Он стал неторопливо надевать пальто, думая, зачем он понадобился Алине. Он знал от Анны Романовны, что дочь ее закончила МГИМО и работает в народном суде. Значит, у нее всё должно быть в порядке. Может, работу поменять хочет? Это не сложно. В этом деле он ей поможет. Думая об этом, он направился к лифтам. Спускался в лифте, вспоминал, как радостно встречала его маленькая Алиночка, когда он приезжал в гости к её матери, ведь он всегда привозил ей какую-нибудь забавную игрушку.
Вышел из подъезда, где его ждала служебная машина, кивнул водителю, мол, сейчас поедем, и направился к двери в бюро пропусков. Заглянул туда, окинул взглядом небольшое помещение. У двух окошек толпилось в очереди несколько человек. Алина стояла у стены рядом с телефоном. Климанов кивнул ей, позвал на улицу.
— Ты так худющей и осталась, — сказал он ласково, когда она вышла к нему.
— Сейчас модно так, — улыбнулась она смущенно.
— Я действительно спешу, — взглянул он на часы. — Что у тебя?
— Я не задержу, я быстро, — затараторила Алина. — Мне просто больше не к кому обратиться. Я вспомнила, как вы ко мне ласково относились, и решилась. Простите меня…
— Ладно, ладно, говори, что за проблема?
— Мы с мужем решили бизнесом заняться, съездить в Турцию за товаром, а денег, начать своё дело, нет… Мы отдадим! Заработаем и всё до копеечки вернём!
— Сколько надо?
— Десять тысяч…
Климанов понял, что не рубли она просит. Сумма для него была пустяковая, на раз в ресторан сходить, вспомнил, что в кошельке сейчас восемь тысяч долларов и полез в карман, обратив внимание на растерянный и влюбленный взгляд на него Алины. В голове его невольно мелькнула мысль: «Стара она для меня!». И тут же отметилось, что и подростком она не привлекала его внимания, слишком худа, костлява: он любил девочек покруглее, помягче.
Он вытащил из кошелька пачку долларов и протянул Алине, говоря:
— Здесь восемь тысяч… Как мама?
— Как всегда?
— А Эдик? Не взялся за ум?
— Не знаю. Мы отдельно живём. Спасибо вам, Сергей Никифорович! Мы всё вернем!
— Ладно, ладно, — погладил её по плечу Сергей Никифорович. — Мне ехать пора!
И отправился вдоль здания к машине, ощущая в душе какое-то легкое и благостное чувство, которое давно не испытывал, может быть, с тех тамбовских времен, когда приносил маленькие безделушки пятилетней девчушке Алиночке, которая встречала его на пороге солнечной искренней радостью, искренним смехом. Алина проводила его благодарным взглядом и с жизнерадостной улыбкой побежала в другую сторону, где на лавочке ее ждал Гришаня. Он вскочил, когда она подбежала к нему.
— Я видел! Я всё видел! Силён дед! Сколько? Десять?
— Восемь. Всё отдал. Больше у него не было.
— Ну, теперь заживём! Мы прекрасно заживём, Алиночка! Вот увидишь! Главное, первоначальный капитал!
А Климанов сел в машину и коротко бросил водителю:
— В банк!
Машина тронулась, и в это время раздался телефон мобильной связи системы «Алтай», установленный в машине.
Климанов снял трубку. Звонил Макеев Андрей Алексеевич, бывший тамбовский следователь, которому Климанов лет пятнадцать назад помог перебраться в Москву. Свои преданные люди всегда нужны. Макеев все эти годы работал на Климанова, выполнял личные деликатные поручения. Полгода назад Макеев ушел из органов и открыл кооператив, который выполнял функции сыскного агентства.
— Всё готово, — услышал Сергей Никифорович в трубку. — Когда?
— Подумаю, перезвоню! — с удовлетворением ответил Климанов и положил трубку.
Он зримо представил, как будет ласкать очередную нимфетку на тайной квартире, которую он использовал для сладких утех, почувствовал, как сердце забилось сильнее, глубоко вздохнул и расслабил галстук.
Банк
В банке Долгова было совещание учредителей. Приехали все пятеро друзей. Короткий доклад сделал Председатель банка Виктор Борисович Долгов. Он рассказал о прекрасных финансовых делах, о вновь открытых филиалах банка в крупнейших городах России, но главная новость в его докладе было то, что денег в банке скопилось слишком много, надо во что-то инвестировать. Алюминиевая промышленность уже поделена, да и слишком криминальна она, нефтяную пока государство придерживает, не приватизирует, а золото добывать разрешено.
— Я заинтересовался интересной информацией об открытом ещё в 1961 году крупнейшем в мире месторождении «Сухой Лог» в Иркутской области, — рассказывал Виктор Борисович. — Представляете, открытые запасы там составляют 2,956 тысяч тонн золота и 1,541 тысяч тонн серебра. Это сорок миллионов унций. В мире больше таких зарегистрированных запасов золота и серебра нет. Предприятие при выходе на проектную мощность будет выпускать шестьдесят тонн золота в год в течение 40-50 лет. Выпуск серебра должен в год составить почти двадцать тонн.
— Открыто в 61 году, почему же до сих пор не начата разработка месторождения? — спросил Сергей Никифорович.
— Только потому, что «Сухой Лог» находится от Бодайбо в 137 км., а до ближайшей железнодорожной станции на БАМе Таксимо — 357 км. Туда нужно будет прокладывать дороги, вести линию электропередачи, да к тому же поблизости нет электростанций, которая могла бы обеспечит промышленную добычу золота. Надо строить свою. Большие инвестиции требуются, потому-то и нет охотников вкладывать в дело, хотя лицензия на разработку месторождения сейчас у австралийской фирмы «Star Technology Systems», но она не торопится начинать работу. Может быть, нам взяться? — спросил Виктор Борисович. — Шестьдесят тонн золота в год, это не шутка.
— Прикидывал, каковы потребуются инвестиции? — снова спросил Сергей Никифорович.
— На сегодняшний день в пределах пятисот миллионов баксов.
— А сколько у нас в загашнике?
— Миллионов сто наскрести можно.
— А остальные где возьмем?
— Можно часть взять в Центробанке, скооперироваться с каким-нибудь банком, взять кредит, выпустить акции.
— Золотодобыча, дело хорошее, — сказал Сергей Никифорович. — Но слишком накладных расходов много. Строить электростанцию, дорогу почти в сто пятьдесят километров по тайге, да и по болотам, наверно. Не один год уйдет, прежде пойдет добыча. Можно все деньги расфурычить без толку. Я предлагаю подождать, приглядеться, но повторяю, по-моему, золотодобыча дело заманчивое! А каковы мнения у других акционеров.
— Сергей Никифорович прав, — первым высказался Волков. — Надо подождать!
И Сарычев с Перелыгиным поддержали Климанова.
— Что ж, подождем, присмотримся, — подвел итог заседания Виктор Борисович.
После этого заседания в голове Коли Волка стал зреть план мести процветающему банкиру.
Егоркин
Николай Волков считал, что будет суд, где Ивана Егоркина объявят невиновным, но Ивана в прокуратуре буднично оповестили, что в связи с вновь открывшимися обстоятельствами дело его закрыто, он может быть свободным. Всего ожидал услышать Егоркин, но только не этого. Мечтал он, многими ночами мечтал услышать нечто подобное. Но потом свыкся с тем, что сидеть ему от звонка до звонка. Ошеломленно смотрел Иван на майора, объявившего ему о свободе. Всё не верил услышанному, и вдруг брякнул:
— И всё!
— А что ещё? Новая власть разобралась в твоём деле, арестовала убийц. Ты свободен!
— А как же десять пропавших лет? Кто мне за них ответит?
— Той власти уже нет. Спрашивать не с кого… Вон твои вещички, забирай и ступай?
— Куда?
— Куда хочешь! Свобода. Весь мир перед тобой…
Оглушенный, растерянный выходил Иван на улицу, всё никак не мог прийти в себя, и не сразу заметил улыбающегося Волка у дороги возле машины.
Солнечно было на улице. Морозец. Выпавший утром чистый ещё снежок поблескивал ослепительными искорками на обочине тротуара, на крыше стоявшего возле здания автомобиля. По оживленной улице плотным потоком шли машины, урчали, шуршали шинами по мокрому асфальту. Егоркин стоял у входа в прокуратуру, жмурился на солнце, думал, куда идти, решил ехать к сестре Варюньке, обрадовать. Она тоже будет ошеломлена, увидев его. Последнее письмо от него она, видать, только получила. В нем и намека не было на скорую встречу. Дома ли она? Скорее всего, на работе. И позвонить нельзя. Телефона её у него не было. Новый адрес сестры он знал, писал письма, но ближайшего метро не знал. «До вечера ждать придется… Как до нее добираться?», — с сожалением думал он.
— Егоркин! Жердь! — услышал он знакомый хрипловатый голос.
Иван оглянулся на голос, увидел Колю Волка, с удивлением и радостью шагнул к нему. Волк обнял его жарко, прижал к себе.
— Вот и свиделись!
Иван Егоркин обнимал Волка, а в голове стояло: «Не сон ли это!». Отстранился, окинул взглядом Волка: соболью шапку, изящное пальто, великолепный шарф, новенький галстук.
— Если бы не это, — указал Иван на свою щеку. — Я бы тебя ни за что не узнал.
— Скоро ты и себя не узнаешь, — засмеялся Волк. — Жрать хочешь?
— Не отказался бы.
— Садись, — распахнул Волк заднюю дверь большого черного «Мерседеса», за рулем которого сидел молодой крепкий парень.
— Твоя?
— Моя.
— Я такую впервые вижу.
— Сейчас прокатишься.
Иван, пригнувшись, влез в машину, а Волк сел с другой стороны и коротко бросил водителю.
— В ресторан, — потом обратился к Ивану. — У тебя права есть?
— Откуда права у бедного студента. Иметь машину и в мечтах не было.
— Той страны уже нет, всё по-новому. Ты куда сейчас намеревался?
— Хотел к сестре, но она теперь на работе, а телефона нет. В деревню надо съездить, мать порадовать. Отдохнуть, прийти в себя малость…
— Матери мы сейчас телеграмму дадим, обрадуем…
При этих словах в голове Волка мелькнуло с горечью: «Эх, знал бы ты, Ваня, что мама твоя, моя сестра!». Николай Волков недавно с удивлением узнал, что отец его и матери Ивана Игнат Николаевич Анохин, руководивший строительным трестом в Сибири, живет в Москве, даже был заместителем министра строительства в последнем правительстве Горбачева, сейчас на пенсии. Два сына его имеют в Москве большие фирмы в строительном бизнесе, а третий сын Степан — художник. Выставка картин Степана Анохина недавно была в его галерее. Но знакомиться с братьями и отцом в планы Николая Волкова пока не входило.
В ресторане, заказав обед, Волк протянул Ивану свою визитку. Егоркин с интересом рассматривал её.
— Я читал, что есть какие-то визитки, но ни разу не видел. Вот она оказывается какая, — и прочитал вслух: — Николай Петрович Волков, заместитель главного редактора газеты «Российская жизнь»… Лагерная библиотека выписывает эту газету, я читал статьи Волкова. Это ты писал?
— Нравились?
— Они всем нравились.
— Значит, и те прошлогодние статьи в «Огоньке» Волкова, которыми мы восхищались, были твои? — догадался, смотрел удивленно на Николая Петровича Егоркин.
— Не верится?
— Потрясен. Что же ты молчал?
— Так надо было. А «Московские новости» ты читал?
— Это газета? У нас не было такой.
— Прочитаешь, там статья о тебе.
— Обо мне? Почему?
— Твои сокамерники признались в убийстве Романа Палубина.
— Вот, оказывается, почему меня выпустили… Ты писал?
— Нет, девчушка одна, студентка.
— Кто зарезал Романа?
— Бульдог. По приказу Барсука.
Егоркину явственно представился первый день его пребывания в камере, он будто со стороны увидел, как взлетает вверх для удара пяткой в лоб Бульдога, как тот летит в угол камеры, как седой Барсук поднимается из-за стола, улыбаясь, и направляется к нему, отчетливо услышал быстрый шепот соседа по шконки дяди Степы: «Не унижай, не простит!».
— Из-за меня зарезали? — с горечью спросил он.
— Ты не при чем… Убили Романа за его грешки, ты просто оказался удобным козлом отпущения.
— Теперь и мне есть кому мстить за утраченные годы, — мрачно проговорил Иван.
— Бульдог с Веником в камере. Я уверен, что Бульдог до суда не доживет. Он многим здесь покрепче тебя насолил. Барсук пока на воле. Ты свободен, волен жить, как пожелаешь. Не думал ещё, чем заняться?
— Некогда думать было. Я ещё час назад не знал, что буду на свободе. Не объявляли, куда и зачем везут... Впрочем, у сестры есть вязальный цех, пишет, бандиты досаждают. В охрану к ней пойду.
Официант принес закуску, бутылку шампанского, расставил тарелки на столе, разлил шампанское по бокалам, пожелал приятного аппетита и ушел. Пока он занимался своей работой Волков с Егоркиным без слов наблюдали за ним, а когда он удалился, Волков взял свой бокал и кивнул Ивану.
— Развязал? — спросил Иван, поднимая бокал, легонько стукнул краем бокала о бокал Волкова и стал пить давно забытый покалывающий язык напиток.
— Я давал себе слово, что до знакомства с заклятыми друзьями, ни капли в рот... Новый год вместе встречали, — сделал несколько глотков Волков и отставил бокал в сторону.
— Все живы?
— Процветают… Сколько тебе лет?.. Ты ешь, ешь, — указал рукой на богато уставленный стол закусками. Была на тарелках в основном рыба: осетрина, тонко нарезанные кусочки красной рыбы, в вазочках красная и черная икра.
— Тридцать три, — ответил Егоркин и принялся за еду, усмехнувшись. — Сказал бы кто утром, что я буду обедать за таким столом, убил бы!
— Возраст Христа. Время жить… О сестре не волнуйся, о ней мы позаботимся. Ты нужен мне! У тебя впереди большие дела…
— Где? В газете? — перебил, снова усмехнулся Егоркин. — Я далек от газетного дела.
— Не в газете, а здесь, — протянул ему Николай Петрович другую визитку. — Разве в газете можно на «Мерседес» заработать?
Егоркин прочитал на визитке: Акционерное общество «Марс-Москва». Президент Николай Петрович Волков.
— И чем занимается «Марс»?
— Многим. Начали с поставок компьютеров, а теперь с десяток направлений. Денег много, сотни миллионов, а при такой инфляции на миллиарды счет пошел, следить за поступлениями не успеваю, нужны свои люди с головой! Кому можно доверять…
— Голова-то есть, да в голове того, что нужно тебе нет. Я ничего в твоем деле не понимаю.
— Год назад я тоже не понимал и не думал, что пойму. Наука не сложная, если опираться на специалистов. К тому же я хотел тебе предложить поучиться в «Высшей школе международного бизнеса» при Академии народного хозяйства.
— Международного?
— Ну да!
— Там же языки надо знать, в школе нас учили немецкому, и я в нем ни «бэ» ни «мэ».
— Дело поправимое. Репетиторов сейчас полно. Немецкий — неплохо, но в основном, потребуется английский… У меня теперь не только АО «Марс» есть, но и совместные предприятия «Юпитер» с «Сатурном».
— Всё это, как-то сказочно, звучит. Боюсь проснуться у разбитого корыта.
— Это только начало, — проговорил Волков, доставая ключи из кармана. — От твоей квартиры, — придвинул он ключи по столу к Егоркину.
— Ключи от квартиры, где деньги лежат, — засмеялся Иван, ещё не веря, что всё это реальность.
Он залпом выпил остаток шампанского и потянулся к бутылке, долил сначала начатый бокал Николая Петровича, а потом потихоньку наполнил свой, глядя, как пузырится желтоватая жидкость, и слушал Волкова, который говорил:
— И деньги там лежат, и холодильник набит продуктами. Квартира, правда, однокомнатная, но в центре. Неподалеку отсюда. Водитель отвезет, покажет. Машина твоя тоже ждет тебя, права на днях привезут…
— Зачем они мне, я не знаю с какой стороны садиться за руль, — легкий хмель от долгой трезвой жизни стал быстро заполнять его.
— Инструктор научит. Дня два-три покатаешься с ним по Москве, это не сложно. По себе знаю…
Официант принес шашлык, мягкий, нежный и указал на полупустую бутылку:
— Добавить? Или коньячку? Водочки? У нас хорошая!
— Не надо, спасибо, — ответил Николай Петрович и обратился к Ивану: — Смотри не увлекись, — кивнул он на бутылку. — Не разочаруй! Мне нужна твоя свежая голова. Дел много… Кстати, деньги, как положено, в квартире в тумбочке. Первым делом сейчас же экипируйся. Мотнись в ГУМ, там теперь очередей нет, и всё есть, но всё в УЕ…
— Что за УЕ?
— Условная единица. Игру такую власти придумали, чтоб цены в баксах не писать, придумали УЕ, читай — доллары. В тумбочке, как раз, баксы. Не скупись, покупай костюмы, сорочки, галстуки, туфли, как можно элегантней. Не смотри на цены. Порази сестру не только своим появлением, но и видом, пусть гордится… Завтра с утра я в офисе до десяти часов, потом поеду в газету. Утром приезжай ко мне, обсудим, с чего тебе начинать…
Варюнька
Иван знал из писем сестры, что Варюнька вместе с мужем Колькой Хомяковым во время перестройки открыла кооператив для сбыта продукции фабрики, на которой она работала, а в прошлом году, когда дела у фабрики пошли неважно, и появилась возможность выкупить вязальный цех, она сделала это, и теперь у нее работало почти шестьдесят человек. Появились деньги, и она купила трехкомнатную квартиру неподалеку от метро. На этот адрес Егоркин писал ей письма.
Вечером Иван выбрился старательно и неторопливо, времени было достаточно, переоделся в только что купленную одежду, с непривычки слишком туго затянул галстук, завязать его он попросил в магазине продавщицу, сам он не знал как к нему подступиться, побрызгал лицо, короткие волосы одеколоном и стал разглядывать себя в зеркало. Прав был Волков, не узнавал он себя. Чужой человек глядел на него. Подумалось: «Вот бы встретить сейчас Галю!.. Ахнула бы! Где она теперь? Как живет? С кем?». Развод он дал ей ещё семь лет назад. Галя долго не писала, потом прислала письмо с заявлением в ЗАГС от его имени, что он согласен на развод, и с просьбой подписать это заявление. Он подписал, отправил. Долго потом грустил, вспоминал свадьбу, жизнь с Галей на складе ДЭЗа, свою работу в сборочном цехе. Как давно это было!
Теперь начинается новая жизнь! Какая она будет? Такая ли радужная как ошеломительное начало. Он стал свыкаться с мыслью, что ему предстоит упорная работа под руководством Волка, Николая Петровича Волкова. Почему Волкова? В лагере у него была другая фамилия. Анохин, да-да, Анохин! Такая же как и девичья фамилия его матери. Только теперь ему пришла в голову мысль, что у Волка была такая же фамилия, как у матери. Раньше, как-то он этого не замечал, мало ли Анохиных в России. Даже знаменитый ученый есть, академик, просто однофамилец.
Егоркин знал, что отец матери Игнат Николаевич Анохин родился в Масловке, рано женился и уехал с молодой женой, бабушкой Ивана, на стройку в Москву, там родилась его мать, и тут началась война. Игнат ушел на фронт, а молодая жена погибла в Москве при первой же бомбежке. Младенца, будущую мать Ивана, родственники привезли в Масловку к бабушке, которая вырастила ее. Игнат после войны снова женился и уехал в Сибирь. Оттуда он постоянно помогал деньгами дочери до тех пор, пока она не вышла замуж, но видела она его в последний раз в Масловке, когда была тринадцатилетним подростком. Работал он где-то далеко в Сибири на стройке, дорога дальняя, а у него была большая семья, дети. С тех пор с дочерью он не общался, и она не знала где он, что с ним, жив ли? Может, умер, ведь ему сейчас за семьдесят, считал Иван, и у него никогда не было желания что-либо узнать о своём исчезнувшем в Сибири деде.
Всё это промелькнуло в голове Ивана, когда он стоял у зеркала, и в миг исчезло, оставив легкую грусть. Сегодня он побудет у Варюньки, завтра с утра к Волкову, а вечером на вокзал и — в деревню к матери. Телеграмму ей, что приедет, он отправил сразу после ресторана.
Прежде Егоркин ездил на такси только на своей свадьбе, и сейчас хотел отправиться к Варюньке в метро, но не знал, возле какой станции ее дом, поэтому пришлось взять такси. Оказалось, что жила она в десяти минутах езды от его квартиры.
Волнуясь, с бьющимся сердцем взбегал Иван на третий этаж по лестнице сталинского дома, с нетерпением, почти дрожа, давил на кнопку звонка. Щелкнул замок, дверь открылась, и Иван оцепенел. Перед ним стояла мать. Как она постарела, сгорбилась за эти годы! Она глядела на него, не узнавая, думая, что какой-то красивый мужик в шляпе с большим пакетом в руке ошибся дверью.
— Мама, — прошептал он и шагнул через порог.
И только теперь она узнала его, обморочно повисла на нем, тяжело дыша, слабея с каждой минутой и повторяя, не веря себе.
— Сынок, сынок!
Иван внес ее в коридор, ногой захлопнул дверь, уронил пакет с продуктами на пол и, прижимая к себе вздрагивающую мать, увидел в дальнем конце коридора подростка, который с удивлением, растерянно смотрел на него.
— Я это, мам, я! Вернулся, — говорил он, отпуская мать.
— Ой, что-то я ослабела… ноги не держат… Откуда ты?
— Оттуда, только утром оттуда… — Он увидел стул возле вешалки с одеждой и стал усаживать ее на него, приговаривая: — Сядь, сядь, успокойся. Я теперь никуда не денусь!
Она опустилась на стул, всё ещё обнимая его, прижималась к его животу, словно боялась, что если отпустит, то он снова исчезнет.
— Что же ты не сказался... Мы бы встретили…
— Я сам только утром узнал… Я тебе телеграмму дал в Масловку. Завтра ехать хотел.
— А я тут… у дочурки… На Новый год взяла… До весны теперь тут… — выпустила она его наконец.
— Значит, будем вместе! А это кто такой? — взглянул Иван на подростка. — Неужели племянник? Никита, иди сюда! Не узнаешь дядю? Не помнишь, как мы с тобой играли?
Никита робко, неуверенно подошел к незнакомому мужику. Он знал, что его дядя сидит в тюрьме за убийство и представлял его себе таким же бандюком, какими их показывают в кино. А тут появился какой-то новый русский из кино, в шляпе, с галстуком, в модном пальто, и называет его племянником.
— Где ж ему помнить? — сказала мать. — Он тада ходить ель научился.
— Ну, раз не помнишь, давай заново знакомиться, — обнял его Егоркин. — Дядя Ваня! А где мама-папа?
Ответила за Никиту мать.
— На работе… Я думала это они пришли. Думаю, чего звонят, када ключи есть… Ты раздевайся, сымай пальто, они щас придут.
Иван снял пальто, повесил на вешалку, положил на полку шляпу, поправил галстук. Мать не спускала с него глаз.
— Какой ты, сынок, красивый! Как не свой! Я тебя таким не видала… Варюнька не узнает… — Она тяжело поднялась со стула. — Пошли в зал…
Она пошла из коридора впереди, приговаривая:
— Дожила, дожила… Боялась не доживу… Не таким я тебя увидеть мыслила… А ты порадовал! Ой, как порадовал мать… Чуть от радости в омрак не упала.
Иван шел вслед за ней с тяжелым пакетом в руке.
— Мам, я еды с собой захватил, думал, явлюсь незваным гостем, нечем угостить будет.
— Неси, неси на кухню.
Кухня была просторная, круглый стол под скатертью. Неплохо живет сеструха, молодец! Не потерялась в новой жизни. Он поставил пакет на табуретку и стал выкладывать свертки с едой на стол, бутылку коньяка.
— Ой, зачем же столько? — проговорила мать.
— Нас же пятеро. Всё поедим.
Из коридора донеслось щелканье замка, заскрипела дверь.
— Пришли, — обрадовалась мать, намереваясь идти в коридор, чтоб обрадовать дочь.
— Погоди, мам, — шепнул он весело, задержав мать. — Я сам!
Он быстро вышел в коридор, где Варюнька снимала сапоги, а Колька рядом раздевался. Оба они обернулись к нему и оцепенели, глядя на незнакомого мужика, одетого, как иностранец.
— Кто это? — прошептала Варюнька.
— Во, мам, — обратился весело и шутливо к входившей вслед за ним матерью. — Как зазналась твоя дочь! Бизнес-вумен! Родного брата не признает!
— Ванек! — кинулась к нему Варюнька и чуть не упала, споткнувшись на полуснятом сапоге.
Он подхватил её на руки и закружил. Сапог слетел с ее ноги.
— Зеркало разобьете! — смеялась радостно мать.
Иван опустил сестру на пол, спрашивая:
— Признала теперь?
— Откуда ты?
Егоркин обратился к зятю, сначала пожал ему руку, потом приобнял, говоря весело и шутливо:
— Видишь, у них один вопрос: откуда? Как будто не знают, где я был?
— Разве такими оттуда приходят? — сказала Варюнька. — Мы ждали тебя в грязном ватнике, небритым, вонючим. Отмывать тебя хотели, а ты явился как из загранки, свеженький, пахнет дорогущим одеколоном. И костюмчик от фирмы, небось, не одно сотню баксов отдал.
— Я так и знал, что прикид мой сеструхе не понравится, — радостно шутил, смеялся Иван. — Завтра в ватнике приду. Предварительно в мусорном баке поваляюсь, чтоб сестру запашком удовлетворить.
— Ничуть не изменился, — раздевалась с улыбкой Варюнька. — Такой же болтун!.. А я думаю, чем мне угостить братца-иностранца? Без коньяка, он, должно быть, за стол не сядет, а у нас только ликер. Коля, беги в магазин!
— Не надо никуда бежать, стол накрыт, — веселился Егоркин. — Осталось по тарелкам разложить. Мы уж хотели без вас сесть, коньяк на троих распить, — подмигнул Иван племяннику, который стоял в двери зала и с улыбкой слушал их шутливую перебранку.
— Письмо я от тебя три дня назад получила, там ни слова о скорой встрече не было. Я ещё ответить не успела.
— Ответишь после третьей рюмки.
За столом Иван уже серьезным тоном пересказал все свои приключения и метаморфозы за этот безумный день, рассказал, как познакомился с Волком в лагере, как они там подружились и как он выручил его оттуда. Слушали, как о сказке. Не верилось, что и квартира своя у него сразу появилась. О статье в «Московских новостях» Варюнька с Колькой не слышали. Зять обещал завтра же найти и принести ее.
— Страшно даже, — горестно покачала головой мать. — Что же он за всё это потребует? — сказала она о Волкове. — Даром никто такое не даст.
Подготовка к мести
Гришаня оказался прав. Анну Романовну на работе только пожурили за халатное отношение к давнему делу Егоркина. Она оправдывалась, что, судя по показаниям свидетелей, ни у кого сомнения не возникло, что виновен именно Егоркин. К тому же он всего за неделю до убийства получил срок за злостное хулиганство, и никто не оспорил то решение суда. Но на всякий случай, чтоб, ни у кого не было сомнения, что народный суд отнесся не серьезно к газетной статье, записали выговор судье Чеглаковой, и отписались в газету, что критика услышана, справедливость восторжествовала: невинно осужденный на свободе, а судья наказана.
Гришаня с Алиной съездили в Турцию, закупили там партию кожаных курток и стали предлагать их на рынке в палатки, но оказалось, что точно такие куртки уже были там, поступили от постоянных поставщиков. Продавцы не хотели брать куртки на продажу у случайных челночников, портить сложившиеся отношения. К тому же Алина с Гришаней из-за неопытности на всю сумму закупили партию курток одной модели, а надо бы брать разные по несколько штук. Удалось пристроить на продажу только две куртки, да и то взяли их потому, что отдали они их от отчаяния по той же цене, что и купили. Без всякого навара. Продавец не гарантировал, что сможет продать за месяц хоть одну из них.
Дома даже обычная доза дури не вернула им хорошего настроения, не покидала тоска от неудачи, от пропажи денег.
— Лоханулись мы с тобой, подружка, — грустно вздохнул Гришаня. — О наваре и думать нечего, хоть бы своё вернуть. Хреновые мы спекулянты!
— Может, арендуем свою точку на рынке? — предложила Алина. — Сами продавать будем?
— Я тоже намыливался туда. Павильон под одну куртку снимать западло, хоть бы один стол взять.
Сняли они закуток в три метра в дальнем углу рынка. Редко сюда добирались покупатели, и если удавалось за день хоть одну куртку продать, то это был праздник. Нужно было и за точку платить, и бандитам. К лету распродали почти все куртки, остались две, но из-за них точку держать не стали, себе дороже, да и кому нужны куртки в жару. И деньги к этому времени кончились, растаяли. Больше всего ушло на дурь. Алина с Гришаней уже не думали о возврате восьми кусков баксов Климанову: где их взять, когда нечего жрать. Не обеднеет!
Николаю Волкову докладывали об их неудачах, докладывали какие дела ведет судья Анна Романовна Чеглакова, знал он и о проделках ее сына наркомана Эдика. Волков не удивился, когда узнал, что Эдик сын Климанова.
А банк Долгова за эти месяцы расцвел. Друзья-акционеры подогнали к нему счета знакомых фирмачей, даже два министерства по совету Климанова открыли у него свои счета, да и реклама по телевидению, по радио и в газетах хорошо работала. Не успевали открывать счета новых фирм. Пришлось в Москве открыть два других отделения, по два в Ленинграде и в Свердловске.
Долгов был как никогда счастлив, энергичен, бодр. Говорил друзьям, что наконец-то обрел своё настоящее дело, мол, подозревал и раньше, что рожден банкиром, финансы, именно деньги его дело, но прежняя система не давала заняться любимым делом, а теперь он в своей стихии. В каждом городе откроет отделения банка, всю Россию покроет ими.
Волкову доложили, что Климанов имеет тайную квартиру, куда ему поставляет девочек-подростков Макеев Андрей Алексеевич. Когда ему показали фото Макеева, лицо его показалось Волку знакомым, в памяти тут же возник безликий суетливый человек, который вытирает платком кровь с его лица, с жалостью и сочувствием приговаривая об избивших его сокамерниках:
«Звери! Звери!.. Ты садись, садись… Сейчас мы тебя к врачу… Мигом подпишем бумаги и — к врачу… И из этой камеры уберем… Ох, звери!».
Информация о тайной квартире Климанова ему понравилась.
— Установите в квартире видеокамеры… — приказал Коля Волк. — И не одну. Записывайте всё, следите за всем, что происходит, делайте копии.
Заявление в прокуратуру Славки Зубанова с подробным описанием того, как подставили журналиста Николая Анохина за то, что он пытался разоблачить преступления уваровских руководителей, братки Захара выбили и передали Волку ещё в феврале.
Ивана Егоркина через две недели после освобождения из колонии Волков отправил в Лондон к руководителю одного из своих совместных предприятий, приказав устроить Ивана на трехмесячные курсы по изучению английского языка, а через месяц интенсивного обучения определить Ивана на двухмесячные курсы в школу бизнеса.
Вручая Егоркину билет в Англию, Николай Петрович сказал ему серьезным тоном:
— Надеюсь, ты понимаешь, что от того, как ты проведешь эти три месяца, зависит вся твоя дальнейшая жизнь. Не суетись, не торопись впечатляться лондонскими красотами. Успеешь! Тебе там придётся бывать не раз. Всё увидишь! Работай по восемнадцать часов в день! Не отвлекайся ни на что. Работай, работай!
И Егоркин работал. Разве эту, пусть интенсивную учебу в чужом городе, можно было сравнить с работой на заводском конвейере или на лесоповале в колонии? Через месяц он уже мог поддержать легкую беседу на английском языке, мог спокойно объясняться с продавцами, но на курсах в школе бизнеса сначала он не всё понимал, было множество специальных слов, терминов. Пришлось сосредоточиться на изучении именно таких слов. И через две недели он уже легко мог задавать преподавателю вопросы, без труда улавливал, что говорили ему однокурсеники, свободно делал конспекты в тетрадь. Он записывал лекции на диктофон, потом дома заново прослушивал их, а некоторые фрагменты прокручивал по несколько раз, искал незнакомые слова в словаре.
В конце мая Егоркин вернулся в Москву, и Волков назначил его генеральным директором вновь созданного Товарищества с ограниченной ответственностью «Валючи», учредили который по паспортам двух умерших пенсионеров, и отправил с двумя своими парнями в Амурскую область в поселок Дипкун, который находился в ста семидесяти километрах от Тынды. Добираться по нему нужно было по БАМу. Они должны были приехать туда под видом рыбаков, спуститься пешком километров тридцать вниз по горной речушке Валючи, которая протекает рядом со станцией, и сфотографировать через каждые сто метров ее берега, особенно там, где есть песчаные отмели. Ну и порыбачить, конечно, где можно. В реке водятся форель, таймень, хариус.
Так не спеша готовил Коля Волк почву для мести, не догадываясь, что план его подвергается опасности, всё идет к тому, что с совершенно неожиданной стороны может случиться его разоблачение.
Редактор Кирюшин
Василий Филиппович Кирюшин, бывший редактор Уваровской районной газеты, в которой перед арестом работал Николай Анохин, теперь был на пенсии. Ему перевалило за семьдесят лет, он постарел, сгорбился, увлекся рыбалкой, стал редко бриться, ходил постоянно с седой щетиной на лице.
Однажды в феврале, когда Кирюшин сидел на реке Вороне перед лункой во льду и дергал непрерывно короткое удилище, стараясь привлечь внимание карасей к мормышке, к нему, шурша валенками по твердому снегу, тонким слоем покрывавшим лед, подошел приятель со своим ящиком, висевшим на ремне на плече, такой же пенсионер Володька Сибилев, с которым они приехали сюда на автобусе, поставил ящик на снег возле него, открыл, достал бутылку водки и сел на ящик со вздохом:
— Пора оскоромиться. Нет клёва…
Да, рыба в тот день не шла. Рука устала теребить удочку. Василий Филиппович отложил короткое удилище на лед и достал стакан с закуской из своего ящика. Они выпили, заговорили о политике. Володька спросил:
— Ты слыхал, что Гайдар ляпнул?
— Ты о шоковой терапии? Вся страна уже в шоке, цены за месяц в пять раз взлетели, и останавливаться не собираются.
— Рынок.
— Не рынок, а базар. Вся Россия от голода в базар превратилась. Надо было Ельцину Явлинского ставить, а не этого журналиста.
— Своего собрата критикуешь, — пошутил Володька.
— Нас, журналистов, к власти допускать не дай боже. Мы такое напартачим… Явлинский — экономист, обещал за 500 дней страну поднять… Если не его, так хоты бы Силаева оставили. Хозяйственник опытный…
— Силаев, видать, не устроил, что советский, а Явлинский — горбачевский, новенького захотелось…
Они выпили еще и заговорили о гласности, о том, что теперь не то, что прежде, когда Кирюшин был редактором, тогда всё власть контролировала, а теперь пиши, что хочешь, никто внимания не обращает. Володька вдруг вспомнил о статье в «Московских новостях» об их земляке, и спросил:
— Ты читал в «Московских новостях» статью о парне из деревни Масловки?
— Я этих газет-брехунов уже давно в руки не беру. Тошнит… Чего это они вспомнили о нашем земляке?
— Парня осудили в Москве за убийство, которого он не совершал. Десять лет человек оттрубил ни за что.
— Как его зовут?
— Фамилию его на запомнил… То ли Егорочкин, то ли Ерошкин… А вот фамилию судьи там не раз поминали, запомнилась. Анна Романовна Чеглакова…
— Как-как? — воскликнул Василий Филиппович.
— Анна Романовна Чеглакова, — с удивлением глянул на него Володька. — Знакомая, что ли?
— У нас в Тамбове была такая… Лет двадцать назад.
Ему живо вспомнилось, как он хотел попасть на суд своего заместителя Николая Игнатьевича Анохина, хотел защитить его, мол, не мог Анохин перед свадьбой изнасиловать и убить девчонку, не маньяк он, как пытаются его представить. Но суд был закрытым, и он не сумел попасть на его заседание. Кирюшин надеялся, что судья Анна Романовна Чеглакова разберется и оправдает Анохина, но она приговорила его к смертной казни. Узнав об этом, Василий Филиппович написал письмо Брежневу, чтоб тот остановил беззаконие, невинного человека осудили на смерть.
Но ответа не получил. А потом прошел слух, что Анохина расстреляли. Начальник полиции Сарычев подтвердил это.
А года через три после того в Уварове задержали насильника и убийцу одной девчонки, смерть которой приписали Анохину. Оказалось, это был знакомый ее, одноклассник, по пьянке проговорился, его взяли, он всё и выложил. Осудили убийцу, а про Анохина никто и не вспомнил. Не воскресишь!
И теперь это давнее дело всплыло в памяти Кирюшина, не давало покоя, будто он был причастен к смерти Анохина, мог бы спасти, бить во все колокола, писать в «Правду», в Верховный суд, а он ограничился письмом Брежневу, будто не понимал, что у руководителя страны больше дела нет, что ли, как заниматься судьбой частного человека. Сколько писем на его имя идет, жизни не хватит, чтоб все прочитать. Да и никто не даст ему такие письма, помощников полно.
Кирюшин взял в читальном зале городской библиотеки подшивку газеты «Московские новости», прочитал статью о Егоркине и о судье Анне Романовне Чеглаковой. Не верилось, что в Москве есть судья полная тезка тамбовской. И он позвонил в областной суд, спросил, работает ли у них судья Анна Романовна Чеглакова. Ему ответили, что она уже лет пятнадцать как в Москве. Она, значит! Точно она осудила и Егоркина, и Анохина. И снова непонятная вина стала томить его душу, что делать, как избавится от нее, он не знал. Не спал ночами, думал, вспоминал Николая Анохина, которого уже хотели назначить редактором областной газеты, далеко мог пойти человек, энергичный был, доброжелательный, сердечный, и вдруг такое на него свалилось. Пропал человек зазря!
Василий Филиппович вспомнил свою молодость, вспомнил, что когда-то считали его подающим надежды журналистом, но он рано женился, пошли дети, надо было кормить семью, стало не до развития журналистского таланта. Грустно всё это было вспоминать! Банальная история! Не первый он и не последний, которого жизнь заела! И чтоб хотя бы что-то сделать для памяти своего погибшего сотрудника, хоть как бы облегчить свою совесть Василий Филиппович решил получить в архиве прокуратуры дело Николая Анохина, посмотреть показания свидетелей и самого Анохина, прочитать решение суда, вдруг там можно будет за что-то уцепиться, оправдать невиновного человека, хотя бы после его смерти.
Но прежде чем ехать в Тамбов он написал в «Московские новости» отклик на статью, рассказал, что эта судья Чеглакова осудила на смерть его заместителя замечательного человека Николая Анохина за убийство, которого он не совершал. Настоящего убийцу потом поймали.
Елена
Откликов на статью в газету пришло множество. Подборку наиболее интересных писем собрали и передали Лене, чтобы она проанализировала их и написала по ним статью в рубрику «Отклики читателей». Когда она дошла до письма Василия Филипповича Кирюшина из Уварова, удивилась, обрадовалась, вспомнилось ей, как она в детстве летом купалась в Вороне, когда бывала у бабушки на каникулах, и побежала к матери.
— Мам, смотри, тут письмо из нашего Уварова. Оказывается та судья тоже из Тамбова.
Зина взяла письмо начала читать и вдруг взялась рукой за грудь, придавила сердце.
— Мам, что ты такая бледная! Что с тобой? — удивилась, испугалась Лена.
— Это редактор уваровской газеты пишет…
— Ну да.
— Я знала его…
— А про случай этот не слышала?
Давнее, которое никогда не забывалось, но притухало на время, резко всплыло в памяти, прежней болью отозвалось в сердце. Мигом пронеслись в голове встречи с Колей, сердце ещё сильнее, острее защемило, и чтобы скрыть своё состояние от дочери, она, стараясь казаться невозмутимой, сдержанно проговорила.
— У нас об этом всё Уварово судачило… Ой, дочка, что-то мне дурно... Приступ какой-то… Давление на улице сегодня низкое. Погоду чувствовать стала. Пойду я, прилягу!
Она вернула письмо дочери и ушла в спальню, упала на подушку, уткнулась в нее, чтобы дочь не услышала ее рыданий. Плечи ее беззвучно дергались. Она не видела, что Лена стояла в двери спальни, с тревогой и жалостью смотрела на нее. Подойти к матери, успокоить, она не решилась, почувствовав, что за этим случаем стоит какая-то многолетняя тайна, которую мать бережно хранит ото всех, и вряд ли сейчас решится открыться ей. Она отошла от двери, села читать другие письма. Но письмо Кирюшина не выходило из головы, а перед глазами стояли вздрагивающие плечи матери. Было грустно, тревожно, жалость к матери давила на нее. Хотелось, что-то сделать, чтоб матери стало легче. Но что? Ей вдруг пришло в голову, что надо выпросить у редактора «Московских новостей» командировку в Тамбов по этому письму, взять давнее дело в прокуратуре и попытаться разобраться, что произошло двадцать лет назад ещё до ее рождения.
Она собралась потихоньку, чтоб не тревожить мать, крикнула от двери.
— Мам, я на часок отлучусь!
И не дожидаясь ответа, осторожно, чтобы не хлопнуть, словно в квартире оставался больной человек, прикрыла дверь.
Редактора газеты на месте не было, и Лена заглянула к заведующей отделом писем, рассказала ей о тревожном письме из Уварова от бывшего редактора газеты, что ей хочется съездить в Тамбов, прочитать дела Анохина, поговорить с Кирюшиным. Заведующая пообещала ей организовать командировку, пообещала поговорить с редактором. На другой день ответила Лене по телефону, что редактор ответил, что подумает. Думал он недели две, а потом отказал. Не захотел отправлять в командировку студентку по такому серьезному делу.
Лену закрутили свои студенческие дела за эти дни ожидания, мать не вспоминала о письме, повседневная жизнь встала на привычные рельсы, прежние эмоции от письма и от внезапного приступа матери после его прочтения притухли, размылись, а потом и вовсе ушли из памяти.
Вспомнилось об этом письме только осенью, когда позвонила бабушка, что она в больнице, и мать решила ее навестить, уговорить приехать к ним, перезимовать в Москве, а весной вернуться. Лена вспомнила о неудавшейся командировке и уговорила мать взять ее с собой в Уварово. В архив ей не пробиться без сопроводительных писем, но можно найти в Уварово бывшего редактора газеты Кирюшина и поговорить с ним.
Кирюшин
Василий Филиппович Кирюшин, отправив письмо в газету, в тот же день поехал в Тамбов. Но оказалось не так просто получить судебное дело пусть давнее, пусть суд был в стране, которой уже не было. Нужны разрешения от разных высоких лиц.
Кирюшин стал кататься в Тамбов, как на работу. Каждый день съездить не удавалось, путь не ближний. Четыре часа туда, четыре — обратно. Пользуясь тем, что некоторые сотрудники администрации губернатора области, так теперь назывался Исполком областного Совета народных депутатов, знали его ещё редактором районной газеты, Василий Филиппович организовал письмо из администрации на имя областного прокурора с просьбой предоставить ему дело Николая Анохина. Хотел взять такое же письмо у знакомого редактора областной газеты, которая раньше называлась «Тамбовская правда», а с недавнего времени стала «Тамбовской жизнью», но тот отказался подписать, говоря, что с областным прокурором он не в ладах, и его письмо только отпугнет того, лучше обратиться к либералам. Прокурор с ними в дружбе.
Кирюшин отправился в новую, недавно появившуюся газету «Гласность», объяснил, что неправый советский суд, по его мнению, осудил невиновного человека. Приписали ему изнасилование и убийство девчонки, а потом поймали настоящего убийцу. Редактор «Гласности» с удовольствием подписал его письмо, попросив, если он настрочит статью по тому делу, то пусть непременно сперва покажет ему.
Дело Анохина оказалось тощеньким. Кирюшин знал лично троих свидетелей по делу Анохина. Не знал девчонку с маслозавода, которая после смены возвращалась в общежитие вместе с изнасилованной Валентиной Покровской, не знал и Вячеслава Зубанова. Фамилия знакомая, не сын ли он бывшего председателя Ждановского колхоза? Михаил Семенцов — известный в Уварово пропойца с забавной кличкой — Мишка Выродок, Сын вселенной. Кирюшин хорошо знал его мать, которая много лет работала заместителем председателя райисполкома. Куда-то исчез Мишка в последнее время, давненько не видать его на улице. Васька Ледовских, бывший официант, а до недавнего времени владелец уваровского ресторана, недавно помер. Цирроз печени от постоянной пьянки. И самый известный из свидетелей Юрий Кулешов, в то время он был водителем секретаря райкома партии, а потом вдруг стал завскладом! Всего пятеро, все чётко и складно высказали на суде слово в слово то, что говорили на предварительных допросах.
Василий Филиппович обратил внимания, что начальник Уваровской милиции Сарычев не был приглашен в суд в качестве свидетеля, несмотря на то, что и Семенцов, и Зубанов показали, что девушка покончила с собой, прыгнула с железнодорожного моста на рельсы в то время, когда с ними был Сарычев. «Она что птичка? — подумалось Василию Филипповичу. Он знал, что перила на мосту по плечам высокого человека. — При желании не каждый сможет через них перелезть». А тут девчушка, которую сопровождали три здоровенных мужика, сумела на их глазах перепрыгнуть, будто бы перила были по колено. «Убили девчонку, сволочи! Убили, как ненужного свидетеля!.. Сарычев, именно Сарычев организовал это убийство! — холодом ошунуло Кирюшина. — Теперь он, говорят, аж замминистра МВД. Не достанешь!.. Но зачем, зачем ему это?».
Василий Филиппович начал читать стенографию показаний Анохина в зале суда:
«Анохин: Я — журналист. Работаю в районной газете заместителем редактора… По некоторым фактам я стал догадываться, что на нашей Уваровской трикотажной фабрике что-то нечисто. Я поехал туда, но не к директору, а в цех…
Судья: Это было в день преступления?
Анохин: Нет, недели три назад…
Судья: Какое это имеет отношение к делу? То, что вы журналист, мы знаем, и чем занимаются журналисты, тоже знаем. Переходите к делу, давайте по существу. Вы признаете себя виновным в совершенном преступлении?
Анохин: Нет.
Судья: Ясно… Почему же вы следователю признались в совершенном преступлении?
Анохин: Меня вынудили! Меня били!
Судья: Следователь бил?
Анохин: Нет. В камере!
Судья: В камере били, а следователю вы признались, что изнасиловали и убили двух девушек? Хороша логика!.. Садитесь, суду все ясно!
Анохин: Я не все рассказал!
Судья: Садитесь! У суда к вам вопросов нет. Не мешайте работать!».
Василий Филиппович понял, что судья не дала слова обвиняемому, сразу заткнула ему рот. Он снова перечитал начало выступления на суде Анохина:
«Я — журналист. Работаю в районной газете заместителем редактора… По некоторым фактам я стал догадываться, что на нашей Уваровской трикотажной фабрике что-то нечисто. Я поехал туда, но не к директору, а в цех…». Да, да, помнится, Анохин даже статью написал о непорядках на трикотажной фабрике, но секретарь райкома Долгов не разрешил ее печатать. Стоп! Погоди-ка, ведь Долгов раньше был директором этой трикотажной фабрики. Был, точно! Может быть, это не сплетни были, что начальник милиции Саяпин накопал что-то на фабрике и за это его отравили? А вдруг не сплетни и то, что кто-то из работников фабрики рассказывал, что в ночную смену там изготавливают неучтенные левые товары? Что если действительно Саяпина убили, когда он узнал это? Да, и зам его Ачкасов в те дни по пьянке на мотоцикле попал под машину, за рулём которой был сын председателя Ждановского колхоза Вячеслав Зубанов. Так этот же Вячеслав Зубанов был свидетелем у Анохина? Господи, вот оно что! Один клубок! Вспомнилось, что именно после смерти Ачкасова начальником милиции назначили Сарычева, и с тех пор тихо стало в Уварово, ни одного серьезного преступления. За это он и пошел на повышение сначала в Тамбов, а потом в Москву.
А что там за реплика была у Анохина, когда начал давать показания Михаил Семенцов? Василий Филиппович вернулся к стенограмме показаний Мишки, прочитал:
«Анохин: Неправда! Я лежал в кустах связанный! Это они насиловали, они!
Судья: Что за бред! Успокойтесь, а то попрошу вывести из зала! Вам дадут слово!».
А если Анохин не пытался выкрутиться, а говорил правду? Что тогда? Но зачем, зачем они это делали? Не из-за статьи же его? Помнится, ничего там особенного не было, просто критика, какие-то факты незначительные, он готов её был напечатать, показал Долгову, а тот мягко посоветовал ему отложить статью. Он сначала сам разберется с делами на фабрике. И Кирюшин тогда легко согласился с ним, ведь Долгов был когда-то директором той самой фабрики. Ему виднее!
Из-за статьи не могли так изощренно подставить Анохина, тут что-то другое, и Кирюшин решил поговорить сам со всеми свидетелями этого дела, кроме умершего директора ресторана Ледовских.
Но поговорить с ними ему не удалось. Когда начал их искать, выяснилось, что двое из них арестованы, сидят в Тамбове в СИЗО. Юрка Кулешов — за торговлю наркотиками, а Мишка Семенцов — за убийство своего собутыльника. Отец Зубанова, бывший председатель Ждановского колхоза, на пенсии, со всей семьей переехал в Тамбов, купил там частный дом где-то на окраине города.
И снова Василий Филиппович отправился в Тамбов на поиски Зубанова. Две недели потерял, пока не нашел дом Зубановых, и не выяснил, что бывший председатель умер ещё десять лет назад, а жена его два года спустя. Сын продал дом и уехал в Москву. Опять неудача!
Тогда Кирюшин отправился на трикотажную фабрику. Сначала решил поговорить с директором. За двадцать лет их там поменялось несколько. Нынешний оказался старожилом. Работал там больше двадцати лет. Пришел туда сразу после техникума, когда директором был Долгов, работал мастером, потом начальником цеха, а недавно чуть ли не силком, по его же словам, работники уговорили его стать директором. Ведь только его цех теперь еле-еле работал. Остальные закрылись. Продукция фабрики не выдерживала наплыва китайских и турецких товаров. Они были и дешевле, и симпатичней на вид кофточек и свитеров производства фабрики.
Директор Федор Никитич был хмур, неразговорчив поначалу, но чувствовалось, что с утра он уже принял грамм сто. Кирюшина он знал ещё тогда, когда тот был редактором. Приходилось вместе бывать на районных посиделках. Во встрече не отказал, но принял неохотно, грустно рассказывал о нерадостных делах фабрики. Потом вдруг махнул рукой и полез в холодильник, достал начатую бутылку водки, нарезанную на тарелке колбасу и поставил на стол:
— Эх, остограммишься, и легче на душе становится. Уходят думки о будущем. Не дотяну я, видать, здесь до пенсии. А куда идти работать? Некуда. И уезжать отсюда не хочется. Укоренился. Да и где теперь работу найдешь? Всё закрывается, всё! Пропала Россия! Хоть на рынке палатку открывай!
— Так и открой, — посоветовал Василий Филиппович, — рынок-то теперь у нас каждый день работает. Открой палатку, поставь продавца и торгуй своими кофтами-юбками. Всё копейка будет идти на фабрику.
— А что идея! — одобрил Федор Никитич, наливая водку в небольшие стаканчики. — Жизнь к этому толкает. Раньше за это судили, а теперь спекулируй — не хочу… Ну, давай, выпьем за то, чтоб всё плохое утонуло в болоте!
Он первым выпил водку одним махом и стукнул стаканчиком о стол, берясь за вилку:
— Подумывал я о своей палатке на рынке, но как-то душа не лежала. Начнешь своим товаром торговать, а потом, глядишь, на китайский перейдешь, в Долгова превратишься.
— А чо Долгов, — закусывал неторопливо Кирюшин. — Долгов — человек! Во куда взлетел, — указал Кирюшин вилкой в потолок. — Я слышал, у него теперь свой банк. Банкир!
— Сука он, а не человек! — сказал вдруг резко Федор Никитич. И снова взялся за бутылку. — Обворовал фабрику, распух от денег, падаль! И теперь он банкир! Убил бы!
Они снова выпили, и Кирюшин спросил миролюбиво, как бы защищая Долгова:
— Как он мог обворовать? В СССР был контроль, учет…
— Контроль, учет, — с усмешкой перебил директор. — Он тут себе подпольный цех открыл. Вся ночная смена на него работала, мы подписку давали ему, не болтать. Одна баба сболтнула соседке, глядим — померла скоропостижно. Безжалостной сволочью был твой Долгов!.. Тут твой зам тогда крутиться стал, говорят, статью накарябал, а ты ее не напечатал. Почему?
— Не было в той статье ничего про подпольный цех. Я хорошо помню!
— Почему тогда не напечатал?
— Долгов запретил. Он тогда районом командовал. Газета в его ведении была. Сказал, сам разберется.
— Вот и разобрался! Подставил Анохина, и нету его… Статью надо было печатать, может, и не тронули бы его. Струсил ты, струсил!
— А ты не трусил? Знал всё и молчал. Подписку они дали вору, той подпиской только задницу вытереть!
— Я не молчал, не молчал, — снова взялся за бутылку Фёдор Никитич. — Молодой был, горячий, справедливости хотелось… Я всё в заявлении в милицию описал: откуда сырье идет, как сбывают продукцию, как отчеты подделывают…
— И что?
— Как что? Забыл куда делись начальник милиции Саяпин и его зам Ачкасов? — Федор Никитич поднял стаканчик. — Давай, не чокаясь, помянем невинные души убиенных Саяпина, Ачкасова и Анохина.
Он выпил залпом, крякнул, выдохнул:
— Ох, захорошело!.. — и стал закусывать, продолжив разговор. — Я тогда посчитал, что мое заявление в их руках. Я — следующий! Пришел-то в милицию Сарычев из отдела ОБХСС, он-то с ними был. Все это знали! Я думал, копец мне. Обрез сделал, без него из дома не выходил, в столовой есть боялся, отравят, как Саяпина. Но обошлось как-то, даже начальником цеха поставили. Видать заявление моё к ним в руки не попало.
— Да, тяжкая история! — вздохнул захмелевший Василий Филиппович. — Надо было в Тамбов с твоим заявлением!
— В Тамбов? А кто Тамбовом в то время правил? Кто был секретарем райкома в Уварове, когда Долгов здесь сидел, — указал на своё кресло директор.
— Климанов.
— Вот-вот, дружбан Долгова — Климанов. Ему писать? Он всё про подпольный цех знал, сам вместе с Долговым открывал. Стал бы Долгов секретарем, если не Климанов. Он же его и в Тамбов вытащил, а потом и в Москву вслед за собой.
— Не может быть!
— Как же вы журналюги слепы! Всех зрячих, честных выбили! Не будешь же ты писать обо всем, что услышал? А и напишешь, только прославишь Долгова с Климановым. За такие дела сейчас звезду Героя дают. К кому твоя писулька попадет? К генералу Сарычеву, а он разберется… разберется, не сомневаюсь как. Прежде, чем писать, на кладбище загляни, местечко пригляди… Ох, разбередил ты мне душу! Давай, еще по граммулечке, и в цех пойду. Палатку на рынке открывать буду, тут ты меня убедил…
Долго ещё обдумывал этот разговор Василий Филиппович бессонными ночами. Писать в Москву? Кому? В МВД генералу Сарычеву? В газету? Кто рискнет опубликовать о Председателе Совета Республики. «Сам бы напечатал такую бездоказательную статью? — спрашивал себя Кирюшин. — Нет же, нет! — отвечал себе честно. — Побоялся бы, побоялся!».
Золото
Иван Егоркин вернулся из Амурской области с несколькими отснятыми фотопленками, привез тайменей и хариусов сестре и Волкову, сделал фотографии в фотоателье и выложил их на стол перед Николаем Петровичем. Тот рассматривал их с серьезным видом. Непонятно было, то ли удовлетворен снимками, то ли недоволен.
— О добыче золотишки на этой реке ничего не слышно? Старателей не встречали? — спросил Волков.
— Нет. Тишина… На сорок километров вниз спускались, никто не встретился. Никого нет.
— Будут, — заговорил Николай Петрович, продолжая рассматривать фотографии. — И ты сыграешь в этом главную роль!.. Валючи впадает в реку Унаху, в которой издревле старатели моют золотишко, но промышленным способом там его никогда не добывали. Дороги надо строить. Горы, болота — дорого! Да и выход в граммах на тонну руды не высок. Здесь будет больше… Вернешься с юристом в Тынду, откроешь там офис для своей фирмы «Валючи», оформишь аренду участка тайги в бассейне реки Валючи на тридцать квадратных километров. Я дам тебе карту участка для аренды. Наймешь буровиков и направишь их ставить вышку туда, где я укажу на карте на нашем арендованном участке. Дорогу для перевозки вышки туда надо будет пробивать. Это недалеко, надеюсь, километров десять от поселка Дипкун. Но прежде, ты сам лично, без свидетелей разбросаешь на тех участках реки, где я тебе покажу на фото, десять килограммов золотого песка с небольшими самородками…
— Десять килограммов золота в реку? — воскликнул Егоркин.
— Да-да, в реку, не дальше метра от берега — и в песочек. И не особенно густо. Приблизительно в десяти местах на отмелях. Пока ты будешь оформлять в Тынде свои дела, твои рыболовы начнут мыть разбросанное тобой золотишко, а ты заявишь в милицию поселка, что на арендованном тобой участке моют золото пираты, захватишь с собой вместе с милицией корреспондента местной газеты. Старателей задержат, конфискуют намытое золотишко, а в местной газете появится заметка, что в реке Валючи нашли золото. Пойдет слух, народ из поселка ломанется мыть песок, а тут твои буровики обнаружат залежи золота. Поддерживай шум в газетах, чем больше шума, тем лучше, а сам не светись. Твоя фамилия не должна мелькать в газетах.
— Задача ясна, цель непонятна, — засмеялся Егоркин.
— У меня одна цель, ты ее знаешь.
— Замётано! Когда приступать?
— С завтрашнего дня. И постоянно держи связь со мной. Билеты на самолет получишь у секретарши, а карту и подробную инструкцию завтра у меня.
Егоркин вышел, а Волков продолжил рассматривать фотографии, помечая ручкой, где нужно разбрасывать золотой песок. Раздался зуммер аппарата, вызывала секретарша. Волков нажал кнопку.
— К вам Акимов? — сообщила секретарша.
— Пусть входит.
Акимов следил за квартирой, в которой Климанов забавлялся с девочками. Когда он вошел, Николай Петрович пожал ему руку, спросил коротко:
— Ну?
— Запись принес.
— И что?
— Отвратительное зрелище! Старый козел забавляется с двенадцатилетней девочкой.
— Насилие?
— Видать, Макеев уговорил за деньги. Не сопротивлялась… На другой день с ней же забавлялся ваш главный редактор Перелыгин.
— И он туда же? Господи, что им надо! — не удержался Волков. — Оставь копию!.. Размножьте в пяти экземплярах и в разные сейфы. Никто об этом, кроме нас двоих, не должен знать!
Когда Акимов вышел, Николай Петрович покрутил в руках дискету, пробормотал: «Нелюди!» и спрятал дискету в сейф.
На организацию поисков золота там, где его нет и не может быть, Иван Егоркин получил на счет своей фирмы несколько десятков миллионов рублей с полным карт-бланшем распоряжаться ими по своему усмотрению, и с указанием не жалеть денег на взятки тындинским чиновникам. Вместе с ним в Тынду вылетела большая группа сотрудников. Помимо юриста, были среди них главный бухгалтер, знакомые ему по прежней поездке рыболовы, переквалифицировавшиеся в старателей, мастера по строительству дорог и буровым вышкам. Работать все должны быстро и слажено.
Егоркина больше всего волновала аренда земельного участка в тайге. Ему думалось, «какой дурак решиться отдать в аренду аж тридцать квадратных километров тайги», поэтому он сразу же предложить начальнику отдела Тындинского муниципалитета два миллиона рублей за помощь в оформлении аренды участка. Начальник отдела посмотрел карту участка и подумал про себя с усмешкой: «Какой дурак решил взять в аренду пустое место, где ни леса хорошего нет, ни полезных ископаемых, ни рыбы в промышленных масштабах, а удочкой и сетью он мог в реке и без аренды половить?.. Да ещё и за такие деньги!», но ответил серьёзным тоном, вздохнув для убедительности, мол, не просто будет это сделать:
— Попробую… постараюсь… Как раз начальство всё на месте. Позвоните через недельку!
К удивлению Егоркина через неделю начальник отдела вручил ему все подписанные и утвержденные документы на аренду участка, и он, захватив с собой корреспондента газеты «Тындинская правда», молодого парня, которому пообещал хороший гонорар за репортаж в газете с места задержания незаконных старателей на арендованном участке реки, и отправился в поселок Дипкун. Там уже работали его старатели, мыли золото, в одном из мест, где ещё в первый день приезда Егоркин разбросал десять килограмм золотого песка.
Дорожники к этому времени уже наметили маршрут к тому месту, где надо поставить вышку. Дорога оказалась длиннее десяти километров, как предполагалось по карте. На местности пришлось огибать небольшую гору. Это удлинило дорогу на два километра, зато маршрут проложили по твердой каменистой местности с редколесьем и буреломами без толстых деревьев, которые надо пилить, а потом выкорчевывать. Все деревья можно было легко сдвинуть бульдозерами, которые имелись в поселке.
Егоркин сразу же по приезду подписал два договора с местным строительно-монтажным управлением по строительству подъездной дороги к буровой вышке и по установке туда линии электропередачи. Работы в поселке было мало, и руководство СМУ эти договора приняли как манну небесную, тем более, что Егоркин тут же перечислил им оговоренный аванс, благодаря которому управление смогло выплатить долг по зарплате своим сотрудникам, и бульдозеры на другой же день принялись расчищать тайгу, делать дорогу.
А Егоркин, подписав подготовленные юристом договора со СМУ, тут же отправился с корреспондентом в отделение милиции, показал там свои документы на арендованный участок и написал заявление на незаконную добычу золота частными лицами на его участке, пообещав за поддержку купить милиции новенькие «Жигули». Это сработало!
Утром следующего дня наряд милиции из трех человек, во главе с лейтенантом Митрофановым, корреспондент и Егоркин отправились по берегу реки вниз по течению. Шли, сохраняя молчание, чтоб не спугнуть старателей, пробирались по кустам, по берегу вдоль отмелей. Быстрая горная речушка с коричневой водой негромко плескалась, шумела, перекатываясь через камни. Поблизости в кустах громко щелкал соловей, ему откликался издали другой, а из глубины ярко зеленого майского леса звала, грустно куковала кукушка, изредка умолкала, словно прислушиваясь к чему-то, и начинала снова звать к себе, отовсюду доносилось тонкое посвистывание, негромкое кряканье, щелканье птиц.
Через час увидели палатку на берегу реки и двух мужиков, которые, стоя в воде в сапогах, полоскали мутную воду в больших чашках. Лейтенант Митрофанов, шедший впереди, поднял руку. Все остановились, замерли. Корреспондент стал готовить фотоаппарат. Он издали щелкнул возящихся в воде старателей, а лейтенант шепотом скомандовал милиционерам:
— Сидоренко, бегом к палатке! У них там могут быть ружья, а мы, глянул он на второго милиционера, бросаемся к ним. Пошли!
Милиционеры мигом выскочили из кустов. Егоркин с корреспондентом — следом. Журналист непрерывно, старательно щелкал фотоаппаратом.
— Стоять! — заорал лейтенант на бегу, размахивая пистолетом.
Оба старателя выпрямились, спокойно глядя на подбегающих милиционеров. Они знали, что придет милиция и конфискует намытое золото. Грамм триста золотого песка они привезли с собой.
— Стоим… В чем дело? — спросил старший по возрасту старатель. — Мы ничего не нарушаем. Закон не запрещает мыть золото.
— На свободном участке, это да! А это место арендовано. Вот хозяин! — указал лейтенант на Егоркина.
— Откуда мы знали, что оно арендовано. Где тут указано, покажите, — повел рукой вокруг себя старший старатель.
— В милиции покажем документы, — ответил лейтенант.
К ним быстро подошел Сидоренко, осматривавший палатку.
— Оружия нет, — сказал он, протягивая тяжелый мешочек. — А золотишко есть!
Лейтенант Митрофанов взял мешочек, взвесил на ладони и произнес:
— Тяжеленький… С полкило будет. Придется конфисковать!
— Как это конфисковать? — возмутился старший. — Мы тут неделю корячимся в холодной воде, а вы конфисковать? Как это?
— За неделю полкило золота? Мне бы так жить! — засмеялся лейтенант.
— А кто тебе мешает, иди да мой! — указал на реку старший. — Для этого нужна-то всего копеечная пластмассовая чашка!
— Этот участок арендован! Нечего базарить! Сворачивайтесь! Вы задержаны за незаконную добычу золота на чужом участке. В милиции разберемся.
Новое месторождение золота
Статью о задержании старателей за незаконную добычу золота на реке Валючи рядом с поселком Бипкун, опубликованную в газете «Тындинская правда», Николай Волков переписал, добавил к задержанию старателей, которые за неделю намыли полкило золотого песка, свои сведения о новом месторождении золота, и отослал по факсу Егоркину, чтоб тот показал ее тындинскому корреспонденту, который должен от своего имени послать ее в Москву в газету «Коммерсант».
Потом вызвал из Тынды Ивана Егоркина, поблагодарил его за активную работу в Амурской области и объявил, что переводит его генеральным директором в совместное предприятие, а возглавлять фирму «Валючи» он назначил старичка Фунта.
Вскоре статья была опубликована в «Коммерсанте» — этой самой популярной у бизнесменов газете. Волков читал с улыбкой, что в окрестностях поселка Дипкун, стоявшего на БАМе, в бассейне реки Валючи обнаружено крупное месторождение золота, названное «Валючинским», которое в отличии от крупнейшего в России месторождения «Сухой Лог» в Иркутской области, находится совсем рядом с БАМом, в восьми километрах от железнодорожной станции и поселка Бипкун.
«По исследованиям «ВНИИцветмет», находящегося в Усть-Каменогорске, — читал Волков, — представлено пластообразной залежью, мощность которого колеблется в пределах от девяти метров на флангах месторождения до ста двадцати в его центральной части и в среднем составляет около девятисот метров. Размеры рудного тела по простиранию около двух тысяч метров, по падению тысяча–тысяча двести метров. Выхода на дневную поверхность и естественных границ рудное тело не имеет.
Руды месторождения относятся к золото-сульфидно-кварцевому технологическому типу. Проведенные исследования показали, что большая часть золота ассоциирована с сульфидными минералами, в основном с .
Содержание золота в руде изменяется в интервале 1,5–10 грамм в тонне руды и в среднем составляет 3,4 грамма. На фоне равномерной сульфидной минерализации наблюдаются обогащенные участки, где содержание сульфидов повышается до 1,5–2,0 % и более. Мощность прожилок и других образований пирита находится в пределах от миллиметра до нескольких сантиметров. Содержание золота в пирите колеблется от одного грамма на тонну до нескольких сотен.
Подсчитанные специалистами института запасы составили больше тысячи трехсот тонн золота и около тысячи тонн серебра, которых должно хватить на тридцать лет при ежегодной добыче золота в тридцать-сорок тонн. Близость железнодорожной станции и короткие коммуникации позволяют достаточно быстро построить и запустить золотоизвлекательную фабрику.
Лицензия на разработку месторождения и аренда участка принадлежит тындинской фирме «Валючи», которая уже провела дорогу и линию электропередачи к месторождению и приступила к подготовке нулевого цикла под золотоизвлекательную фабрику. Однако, по нашим сведениям, эта фирма не обладает достаточными ресурсами для такой масштабной работы и вынуждена выставить весь арендованный участок и лицензию на аукцион. Месторождением уже заинтересовались казахстанская и австралийская золотодобывающие фирмы».
Через два дня после публикации статьи Долгов собрал экстренное совещание акционеров. Оказывается, статью в «Коммерсанте» прочитал Сарычев и позвонил Виктору Борисовичу, тот нашел газету, прочитал, загорелся, поручил срочно найти телефон фирмы «Валючи», позвонил директору, и тот подтвердил, что хотел выставить на аукцион участок и лицензию, но казахи предложили ему продать им полностью фирму, мол, не нужно будет переоформлять аренду и лицензию. Директор согласен, осталось согласовать цену с хозяином фирмы, и никакого аукциона не будет. ТОО «Валючи» вместе с месторождением «Валючинский» полностью уйдет казахам. Узнав это Долгов, тут же позвал друзей на совещание и рассказал им о разговоре с директором, спросил совета.
Мнение акционеров было общим: надо попробовать опередить казахов, выкупить фирму. Только Николай Волков уточнил, предложил не надо гнать лошадей без оглядки. Надо срочно послать в Тынду своего человека, пусть он захватит с собой специалиста из московского НИИ, который должен не только ознакомиться с образцами руды на месте, но и непременно захватит с собой в НИИ образцы, сделает анализ на содержание золота. А сотрудник банка пусть отправится на участок, осмотрит проделанную работу и составит подробный отчет.
— Разумное предложение, — одобрил Климанов и порекомендовал. — Сегодня же надо отправить не одного, а двух сотрудников в Тынду вместе со специалистом из НИИ. Тянуть не стоит…
— Надо ещё договориться с НИИ, — ответил Виктор Борисович. — Не надо жалеть денег, если хотим успеть!
Николай Волков не сомневался в результатах анализа, ведь руда в Тынду в офис фирмы «Валючи» была доставлена из месторождения «Сухой Лог».
Отчет командированных в Тынду работников банка о состоянии работ на месторождении «Валючинский» и анализ руды в "Научно-исследовательском институте драгоценных металлов и алмазов», чей научный сотрудник летал в Тынду, превзошли самые лучшие ожидания акционеров банка. Командированные рассказали им, что своими глазами видели, как в реке Валючи моют золото десятки старателей, несмотря на то, что милиция постоянно гоняет их, конфискует намытый песок. Удручало только одно — цена! Оказывается, казахи уже согласовали цену за фирму и месторождение — сто восемьдесят миллионов долларов! И перебить эту цену можно только, повысив ее. Директор фирмы не против того, чтобы отказать казахам, если банк предложит сто девяносто. Договор с казахами ещё не подписан.
— Ну, сто девяносто — это не пятьсот, что нужно для разработки «Сухого Лога», — заговорил Климанов. — Прельщает ещё и то, что железнодорожная станция близко, работы начаты, дорогу, конечно, надо улучшать, асфальтировать… Двенадцать километров не так много…
— И фабрику надо строить… — подсказал Сарычев.
— Фабрику, технику закупать, — размышлял Климанов. — Но это не так дорого и не так долго. Пласт в девять метров до золотоносной руды можно снять быстро. Думаю, следует купить фирму!
— Денег своих у нас не хватит, надо кооперироваться с кем-то или брать кредит, выпускать акции, — сказал Долгов.
Сам он был против кооперации, не хотелось делить с кем-то будущие доходы. А они должны пойти уже через год. Это просто сказочно в таком бизнесе, как золотодобыча.
— Сами справимся, — ответил Сарычев. — Возьмем кредит! Доход пойдет, отдадим.
— Я тоже так считаю, — высказался Виктор Борисович, не дожидаясь мнения остальных акционеров.
— Я согласен, — подал голос Волков.
Климанов с Перелыгином тоже проголосовали за покупку фирмы.
Для выкупа фирмы взяли в Центробанке кредит в пятьдесят миллионов долларов.
Газета «Коммерсант» опубликовала статью о покупке золотоносного месторождения «Валючинский» банком Долгова, и что для завершения этой сделки банк выпустил дополнительный пакет акций, которыми сразу заинтересовались бандиты. Коля Волк посоветовал Захару не толкаться в очереди за акциями, присмотреться, что дальше будет. Через своих людей он довел до сведения Барсука, что у банка будет огромнейший навар, и Барсук вложил в банк двадцать миллионов зеленых из своих личных сбережений и десять из общака. На совещании акционеров Долгов предложил всем пятерым поднапрячься, взять все свои личные сбережения, залезть в долги, но докупить акции, внести деньги, недостающие для завершения сделки. Уговаривать их долго не пришлось, ведь все считали, что навар будет блестящий, они непременно выиграют. Волков первым предложил семь миллионов, даже Перелыгин гарантировал, что возьмет в банке «Столичный» кредит в пять миллионов долларов, с хозяином банка Александром Смоленским он был знаком. Сарычев пообещал наскрести три миллиона, взять в кредит, а Климанов без труда вложил десять.
Удачная сделка
Сделка по покупке фирмы «Валючи» была завершена в течение месяца, о чем было объявлено в газетах, даже был небольшой сюжет в новостях телеканала «Россия». Акции банка на бирже сразу взлетели в несколько раз.
Вырученный деньги за ТОО «Валючи» Николай Волков тут же переправил на свои счет в швейцарский банк, передав в общак пятьдесят миллионов баксов наличными. Такой суммы одним кушем туда ни разу не поступало.
Как раз в эти дни Указом Президента РФ от 14 августа 1992 года в России были введены приватизационные чеки, ваучеры, предназначенные для обмена на акции предприятий. Опубликован был список приватизируемых предприятий.
Николай Волков читал Указ с наслаждением, с улыбкой на лице, его распирало ликование, подумалось, что Ельцин подслушал его обеспокоенность тем, как изъять свои деньги из банка, как выйти из учредителей так, чтоб заклятые друзья его ничего не заподозрили. И вот он подарок президента.
Волков в тот же день встретился с Долговым, энергично с радостным лицом вошел в его кабинет, кинул перед ним на стол газету «Коммерсант» с Указом на первой странице и бодрым голосом спросил:
— Читал?
Виктор Борисович взглянул на заголовок и без всякого воодушевления ответил:
— Нам-то что? Мы все возможности свои исчерпали с «Валючинским», свободных средств ни копейки. Одни долги, а надо ещё фабрику покупать, технику: экскаваторы, бульдозеры, машины, я уже в бюджетные деньги наших клиентов министерств в тайне от них залез, снял со счетов. Не дай Бог, попросят перечислить, а не чем.
— Да, не подумал я, — с сожалением проговорил Волков. — А я уж договорился с «Газпромом», что выкуплю у него хорошенький пакетик акций. Записали в очередь одним из первых. Хотел предложить банку выкупить мои акции…
— Чем? Я же сказал, пусто в хранилище…
— Я готов не по рыночной цене. Сбросить процентов пятнадцать…
— Сколько у тебя процентов акций?
— Девятнадцать с небольшим.
— Представляешь, какая это сумма?
— Бухгалтерия посчитает.
— Считать не стоит. Мы и одного процента сейчас выплатить не сможем, — твердо ответил Виктор Борисович. — Потерпи месяца два-три, может, поступления будут.
— Откуда?
— Трудный вопрос. Может, Бог пошлет от своих щедрот. Поступления от возврата кредитов наших клиентов пойдут в январе.
— До января ещё почти полгода, а мне нужно сейчас. «Газпром» ждать не будет. Придется акции выбрасывать на биржу.
— Ты понимаешь, если такой куш сразу выбросить на рынок, акции упадут. Потерпи недельку, подумаем.
— Договорились, неделю подожду, а потом, извини, не хочу упускать «Газпром»!
— У нас через два года доход по акциям будет выше, чем у «Газпрома».
— У «Газпрома» будет через месяц, а здесь два года ждать. Времена сейчас скоростные, кто знает, что будет через два года. Зюганов станет президентом, и частные банки прикроет.
— Да, не станет он, не станет! Кишка тонка!
— Кто знает? Разве мы могли с тобой подумать три года назад, что СССР гавкнет? Времена не предсказуемые. Решайте, недельку жду, а потом выставляю на рынок. Буду частями, по пять процентов, чтоб обвала акций не допустить.
— Ну, хорошо, хорошо, — тяжко вздохнул Долгов. — Буду искать деньги!
Когда Волков вышел из кабинета, Виктор Борисович поднял внезапно потяжелевшую трубку и набрал номер Климанова.
— Новая проблема, Сергей Никифорович! — грустно произнес Долгов. — С неожиданной стороны!
— Что такое? Я подумал, что ты звонишь по поводу шумного Указа Ельцина. Посоветоваться хочешь.
— Этот Указ мне подлянку и подкинул. Волков выходит из учредителей банка, продает свой пакет акций.
— Что это с ним вдруг?
— Говорит, договорился с «Газпромом», что купит у него акции на всю вырученную сумму за наши. Предложил нам выкупить с дисконтом.
— А ты?
— Банк пустой сейчас, совсем пустой! Одни долги! — нервно вскричал Долгов.
— Долги Долгова, — пошутил Климанов.
— Мне не до шуток! Что делать?
— Пусть продает. Мне он никогда не нравился. Какой-то тревожный человек, не по себе мне рядом с ним, не будем больше его видеть в банке. Акции его размоются среди сотен других акционеров.
— Как бы обвал цен на акции не произошел? Правда, он обещал выбрасывать малыми частями…
— Вот пусть и выбрасывает, — одобрил с некоторым облегчением Климанов.
На другой день Виктор Борисович позвонил Волкову, сказал:
— Выставляй акции на биржу. Мы посоветовались, выкупить твой пакет мы не сможем. Только, как договорились, малыми пакетами выбрасывай, это и тебе выгодно!
Николай Волков распродал все свои акции на бирже за месяц, выручку отправил в швейцарский банк, и снова вложил в общак пятьдесят миллионов зеленых. Через некоторое время вор в законе Захар позвал его к себе, рассказал, что заслуги его оценены на сходке «воров в законе», предложили ему короноваться в «воры» и стать держателем воровской кассы — хранителем общака.
— Предложение лестное! Передай благодарность, но я пока могу приносить братве больше пользы на своём месте. Потом время покажет!
Алина и Гришаня
Гришаня с Алиной кое-как перекантовались лето, расписались в июле без большой свадьбы, посидели в ресторане вчетвером вместе со свидетелями, в долги залезли ещё глубже. Тяжко стало жить, надо как-то выкручиваться. Искали работу, но подходящей не было, а на стройку разнорабочим идти не хотелось. Толклись на рынке, да и там они уже всем приелись, никто в долг не давал, наоборот, при виде их начинал требовать вернуть прежний. Гришаня не раз заговаривал, что надо взять Алинину долю в квартире матери. На Кутузовском проспекте сейчас квартиры золотые, пусть оценит и выплатит им третью часть. Всё по справедливости! Они купят однокомнатную, вернут долги, и на житьё ещё куча зеленых останется.
Алина съездила к матери, предложила выплатить им её долю.
— Забудь! — закричала Анна Романовна. — Кинь своего наркомана, найди нормального человека и живи здесь. Будет нормальный мужик, куплю квартиру. А с этим — через полгода все деньги проссыте, и опять ко мне?
— Ну ладно, ладно, поняла, — успокоила мать Алина. — Чего ты на взводе? Где Эдик?
— В СИЗО…
— За дурь?
— Дилером захотел стать, торговцем, — сердито ответила Анна Романовна. — Взял партию и попался. Героин конфисковали… И теперь бандюки деньги с меня требуют, отдавать и выручать надо… Тоже немалые деньги нужны. А тут ты со своей долей! Работать идите, работать! Вам уже родителей кормить надо, а вы все на моей шее. Ну и детишки у меня выросли!
— Говорят, яблоко от яблони далеко не падает. Каковы родители, таковы и детишки!
— Ну да, разве я вас не холила? Пылинок с вас не сдувала?
— Дедушка с бабушкой с тебе тоже пылинки сдували?
— Ага, мой отец сдует, скорее ремнем вздует! Ремень постоянно у двери висел, напоминал, — усмехнулась Анна Романовна.
— А что же ты у отца не училась, как детей надо холить?
— Считала, чтоб вы без забот росли, да теперь вижу, что просчиталась.
Анна Романовна позвонила Сергею Никифоровичу, рассказала про сына. Тот посоветовал ей договориться с судьей, не жалеть денег, чтоб та выпустила его до суда под домашний арест, а он организует Эдику побег в Англию к своим знакомым. Там его не достанут. Под присмотром он образумится, не дадут ему пропасть.
Судья легко согласилась выпустить Эдика под домашний арест, запросив за это хорошую сумму. Анна Романовна покряхтела, но согласилась. Спасать сына надо. В тот же вечер Коля Волк знал, когда и где Анна Романовна будет передавать деньги судье, и приказал записать на видеокамеру передачу денег.
Суд отправил Эдика под домашний арест, и он сам при встрече с сестрой разболтал ей, что как только сделают ему заграничный паспорт на чужое имя, он тут же улетит в Англию.
— Это же удача! — воскликнул Гришаня, узнав об этом. — Другого шанса у нас не будет никогда!
И он рассказал свой план, как можно завладеть квартирой Анны Романовны, продать ее за кучу капусты и жить припеваючи без забот. Надо просто нанять киллера, чтоб он в тот день, когда Эдик улетит в Англию под чужим именем, задушил мать, они обнаружат вечером труп, вызовут милицию и всё свалят на Эдика. Мол, это он убил и куда-то скрылся.
— Убить мать! — резко возмутилась Алина. — Ни за что! Ты с ума сошел!
— Наследницей всего станешь ты, — убеждал ее Гришаня, — и квартиры, и кучи денег. А если бабок много, то и квартиру продавать не надо, живи да радуйся!
— Нет, нет, нет!
— Ну, смотри, другого шанса не будет…
Предложение мужа не выходило из головы Алины. Сначала она вспоминала его слова с негодованием, надо же до такого додуматься? Убить мать! Но когда мучила ломка, мать вспоминалась с раздражением, с гневом за то, что отказывается помогать им. Всё для Эдика, всё для своего любимчика! И в такие минуты предложение Гришани не казалось ей безумным. Она пыталась искать другой выход, где найти деньги, но не видела его. Хорошо если бы мать сама умерла или машина ее сбила, тогда бы она законно стала наследницей всего накопленного матерью.
День отъезда Эдика близился, и Гришаня во время очередной ломки, а дури не было, обратился к Алине:
— Долго мы так будем мучиться, а? Давай разом решим проблему. И долги отдадим, и будем жить по-человечески.
— Где ты возьмешь киллера?
— На рынке, у знакомых бандюков. У них всё есть…
— Поезжай на рынок, — простонала Алина. — Только без дури не возвращайся.
Киллер нашелся быстро.
Когда Волков узнал, что Гришаня заказал киллеру мать Алины, и что киллер тот из группировки Захара, он позвонил Захару и предложил ему поговорить с киллером, чтоб тот отклонил заказ перед днем назначенного убийства.
Киллер вечером накануне отъезда Эдика в Англию сказал Гришане по телефону, что срочно улетает из Москвы, выполнить заказ не сможет. И Гришаня, и Алина уже свыкшиеся с мыслью, что завтра они станут обладателями квартиры, всех украшений Анны Романовны и ее больших денег, были удручены звонком киллера, подавлены. Искать нового некогда, Эдик завтра улетит и тогда всё, пропал их замысел. Опять нищая жизнь, снова терпеть муки от ломки, снова мотаться по Москве в поисках дури!
— Давай сами, — предложил Гришаня.
— Сами что? — спросила Алина, с ужасом понимая, что имеет в виду муж.
— Придушим.
— Нет, нет, нет! — испуганно воскликнула Алина.
— А что же делать?
На это Алина ничего не ответила.
— Я справлюсь… Ты только ноги подержишь, чтоб не брыкалась!
— Не, я не смогу! Не смогу!
— Там и мочь нечего… Тут же вызовем милицию, скажем, пришли, а она удушена. Эдик задушил и сбежал. Всё просто! Что думать?
— Нет-нет!
— Что ты заладила: нет, нет! Предлагай, что делать!
— Я не знаю…
— Тогда соглашайся. Другого выхода нет. Что киллер задушит, что мы. Со всех сторон лучше: свидетеля не будет и бабки платить не надо. Как бы он нас шантажировать не стал потом. Не отвяжешься… Самим ловчее…
Алина помолчала и хмуро согласилась, несмотря на то, что на душе было смутно, тревожно и тягостно.
Поздно вечером на другой день они сидели на детской площадке, наблюдали за подъездом, ждали, когда, проводив Эдика в Лондон, вернется из аэропорта мать. День был пасмурный, моросил мелкий нудный дождь, стемнело быстро. Дождь не прекращался. Они сидели в полутьме под одним зонтом, укрывались им, когда появлялись редкие торопливые прохожие, которые старались побыстрее скрыться в подъезде от липкого дождя. Гришаня с Алиной боялись, что их узнают знакомые. Пасмурно, хмуро было у них на душе, несмотря на то, что дома они хорошо заправились дурью. Он ещё бодрился, сжимал ее руку, шептал:
— Всё будет отлично, не дрейфь!
На этой детской площадке Алина частенько играла ребенком, вспомнилось, как мать раскачивала ее на качелях, а когда они особенно высоко взлетали вверх, ей становилось жутко. Разве она могла представить себе, что будет сидеть возле этих качелей, ждать мать, чтоб ее убить? Жутко было на душе, жутко! Жизнь, как качели, то вверх, то вниз. Вот и мать появилась. Торопливо вышла из-за угла дома под зонтом и, обходя лужу, быстро направилась к подъезду. Десять часов. Народу никого не видно.
— Пошли! — шепнул Гришаня и в который раз проверил в кармане кусок бельевой веревки.
Вошли в подъезд и поднялись на лестничную площадку третьего этажа незамеченными. Это порадовало Гришаню, а Алина всё надеялась, что кто-нибудь из знакомых встретиться им, и они не тронут мать. Алина позвонила нерешительно. Гришаня спрятался за угол стены, чтоб Анна Романовна не увидела его в дверной глазок.
Дверь открылась. Мать отступила в сторону в коридоре, чтоб впустить дочь, и в это время в квартиру ворвался Гришаня, с ходу ошеломил, сбил с ног Анну Романовну, навалился на нее, выхватил из кармана веревку и начал пытаться накинуть ее на шею Анны Романовне. Она билась под ним, дергалась, крутила головой, не давая накинуть веревку на шею.
— Держи ноги! — крикнул Гришаня оцепеневшей Алине.
Она опомнилась, упала, придавила ноги к полу сопротивляющейся матери, которая успела освободить одну руку и вцепиться ногтями ему в лицо. Гришаня ударил ее кулаком в нос, потом ухватил ее за волосы и стал бить головой об пол, а когда она обмякла, быстро окрутил ее шею веревкой и стал с силой тянуть концы в разные стороны, сдавливая горло. И в это время раздался звонок в дверь. Гришаня в испуге ослабил веревку, взглянул на всё ещё лежавшую на ногах неподвижной матери Алину. Оба они замерли. Дверь открылась. Они в суматохе забыли ее запереть. На пороге стоял Эдик и три сопровождавших его милиционера.
Эдика задержали возле трапа самолета. В следственный отдел поступила запись разговора двух судей и видео передачи денег судье, чтоб она освободила задержанного Эдуарда Чеглакова под домашний арест, и сообщение, что преступник вылетает в Лондон по поддельным документам. После ареста Эдика привезли домой, чтобы сделать обыск.
Милиционеры скрутили Гришаню, который даже не пытался сопротивляться, вызвали «Скорую помощь» и стали приводить в чувство Анну Романовну. Очнулась она ещё до приезда врачей.
Пропавшее золото
Банк Долгова, став хозяином фирмы «Валючи», тут же приступил к освоению «Валючинского» месторождения. Нанял специалистов из московского НИИ, арендовал ещё одну буровую вышку и приступил к работе по определению границы месторождения. В каком месте не поставят вышку, возьмут пробу, нет золота. Перенесли вышку и к тому месту, где впервые оно было обнаружено. И там нет. Тогда Долгов направил специалистов в Усть-Каменогорск во «ВНИИцветмет», который проводил исследование образцов пробы руды и определил в ней высочайшее содержание золота. Там посмотрели документы и подтвердили:
— Да, это наш анализ! Мы храним руду, поставленную нам для исследования.
Принесли из хранилища образцы руды, поступившие из месторождения «Валючинский», сопроводительные документы из ТОО «Валючи». Всё было в порядке.
Руду изъяли по Акту из «ВНИИцветмета» и вместе с новыми образцами руды из месторождения «Валючинский» привезли в Москву для исследования в столичном НИИ. Результаты анализа Усть-Каменогорской руды совпали с анализами «ВНИИцветмета», только та руда никакого отношения не имела к «Валючинскому» месторождению. Московские специалисты определили, что эти образцы соответствуют руде из «Сухого Лога», и пришли к выводу, что руководство ТОО «Валючи» сознательно предоставило на анализ в Усть-Каменогорск руду, добытую в Иркутской области.
Чрезвычайное заседание учредителей банка проходило в нервной возбужденной обстановке. Генерал Сарычев и Перелыгин внесли в банк не только все свои накопленные сбережения, но и взяли кредиты в банке: Сарычев три миллиона, а Перелыгин — пять. Чем отдавать, где взять деньги? Банк банкрот.
Долгов был раздавлен, убит создавшимся положением, понимал, что банкротство неизбежно, рушилось его любимое дело. Будет суд. Надо бежать, бежать! Согревало душу только то, что было куда бежать. Он успел купить в Испании виллу на Средиземноморском побережье да перевести в испанский банк на свой счет, правда, всего-то пару миллиончиков. Понадеялся на большой куш от месторождения. Этого мало, но сегодня же можно было перебросить миллионов тридцать в оффшоры из поступивших бюджетных денег со счета министерства культуры да может завтра что-то ещё поступит в банк. Этим тоже можно будет воспользоваться. И бежать в Испанию!
Более-менее спокойно держался только Климанов. Он не брал в долг деньги для покупки акций да к тому же сегодня перед заседанием он получил приятное известие от Макеева. Две недели назад на общегосударственном мероприятии, в котором он принимал участие, высоким гостям вручали цветы школьники. Ему преподнесла букет девочка лет двенадцати, пухленькая, загорелая, вся сияющая молодостью и красотой. При взгляде на нее Климанова ошунуло, даже руки затрепетали от возбуждения. Он поцеловал её, коснулся губами мягкой нежнейшей щеки. Ночью в постели, лежа рядом с молодой женой, вспоминал прикосновение своими губами к щеке девочки, снова чувствовал волнующее возбуждение от нежнейшей кожи, представлял, как он будет ласкать девочку.
Утром взял у фотографа снимок вручения ему букета и передал Макееву, приказав найти девочку и за любые деньги привезти ее на квартиру для утех. И сегодня утром Макеев позвонил, что нашел девочку и готов с ней договариваться.
— Действуй! — ответил довольный Климанов.
Все эти две недели девочка не выходила у него из головы, и теперь он находился под впечатлением от собственных мечтаний о предстоящей встречи с девочкой. Мечталось, что встреча с ней будет не одноразовой, как обычно, а будет длиться и длиться бесконечно.
Когда Долгов объяснил положение банка, Сарычев выкрикнул гневно:
— Как фамилия директора «Валючи»? Я его живым закопаю!
— Фунт, — ответил Долгов.
— Фунт? — воскликнул удивленно Перелыгин.
— Ты знаком с ним? — быстро повернулся к нему Сарычев.
— Знаком! — горько усмехнулся Перелыгин. — Это подставной директор фирмы Остапа Бендера «Рога и копыта». Кто-то надул нас…
— Служба безопасности банка уже пыталась найти его. Канул. Никто не знает его в Тынде, — угрюмо сообщил Виктор Борисович.
— Фото есть? — нервно и раздраженно спросил Сарычев.
— Только эта. На банкете после подписания сделки, — Долгов бросил на стол перед Сарычевым фотографию.
На ней был изображен в профиль в толпе людей представительный старик с бокалом в руке.
— Седоусая сволочь, — пробормотал Сарычев и кинул фотографию на стол.
Климанов взял, посмотрел, усмехнулся:
— На меня похож!
— А учредители? Кто хозяева? Искали? — наступал грозно Сарычев.
— Учредители — из Подольска, древний старикашка с женой. Он умер за два года до регистрации ТОО, а жена ещё раньше. Все концы обрублены! Что делать?
— Главное, не нервничать, не в таких переделках бывали… — заговорил Климанов.
— В таких не бывали! — вставил Долгов.
— Первое: надо сохранить в тайне как можно дольше, что «Валючинское» месторождение пустышка, — спокойно продолжил Климанов, — второе: надо нам всем с сегодняшнего дня потихоньку спускать акции, пока они в цене; третье: надо сейчас же начинать сверхактивно искать, кому сбагрить, пусть не полностью, а какую-то долю месторождения. И не нервничать, делать вид, что всё идет отлично.
На том и остановились.
Когда все четверо вышли из кабинета в приемную, секретарша оторвалась от чтения газеты и спросила:
— Тут о нас, видели?
Климанов взял у нее газету «Коммерсант», где на первой странице крупно стоял заголовок: В месторождении «Валючинское» золота нет! Он показал заголовок всем. Долгов, молчком, повернулся и, сгорбившись, устало направился в кабинет. Трое учредителей также безмолвно двинулись следом.
— Звони на биржу, спроси цену акций, — хмуро бросил Климанов в кабинете. — Кто-то словно подслушивает нас. Может, жучки?
— Каждый день специалисты проверяют, — ответил Долгов, поднимая трубку.
Оказалось, что на бирже торги акциями банка приостановлены.
Когда разошлись, Долгов тут же приказал перевести все тридцать миллионов долларов бюджетных денег, поступивших для министерства культуры, в свою оффшорную фирму.
В конце дня ему позвонил сердитый Барсук, коротко бросил:
— Жди, еду!
Приехал гневный, злой, кинул на стол перед Долговым газету, спросил:
— Это правда?
— Увы… подставили нас…
— Завтра же вся моя капуста должна быть у меня! — сурово и грозно приказал Барсук.
— Это не реально! Подождите недельку, соберу, верну…
— Двух дней хватит!
— За два дня не получится.
— Учти, я знаю, что банк пустой. И знаю, у тебя есть вилла в Испании, и оффшоры есть. Там поскребешь и вернешь мне всё до цента. Дошло?
— Понял, что ж тут не понимать… Верну… — хмуро ответил Долгов, думая: «В Испании ты меня не достанешь! Руки коротки… А найдешь, улечу на острова, там тоже местечко приготовлено!».
Вечером Климанову позвонил Макеев и рассказал, что поговорил с девчонкой, Света Никишина её зовут. Они ни в какую, дерзкая, чертенок, не уломал.
— Света, Светлячок… — пробормотал Климанов, размышляя, живо увидел в своем воображении, как он целует девочку в щеку, и снова почувствовал те же самые ощущения, что и во время поцелуя. — Именно чертенок мне нравится… Привези! — решившись, приказал он.
— Брать силой!
— Бери!
— Завтра привезу!
В ресторане
Волков вызвал к себе Егоркина, спросил шутливо:
— Привык к руководящей работе?
— Человек ко всему привыкает, — ответил Иван и засмеялся. — Даже Иваном Алексеевичем себя почувствовал!
— Отзываются о тебе хорошо, да и дела у твоего предприятия идут неплохо. Хоть и ошибки есть!
— Учусь…
— Ты мне нужен по важнейшему делу. Очень важному!
— Я готов! Что делать!
— Милиционера избить!
— Какого? Интересно… — засмеялся Иван. — Это мне в радость! Укажи, кто это нам напакостил?
— Любого, — засмеялся в ответ Волков. — Какой под руку подвернется, но не сильно. Ломать ничего не надо. Так чудочко, а потом дать себя скрутить и в кутузку отвезти.
— Чем дальше, тем интересней! А потом?
— А потом я тебя выручу, но за нападение на милиционера будет суд.
— К судам мне не привыкать, два неправедных пережил, а тут за дело. Можно потерпеть. И сколько мне светит?
— Статья 318 уголовного кодекса. Применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Срок до пяти лет.
— Пять лет — не четырнадцать, посидеть можно, а то я слишком привык к служебному «Мерседесу».
— Ладно, ладно, — засмеялся Волков. — Сидеть тебе не придется. Но потерпеть надо. Зато познакомишься с замом министра МВД. Кстати, он был начальником милиции в твоём Уварово.
— Вот это прикол!
— Неужели знаком?
— Не-е, в деревне даже не слышал, кто там у нас милицией правит.
— Ну, вот и познакомишься.
— Когда и где я должен драться с милиционером?
— Поедешь сейчас в ресторан «Натюрлих» на Красной Пресне, надерешься, подерешься. Официант вызовет милицию. А дальше действуй по усмотрению! Ночку придется переночевать в обезьяннике! Адвоката пришлю хорошего!
Иван Егоркин так и сделал. Заказал в ресторане графинчик водочки, ополовинил его, увидев, что официантка несет из кухни поднос с едой, поднялся и пошел, пьяно покачиваясь, ей навстречу. Встретились у стола, за которым сидела пожилые хорошо одетые мужчина с женщиной, Егоркин будто споткнувшись, плечом выбил и рук официантки поднос прямо на ничего не подозревавшего мужчину, облив его костюм рассольником. Тот ошпаренный вскочил, заорал на Егоркина:
— Ты что, гад, делаешь?
— Я — гад? Ты меня гадом назвал, ах, ты козёл! — пьяно ответил Егоркин и шагнул к мужчине, который гневно стряхивал с костюма кусочки рассольника.
Мужчина взмахнул кулаком, пытаясь ударить Ивана, но тот увернулся, поймал его за руку, мигом вывернул ее назад и ткнул мужчину лицом в стол в лужу от рассольника, крича сердито:
— Думаешь, я нарошно! Споткнулся человек! Что, я не имею права споткнуться!
Он орал всякую глупость, что лезла ему в голову. Официантка кинулась к ним, разнимать. Егоркин сильно оттолкнул ее, и она, отскакивая от них задом, наступила на поднос, поскользнулась и упала навзничь.
— Милицию, милицию, вызывайте, убивают! — закричала женщина, которая сидела за столом с мужчиной.
Молодой официант кинулся к телефону. Егоркин отпустил мужчину и заговорил громко, сердито, но миролюбиво.
— Во, сразу милицию! Заплачу я вам за рассольник, и за посуду заплачу, — обратился он к официантке, которая поднялась и отряхивалась. — И тебе заплачу за костюм, — глянул он на мужчину, который вытирал салфеткой лицо. Иван вытащил из бокового кармана кошелек, раскрыл его, вытащил пачку купюр и бросил на стол перед женщиной, выкрикнув: — На, жри!
И покачиваясь, направился к своему столу, налил водки в рюмку, выпил, стоя, и сел закусывать, не обращая ни на кого внимания.
Наряд милиции во главе с молоденьким лейтенантом приехал минут через десять.
— Где дебошир? — спросил лейтенант у официанта.
Тот указал на неторопливо закусывающего Ивана. Лейтенант с двумя милиционерами направились к нему. Взглянув на них, Егоркин пьяно заулыбался, и указал рукой на свободный стул.
— А-а, лейтенантик, садись, садись! Небось, с утра не пимши. Давай, выпьем, — он налил водки в рюмку и протянул лейтенанту.
— Гражданин, успокойтесь! Поднимаемся и едем в отделение, — строго обратился к нему лейтенант, отодвинув в сторону его руку с рюмкой.
— Ну, раз не хочешь, мне больше достанется, — быстро опрокинул рюмку в рот Егоркин.
— Поднимайтесь, едем! — уже сердитей и громче потребовал лейтенант.
— Сейчас откушаю, — поднял Егоркин графинчик за горлышко и показал лейтенанту. — Немного осталось… Потом я отвезу вас… куда скажете!
— Ах, ты наглец! Берите его! — приказал лейтенант милиционерам.
Они подскочили к нему с двух сторон, ухватили под руки, но Егоркин, вскакивая, легко вывернулся и с силой оттолкнул одного милиционера ладонью в лицо. Тот полетел назад, споткнулся о стул и вместе с ним грохнулся на пол. Второй милиционер снова ухватил его за руку и пытался выкрутить назад, но Егоркин опять вырвал руку и схватил милиционера за шиворот мундира. Лейтенант выхватил из кобуры пистолет и заорал:
— Стоять! Нападение на милицию. Стрелять буду!
Егоркин сделал вид, что испугался пули, показал руки, говоря спокойно:
— Стою, стою!
— Наручники! — командовал лейтенант.
Егоркин вытянул перед собой сложенные вместе ладони, и милиционер, который пытался ему вывернуть руку, быстро захлопнул на его руках наручники. Лейтенант дрожащей рукой совал пистолет в кобуру.
— На предохранитель поставь, а то ногу прострелишь и скажешь, что я! — сказал ему с усмешкой Егоркин.
Лейтенант, хмурясь, глянул на свой пистолет и сдвинул рычажок предохранителя. Упавший милиционер подскочил к Ивану и с силой ударил его под дых, но Егоркин успел мигом напрячь пресс. Удар не причинил ему боли.
— Бить зачем? Я же тебя только толкнул, а ты свалился. Пить не надо во время работы…
Сарычев
Милиционеры повели Егоркина к выходу. Один из посетителей ресторана подошел к телефонному аппарату на стене у входа в ресторан, кинул в щель две копейки, набрал номер телефона и коротко бросил в трубку:
— Взяли!
Услышал в ответ.
— Отлично!
И повесил трубку.
А Николай Волков, ответив, стал тут же набирать номер телефона Сарычева.
— Александр Кириллович, добрый день!
— Добрый, добрый, — откликнулся Сарычев.
— А у меня не очень добрый. За тем и звоню. Ты можешь разговаривать?
— Говори, что случилось?
— Гендиректора моего совместного предприятия задержали. Кстати, он твой земляк, тамбовский, из какого-то городишка, из Уварова, кажется.
— Так и я из Уварова. Зина с дочкой как раз там сейчас, два дня назад отправил.
— Это уж совсем земляки!
— За что его?
— Молодой, надрался в ресторане, нахамил, а те милицию вызвали, ему бы успокоиться, а он сопротивляться стал…
— Никого из милиционеров не покалечил?
— Вроде нет… Но статья до пяти лет светит. Он сейчас в Краснопресненском отделении. Егоркин Иван Алексеевич зовут его. Протокол, думаю, ещё не успели составить… Егоркин — человек денежный! Он может всему отделению компьютеры поставить. И ты мог бы с ним встретиться. Земляки всё же! Может, пригодится когда-нибудь… Хороший парень! Зазнался чуток, можно его на место поставить.
Сарычев слушал и думал: «Гендиректор совместного предприятия… Человек денежный… А у меня три лимона капусты висят на шее, отдавать придется, а где взять, каждый день проценты капают… Хороший парень… Земеля! Надо встречаться!». Выслушал и проговорил:
— Землякам помогать надо… Это факт! Как ты говоришь? Егоркин Иван Алексеевич?
— Так.
— Я записал, сейчас позвоню… Ты прав, надо с земляком познакомиться. Скажи ему, что я завтра буду в гостинице «Советская» на Ленинградке. Пусть подъедет к двум часам, встретимся в холле, познакомимся. Я буду в мундире, узнает.
— Спасибо, Александр Кириллович, я в долгу у тебя.
— Время придет, расплатишься!
— Непременно расплачусь!
Ивана Егоркина отпустили в этот же вечер, а утром он встретился с Волковым, который проинструктировал его как себя вести с генералом Сарычевым. В гостиницу Иван приехал за двадцать минут до встречи. Сел в холле в кресло так, чтоб был хороший обзор и входа в гостиницу, и лифта. Сидел, оглядывал потихоньку входивших в здание и выходивших из лифта людей. Вначале было некоторое волнение от ожидаемой встречи с генералом, замминистра МВД, большая шишка, но потом успокоился, принял виноватый вид, как учил его Волков. Генерал появился из лифта в сопровождении двух крепких молодых людей в черных костюмах с синими галстуками. Увидев Сарычева Егоркин поднялся и нерешительным шагом двинулся к нему. Генерал, взглянув на него, быстро кинул что-то парням, те остались стоять неподалеку от входа, а Сарычев быстрым шагом направился к нему.
— Егоркин? — спросил он, подходя и не подавая руки.
Иван виновато и растерянно качнул головой.
— Что же вы так? На вид, человек солидный!
— Бес попутал.
— Говорят, вы из Уварово?
— Из района, из деревни Масловки.
— Слыхал что-то, но никогда не бывал. Дальняя, должно быть?
— Перед Павлодаром.
Егоркин разговаривал всё время с виноватым скорбным видом, отвечал заискивающе, как учил Волк.
— А-а, понятно! Павлодар — большое село… Знаешь, что тебе светит за нападение на милицию? — непроизвольно перешел на «ты» Сарычев.
— Пять… Работы много… Не хочется терять… — промямлил Иван.
— Понятно… За каждый год по лимону зеленых и «ты» свободен.
— Когда, где? Я готов! — радостно встрепенулся Егоркин, а Сарычев с огорчением подумал о себе: «Идиот! Надо было больше называть! Видать, очень денежный человек, надо подружиться». Не удержался, вздохнул.
— Сможешь завтра?
— Сделаю.
— Тишинский рынок знаешь?
— У Белорусского?
— Ну да… Перед ним автостоянка. Встретимся там в девять вечера. Рынок закрывается, народ с сумками разъезжается. Перебросим сумку из багажника в багажник и разъедемся. Сложи в клетчатую, как у торгашей. Я буду в штатском.
— В одну не поместятся!
— Не понял?
— В сумку одну не поместятся.
— Возьми две.
Попрощавшись с генералом, Егоркин тут же позвонил Волкову в редакцию по прямому телефону, сказал коротко:
— Всё отлично. Договорились!
— Позвони мне вечером. Часиков в девять, — ответил Волков и положил трубку.
Он с ответственным секретарем газеты обсуждал следующий номер. Они сидели перед распечатками и обсуждали расположение материалов. Не успел Николай Петрович положить трубку, как в его кабинет с шумом ворвался Акимов, его пыталась задержать секретарша.
— Он занят, занят! — кричала секретарша.
— У меня сверхсрочно, Николай Петрович! — воскликнул Акимов.
Ответственный секретарь взглянул на Волкова и стал собирать со стола распечатки, говоря:
— У меня всё, больше вопросов нет.
Акимов проводил его взглядом и вполголоса испуганно проговорил, вытаскивая из кармана дискету:
— Он убил! Задушил девочку!
Убийство
Волков схватил дискету, вставил в компьютер, включил и стал смотреть, как Макеев вносит в комнату девочку лет тринадцати и кладет на диван. Она, видимо, была без сознания. Макеев кому-то звонит по телефону, говорит коротко:
— Привез… Мы на месте… Жду!
Макеев уходит на кухню, приходит с кружкой с руке и, отхлебнув из нее, брызгает изо рта воду на лицо девочки, потом бьет ее тихонько по щекам. Она открывает глаза, смотрит на Макеева, и вдруг с криком бросается на него. Он отскакивает, защищается, хватает ее за руки, обхватывает сзади руками, тащит к дивану, приговаривая:
— Успокойся, чертенок! Успокойся! Сядь и сиди! Я к тебе не коснусь!
Он прижимает девочку к дивану и отходит от нее. Девочка начинает рыдать, уткнувшись в диван. Макеев уходит на кухню и тут же возвращается с шоколадкой в руке, толкает девочку в плечо, сует ей шоколадку:
— Бери, бери, ешь!
Девочка хватает шоколадку и швыряет в него. Он уворачивается, смеется:
— Ну, чертенок, настоящий чертенок!.. Ладно, сиди, успокаивайся, а я пойду, кофе приготовлю. Есть хочешь, осетринка есть, икра, сделать бутерброд?
Девочка ничего не отвечает, опустив голову, угрюмо сидит на диване.
— Будешь прекрасный торт?
Девочка молчит.
— Ну, ладно, сиди! Сейчас гости будут. Я пойду, стол накрою. А тебя закрою на минутку…
Он вышел, запер за собой дверь в комнату. Услышав щелчок замка, девочка вскочила и подбежала к окну, отдернула шторы. Ручек у фрамуг не было. Девочка оглядела комнату, взяла стул в руки и ножкой ударила в окно. Зазвенело разбитое стекло. Рама была застеклена двойным стеклом, разбилось только одно, внутреннее. Макеев тут же влетел в комнату, вырвал из руки девочки стул, закричал сердито:
— Ты чо творишь! Зачем окно разбила, а? Что я скажу хозяину?
Девочка села на диван и опустила голову. Макеев сел рядом.
— Тут можно прокрутить, — сказал Акимов.
Волков нажал на кнопку быстрой прокрутки. Замелькали кадры сидящих на диване девочки и Макеева, потом появляется в двери Климанов.
Макеев вскочил с дивана. Девочка поднимает голову и смотрит на вошедшего.
— Чертенок, настоящий чертенок, — говорит Макеев. — Вышел на минутку кофе поставить, а она стулом в окно шарахнула.
— Напугал ты ее, наверное, — говорит ласково Климанов. — Видишь, как синичка испуганная сидит!
Девочка вдруг оживляется, восклицает:
— Я вас узнала… Я вам цветы дарила…
— Да-да-да, прекрасный букет! — воркует Климанов. — Он у меня до сих пор на работе стоит. Вот, видишь, мы с тобой старые знакомые! Не бойся ты этого старого дуралея, — смеется ласково Климанов, глядя на Макеева. — Мы его сейчас прогоним. Уходи! — говорит он Макееву. — Мы со Светланчиком кофе попьем, а то я проголодался. А потом я её домой отвезу!
— Тогда я побежал, — говорит Макеев.
— Беги, беги!
Макеев исчезает в коридоре, хлопает дверь. Климанов протягивает руку девочке, которая продолжает сидеть на диване.
— Пошли, перекусим!
— Я не хочу есть… отвезите меня домой!
— Погоди чуть-чуть, я перекушу и поедем.
Он берет девочку за руку и ведет в кухню. Она покорно бредет рядом с ним.
— Тут опять прокрутить можно, — сказал Акимов.
Волков послушно увеличивает скорость просмотра, кадры мелькают. В руке Климанова появляется бутылка шампанского.
— Вот здесь! — быстро проговорил Акимов.
Волков включил нормальную скорость.
На экране Климанов, сидя за столом, наливает шампанское в бокал стоящий перед девочкой, поднимает его, подает ей, говорит ласково:
— Выпей, выпей, тебе хорошо будет! На, попробуй, послаще кока-колы.
Девочка отталкивает руку Климанова, говорит насуплено и сердито:
— Не буду! Я хочу домой!
— Какая же ты упрямая! Просто сил нет с тобой разговаривать! Ты что ласковых слов не понимаешь? Пей, говорю! Это шампанское! А то сейчас коньяк силой в глотку залью, если ты добра не понимаешь! Держи! — сует он девочке бокал.
Она с силой отталкивает его руку с бокалом и вскакивает со стула. Бокал падает на пол и разбивается.
— Не хочешь шампанского, хлебнешь коньяк, — берет он со стола открытую бутылку коньяка и идет к девочке, которая отбегает в угол кухни.
Климанов пытается поймать ее, скрутить, но девочка отчаянно бьется в его объятьях, а тот пытается всунуть ей в рот горлышко бутылки. Коньяк льется на ее лицо. На миг она вырывается из его рук, но он снова хватает ее, она падает на пол и под руку ей попадает разбитый бокал. Она цапает бокал за ножку и втыкает разбитым краем в руку Климанова, который на полу пытается сунуть ей в рот горлышко бутылки. Кровь из руки брызжет на пол.
— Ах, ты, сучонка! — вскрикивает яростно Климанов и вцепляется рукой в горло девочки, она бьется, крутится под ним, хрипит и вдруг замирает.
Климанов поднимается, пьет из бутылки коньяк, берет салфетку со стола и начинает вытирать кровь на своей руке, зажимает рану, смотрит на девочку, толкает ногой. Тело ее безжизненно шевелится.
Резко в тишине кабинета зазвенел телефон прямого провода, потрясенный увиденным Волков даже вздрогнул от неожиданности. Он быстро схватил трубку и бросил:
— Волков!
— Николай Петрович, Акимов у вас? — тревожным голосом быстро спросил у него Александр Мухин, следивший за Климановым вместе с Акимовым.
— Да.
— Видели?
— Смотрим…
— Макеев вошел в квартиру. Что делать?
— Климанов там?
— Нет, он сразу вызвал Макеева и ушел. Давненько уже…
— Срочно звони в милицию, скажи, что в квартире убита девочка. Пусть выезжает наряд. Жди их! Карауль Макеева у подъезда. Мы тоже мчимся. Будем через пять минут. — Волков мигом вскочил, бросил Акимову. — Летим туда!
Он выхватил из своего стола фотоаппарат и бросился из кабинета, Акимов за ним.
Приехали они к подъезду дома, где была квартира для утех Климанова, раньше милиции. Мухин ждал их на лавочке у подъезда.
— Не выходил? — спросил у него Волков.
— Нет, а вот и милиция, — взглянул Мухин на подъезжавший милицейский «Жигуленок», поднялся с лавочки и направился к машине.
— Вы звонили? — спросил у него капитан милиции.
— Я.
— Откуда вы узнали, что там убийство?
— Сначала истошный крик девочки раздался, потом визг, а когда всё стихло, оттуда окровавленный мужик выскочил с шальными глазами, и помчался по лестнице. Дверь не закрыл. Я заглянул, а там на кухне мертвая девочка, и вам позвонил... Когда я спускался по лестнице, чтоб звонить, мне навстречу другой мужик бежит, весь испуганный. Я проследил, он в ту квартиру нырнул. Пока не выходил.
— На каком этаже?
— На девятом.
— А вы кто? — обратился капитан к Волкову и Акимову.
Волков показал удостоверение.
— Ого, даже «Российская жизнь» этим делом заинтересовалась. Хорошо, пошли, будете понятыми, — сказал капитан.
Они вошли в подъезд, вызвали лифт. В полном молчании стояли, ждали, прислушиваясь, как шуршит, поскрипывает, спускаясь, лифт. Открылась дверь. Перед ними в лифте стоял Макеев, оцепеневший при виде милиционеров, в ногах его стояли две клетчатых сумки.
— Это он, он! — воскликнул Мухин, показывая на Макеева. — Он входил в квартиру!
Волков быстро поднес к лицу свой фотоаппарат и щелкнул Макеева в лифте с сумками.
— Гражданин, выходите, выходите! — поманил его капитан. — И сумки не забудьте! — Он сам подхватил одну из них за ручки, вынес на лестничную площадку. — Ух ты, тяжеленькая! Что там у вас? Откройте!
Макеев дрожащими руками медленно расстегнул сумку. Сквозь прозрачный пакет на них глянуло из сумки мертвое лицо девочки.
А Волков щелкал, щелкал фотоаппаратом.
Генерал Можаев
В редакции Николай Петрович сразу зашел в фотолабораторию, отдал пленку на проявку, попросил срочно сделать фотографии.
Из своего кабинета он позвонил заместителю Председателя ФСБ генералу Можаеву. Напросился на срочную встречу по сверхважному государственному делу. Они были знакомы. Месяц назад Волков брал у него интервью для газеты. Можаев сперва предложил встретиться завтра, но Волков объяснил, что дело касается государственной тайны. Завтра может быть поздно.
— Уговорили, — согласился генерал. — Приезжайте прямо сейчас. Заказываю пропуск!
Генерал Можаев встретил его приветливо, был он в штатском костюме с галстуком, вышел из-за стола навстречу, протянул руку. Был он высок ростом, моложав, черняв, с казацким чубом и густыми казацкими усами, которые подчеркивали мужество, силу и волю их обладателя.
Николай Петрович вынул из кейса все дискеты с записями утех Климанова и Перелыгина с подростками, копии заявлений в Прокуратуру Мишки Семенцова, Юрки Кулешова и Славика Зубанова и их показания в суде вместе с приговором и поехал в ФСБ. Там выложил перед генералом Можаевым дискеты, на которых были приклеены листочки с датами записи и действующими лицами, и копии заявлений уваровских друзей.
— Ого, на изучение их полдня уйдет, — улыбнулся генерал.
— Игорь Сергеевич, я знаю, вы человек занятой, я много времени не отниму. Пяти минут хватит. Посмотрите-почитаете на досуге. А сейчас мы только глянем две минутки вот эту… — протянул Волков генералу свежую дискету. — Поставьте, пожалуйста, в компьютер!
Можаев вставил дискету в компьютер, запустил, повернул экран в сторону Волкова, чтоб и ему было видно.
— Прокрутите, начало посмотрите потом.
Генерал нажал кнопку быстрой прокрутки.
— Вот здесь, — остановил его Волков, когда на экране мелькнула бутылка шампанского в руке Климанова.
Они стали смотреть, как Климанов уговаривает девочку выпить шампанское.
— Это Сергей Никифорович Климанов? — с удивлением спросил генерал Можаев.
— Он самый!
Они досмотрели убийство девочки до того момента, как Климанов позвонил Макееву, чтоб тот убрал тело, генерал выключил компьютер и удрученно посмотрел на Волкова.
— Макеева с телом девочки задержали сегодня днем перед моим звонком вам, — сказал Николай Петрович.
Генерал угрюмо смотрел на него, потом запустил руку в густой черный чуб, потер пальцами голову и спросил:
— Где взяли дискеты?
— На дороге нашел.
— Лучше бы вы их сразу в урну выкинули, — вздохнул генерал.
— Любопытство взяло. Журналистская привычка… Посмотрите потом, — глянул Николай Петрович на дискеты. — Там тоже самое, только без убийства. А когда будете читать дела судейские, имейте в виду, что судья Чеглакова любовница Климанова. У них общий сын. Это было ещё в Тамбове, где журналист Анохин попытался остановить Климанова, и получил от судьи смертную казнь. Смотрите, решайте! — поднялся Волков.
— Да, задали Вы нам задачку, — покачал головой генерал Можаев. — Не было проблемы, так подай! — попытался пошутить он, пожимая руку Николаю Петровичу.
Как только Волков вышел, генерал Можаев тут же вызвал своего помощника и приказал срочнейшим образом выяснить полностью биографию Волкова Николая Петровича и узнать судьбу Анохина Николая Игнатьевича, приговоренного к смертной казни и отправленного в Орловскую спецтюрьму из Тамбова на расстрел. Потом позвонил Председателю ФСБ.
— Евгений Аркадьевич, мне сегодня срочно надо с вами встретиться. Большая проблема! Вы до которого часа сегодня на месте?
— В девять освобожусь! Заходи! — ответил Председатель ФСБ.
А Волков вернулся в редакцию и тут же перезвонил Можаеву. Тот сразу взял трубку.
— Смотрите?
— Читаю.
— Игорь Сергеевич, простите меня, я без вашего разрешения записал наш разговор. Копии записей на дискетках в пяти экземплярах в запечатанных конвертах я передал пяти доверенным лицам. Они, если я вдруг скоропостижно скончаюсь или покончу с собой ни с того ни сего, тут же передадут конверты в зарубежные СМИ вместе с записью нашего с вами разговора. Сами понимаете, что за этим последует, и как отразится на вашей судьбе! Решайте судьбу Климанова, а не мою!
— Николай Петрович, что с вами? Те времена ушли. Мы давно уже так не работаем. Будьте спокойны! Уничтожьте вы эти глупые конверты, они вам не пригодятся!
— Хорошо, обещаю! Как только решится судьба Климанова, непременно уничтожу! Кстати, Игорь Сергеевич, не забудьте о Макееве, который арестован с телом девочки. Как бы он не начал болтать!
— Он уже у нас со всеми документами, — ответил Можаев.
Сарычев
Егоркин приехал на автостоянку у Тишинского рынка чуть раньше девяти, отыскал свободное место и въехал потихоньку на него задним ходом. Сидел в машине, ждал, оглядывая въезжающие на стоянку машины. Больше уезжали, чем приезжали. Стемнело. Зажглись фонари. Народ покидал рынок. Большинство было с большими клетчатыми сумками, такими же в каких привез деньги Иван.
На стоянку потихоньку въехал невзрачный «Жигуленок». Егоркин не обратил на него внимания, ожидал, что генерал Сарычев приедет не менее, чем на «Мерсе». Но это был он. Ехал медленно мимо стоявших машин, вглядывался в них. Егоркин с удивлением узнал его и вылез из машины. Сарычев увидел, остановился возле, и тоже выбрался из «Жигуленка», огляделся. Народу на стоянке осталось не так уж много. Никому до них не было дела. Сарычев на этот раз поздоровался с Егоркиным за руку, и они подошли к багажнику машины Ивана. Егоркин открыл, там стояли две клетчатые сумки. Сарычев расстегнул одну. Внутри плотными рядами лежали пачки долларов. Сарычев взял одну, проверил - не кукла ли, потом сунул руку глубоко в сумку мимо ряда пачек, вытащил другую из-под самого низа, провёл-пролистал большим пальцем по торцу пачки.
— Я понимаю, где я буду, если обману. Всё верно! Не переживайте!
Сарычев кивнул одобрительно, вжикнул застежкой, закрыл сумку и подхватил ее за ручки. Егоркин вытащил другую, захлопнул дверцу багажника и понес к «Жигуленку» вслед за Сарычевым. Тот открыл багажник, поставил сумку, помог Ивану бережно установить его сумку в тесном багажнике «Жигуленка», захлопнул крышку и протянул свою визитку Егоркину.
— Звони, если что!
Егоркин взял визитку и боковым зрением увидел подлетающих к ним пятерых мужчин.
— Спокойно! Тихо! — быстро и властно проговорил один из них, видимо, старший и показал удостоверение, представился:
— Полковник Терентьев, ФСБ!
Один из подбежавших начал снимать происходящее на видеокамеру.
— Вы знаете, кто я? — возмутился Сарычев и полез в карман за удостоверением.
— Знаем, знаем, товарищ генерал! Откройте багажник!
Сарычев растерянно медлил.
— Открывайте, открывайте! Ведь знаете, что всё равно откроем.
Сарычев нехотя поднял крышку багажника.
— Что в сумках?
— Вы знаете что…
— Откройте.
Сарычев, волнуясь так, как давно уже не волновался, неспешно расстегнул сумку, показал аккуратные пачки долларов.
— А теперь покажите ручки. Давайте, давайте, не стесняйтесь.
Полковник осветил ультрафиолетовой лампой руки Сарычева, на пальцах его высветились ярко-малиновые пятна. Потом он посветил в сумку. Пачки долларов засветились тем же ярко-малиновым цветом.
— Вопросы есть?
Сарычев молчал, заговорил Егоркин, с улыбкой обращаясь к Сарычеву.
— Это вам привет от Анохина!
— Кто это? — глянул на него недоуменно и убито Сарычев.
— Забыли земляка? Журналиста Николая Анохина, отца вашей дочери.
— Он жив? — ахнул Сарычев.
— А как же, вы часто общались с ним. Два дня назад он обещал вам вернуть свой долг. Считайте, что квиты!
— Волков! — догадался, взвыл Сарычев. — Волков! Змея!
Егоркин засмеялся, а полковник Терентьев приказал своим:
— Берите его! В машину!
Сарычева подхватили под руки и повели к джипу, стоявшему неподалеку. Полковник пожал руку Егоркину, бросил быстро:
— Когда будет надо, вызовем! — И пошел следом за ними.
А два его сотрудника сели в «Жигуленок» генерала.
Председатель ФСБ
В девять часов вечера генерал Можаев показал кругленькому и седому Председателю ФСБ, как Сергей Никифорович Климанов убивает девочку.
— Что будем делать? — спросил Председатель. — После его ареста такой шум поднимется. На весь мир Россия опозорится. Ельцин не даст согласия… Проблема!
— Один мудрый человек говаривал: нет человека — нет проблемы!
— Ты о журналисте?
— О Климанове.
— Куда он денется? Если арест не возможен?
— Туда, куда все мы в свое время уйдем. Вряд ли местечко в раю ему Господь зарезервирует.
— Он здоров, как кот.
— Доверь это мне. Всё будет тихо. Позвони ему, попроси встречи со мной, мол, срочно надо посоветоваться по государственному делу. Позвони домой, — указал генерал Можаев на «вертушку», — если он сможет, я подъеду к нему прямо сейчас. Романов переулок в двух минутах от нас.
Председатель неохотно потянулся к телефону правительственной связи, медленно, неуверенно набрал номер Климанова.
— Сергей Никифорович, добрый вечер! Узнаете?
— Узнал, узнал, Евгений Аркадьевич.
— Сергей Никифорович, мы хотели посоветоваться с вами по государственному делу.
— Я слушаю!
— Не по телефону. Супруга ваша дома?
— На даче.
— Вы один?
— Прислуга задержалась.
— Отправьте ее домой. К вам сейчас минут на десять подскочит мой зам генерал Можаев. Он расскажет вам суть проблемы.
Климанов на некоторое время задумался, вспомнив высокого чубатого красавца заместителя Председателя ФСБ, о нем была молва — ретивый служака, но честный, и хотел перенести встречу на завтра в Верховном Совете, но сегодняшнее приключение не выходило из головы, волновало, потому захотелось узнать, что за проблема возникла у ФСБ, может, при случае они поддержат его, и он ответил:
— Пусть приезжает, я буду один.
— Всё, ждет, — положил трубку Председатель ФСБ, обращаясь к Можаеву. — Можешь ехать... Кстати, для информации, наши ребята только что арестовали за взятку прямо на месте преступления заместителя министра МВД генерала Сарычева.
— Сарычева? — удивленно воскликнул Можаев.
— Что тебе так удивило?
— Я только что читал о его преступных интригах в годы молодости. Ещё тот фрукт.
— Доинтриговался…
Климанов
Климанов встретил генерала ФСБ Можаева дружелюбно, предложил виски. Тот не отказался. Выпили. Можаев обратил внимания на забинтованную руку Сергея Никифоровича и спросил:
— Что это у вас с рукой?
— Ерунда. Порезался, — ответил Климанов и быстро заговорил о другом: — Что у вас за проблема?
— Есть проблема, есть, без вас нам ее не решить, — вздохнул притворно генерал и достал дискету из портфеля. — Давайте посмотрим на компьютере.
Климанов включил компьютер, вставил дискету, непонятное беспокойство стало охватывать его. А когда он сам появился на экране монитора, тревога, доходящая до ужаса, охватила всего. Он пытался не показать своё состояние Можаеву, который немо, потихоньку массировал голову, сунув пальцы в свой кучерявый чуб. Когда досмотрели до конца, Климанов глухо, делая голос недовольным, спросил:
— Кто записывал? Вы? Вам запрещено следить за высокопоставленными лицами. Я четвертый человек по рангу в России.
— Не мы!
— А кто? Кто посмел? — поднял он голову, распрямился.
— Волков. Зам главного газеты «Российская жизнь». Он и передал нам записи.
— Волков!? — воскликнул пораженный Сергей Никифорович и как-то сразу сник, почти шепотом проговорил. — Я всё время чувствовал опасность при встрече с ним! Зачем ему это надо? Зачем?
— Он не Волков. Он давний знакомый ваш по Уварову.
— Уварову? — повторил удивленный Климанов. — Он же с Севера? Причем здесь Уварово? Кто он?
— На Севере он отсидел восемнадцать лет, сменил фамилию и отчество и приехал сюда. Вы его знали как Анохина Николая Игнатьевича, журналиста. Помните такого?
— Так его же расстреляли! — ахнул Климанов.
— Брежнев помиловал… Кстати, Анохин не совершал преступлений. И вы это знали…
— Он двух девок изнасиловал и убил! — возмущенно вскрикнул Климанов.
— Не насиловал и не убивал. Убийца первой девчонки, её одноклассник, признался ещё лет пятнадцать назад. Думаю, уже отсидел своё и теперь на свободе. А вторую девчонку насиловали по приказу генерала Сарычева подонки Михаил Семенцов, Юрий Кулешов и Вячеслав Зубанов. Заявления их о явке с повинной у меня на столе. А убил ее Сарычев… сбросил с моста на рельсы… И вы это знали… — повторил генерал Можаев.
— Я не знал! Я не знал этого!
— Не лгите хоть себе в свой последний час. Да, лично вы убили только несчастного ребенка, а Саяпина, Ачкасова, Поклонскую убивали не вы, по вашему приказу…
— Поклонская? Кто это?
— Та девчонка, изнасилование и убийство которой приписали Анохину.
Климанов умолк на минуту. Он ощущал внутри себя дрожь и одновременно ужас сковывал его, сидел, опустив голову и мял пальцы рук, скрещенные между ног. Потом чуть слышно спросил:
— Что мне делать?
— Выхода два: или суд… представляете какой будет шум в газетах… Учтите, по всему миру, по всему миру! Вы ведь государственный человек! Позор России! Или почетная смерть, почетные похороны. Новодевичье кладбище вряд ли получится, но Кунцевское гарантирую. В компании многих знаменитостей будете лежать.
— Нет, нет, я не хочу умирать! — всхлипнул Климанов, вскидывая голову. — Я государственный человек, а кто такой Волков? Муха! Прихлопните его! Вы всё можете, ведь только он один знает про меня. Нет его, и дела нет!
— Был бы мухой, прихлопнули, но он тигр! Тигр, редкой краснокнижной породы! Тронешь его, сам сгоришь. Он сумел записать разговор со мной, и если с ним что-то случится, то немедленно всплывут во многих местах копии записей ваших дел и запись разговора со мной. Вы всё равно суда не избежите. А я? Скажите, зачем мне слава? Своей работой я доволен. Вы думаете, я приехал к вам по своей воле. Послан…
— Посланник смерти… — пробормотал, перебил Климанов.
— Можно и так сказать. Знаете, как себя назвал Волков-Анохин в разговоре со мной? Карающей десницей Божьей!
Сергей Никифорович уныло усмехнулся.
— И знаете, я с ним согласен. За ваши дела, что я видел своими глазами и слышал своими ушами, вряд ли Господь Бог пожелает встретиться с вами на страшном суде. Если есть загробная жизнь, не мните для себя местечко в раю, ждут вас в другом месте.
— Нет, никакой загробной жизни, черви съедят… И только…
— Может и так… Пришла ваша очередь червей кормить. Первый вариант никому не подходит: ни вам, ни там, — указал генерал пальцем вверх, — ни друзьям, ни родственникам…
— Застрелиться? — снова мрачно ухмыльнулся Климанов.
— Зачем поднимать шум? Самоубийство не подходит. Как бы мы ни скрывали, ушлые журналюги всё равно пронюхают. Вы должны умереть своей смертью! В вашем возрасте, при такой напряженной работе, у людей частенько сердце не выдерживает. Бегал человек, суетился, считал себе большой шишкой, вершителем судеб и вдруг — бац — инфаркт! И пошел вершитель судеб, как вы говорите, на корм червям. Что ж тут поделаешь? Такое нередко случается!
— Позвонить перед смертью можно?
— Последнее желание придется выполнить! Кому? Жене? Друзьям?
— Жена счастлива будет… через неделю после похорон замуж выскочит!
— Приятно с умным человеком разговаривать. Сарычеву не дозвонитесь. В камере телефона нет.
— Уже, — выдохнул Климанов.
— Не знаю, доживет ли он до суда. Анохин-то не только знаменитый журналист в миру, но и большой авторитет в криминале, знают его там как Колю Волка.
— Волчара… — пробормотал Сергей Никифорович и спросил с надеждой. — А что же вы его не берете, раз он авторитет у бандюг?
— За что? Преступлений не совершал и вряд ли совершит, не тот человек. Всё у него по закону. Долларовый мультимиллионер… честно заработал. Мы следим…
— Банк Долгова он разорил?
— Чем? Тем, что продал свои акции, когда они на самом пике были? Значит, нюх у бизнесмена хороший. Кто же вам мешал свои акции продать?..
Не дождавшись ответа, Можаев напомнил.
— Вы, кажется, звонить хотели бывшему банкиру? Набирайте, телефон рядом. Он сейчас на своей машине по Ленинградке в Шереметьево мчится. Даже любимую супругу без денег оставил на произвол судьбы. Удрать хочет в Испанию.
— Откуда вы знаете?
— Мы много чего знаем. Догадываюсь, что до Шереметьева он не доедет. Слишком много врагов, помимо Анохина, нажил.
Сергей Никифорович стал быстро набирать номер телефона Долгова в системе «Алтай». Тот, сидя в машине, быстро поднял трубку, ответил суетливо:
— Сергей Никифорович, я тороплюсь, говори быстрее, что у тебя?
— Ты сейчас катишь в Шереметьево? Удрать хочешь в Испанию?
— Откуда ты знаешь? Даже жена моя не знает!
— Я знаю, кто тебя разорил и подставил? Анохин Николай Игнатьевич! Помнишь журналиста из Уварова?
— Его расстреляли?
— Жив-здоров! Бывший акционер твоего банка…
— Волков! — догадался-воскликнул Долгов. — Не может быть!
— Может, да ещё как может! Сарычев, сученок, нам наплёл о расстреле и сам поверил. А его Брежнев помиловал. Ты знаешь, что Сарычев арестован?
— Как арестован? Он же генерал, зам министра МВД. Кто его мог арестовать?
— В камере он сидит, в камере. Есть мнение, что ты до Шереметьева не доедешь…
При этих словах Климанова, генерал Можаев быстро нажал на рычажок телефона, отключил, говоря сердито:
— Э-э, мы так не договаривались. Смерть намного легче, когда о ней не подозреваешь. Вам ли об этом не знать?
— Если вы знаете, что будет теракт, почему не предупредите Долгова? Почему перед покушением не арестуете киллера?
— Зачем? Пусть змеи поедают друг друга. На земле чище будет. А киллера мы арестуем… после покушения…
Климанов тяжко вздохнул, а Можаев спросил:
— Ещё одно последнее желанье?
— Да!
— Виски?
— Всё-то вы знаете, — устало и обреченно вздохнул Климанов.
— Это можно.
Генерал Можаев взял бутылку виски, налил полстакана, потом достал темнокоричневый пузыречек из кейса, показал его Климанову и, не открывая, сделал вид, будто наливает содержимое пузырька в виски. Делал он это с улыбкой, глядя на Климанова, спрашивал взглядом: «Налить?».
Сергей Никифорович тоскливо оскалился и качнул головой, соглашаясь.
Можаев распечатал пузырек, полностью вылил содержимое в виски и пододвинул стакан по столу к Климанову. Тот неспешно взял его, покрутил в руке, спросил:
— Мгновенно и без боли?
— Инфаркт — болезненная штука, — вздохнул генерал и развел руками, мол, ничем помочь не может. — Простите, потерпеть придётся!
— Что ж… Легкой жизни я просил у Бога — легкой смерти надо бы просить.
С этими словами он быстро выпил виски и протянул стакан Можаеву.
— Налейте чистого, посмаковать напоследок хочется.
Генерал налил и снова пододвинул стакан к Климанову. Тот взял, отпил глоток, и сказал спокойно:
— Хороший виски! Любил я его, цистерну, видать, выпил. — И добавил: — Не забудьте стакан вымыть, а то на экспертизу возьмут…
По нему чувствовалось, что он уже смирился с неизбежной смертью.
— Не волнуйтесь, этот стакан я возьму с собой. В речку выкину, а в другой налью виски, будто вы пили и отключились…
— Предусмотрительный, — усмехнулся Климанов.
— А как же, такие мелочи у нас каждый студент знает.
— Ох, кольнуло, — прижал руку к груди Климанов и быстро допил виски.
— Начинается, потерпите…
В это время раздался телефонный звонок. Климанов потянулся к трубке, но генерал Можаев быстро схватил ее, бросив Сергею Никифоровичу:
— Это должно быть меня.
Можаев молча слушал торопливый голос своего сотрудника, лишь усмехаясь потихоньку про себя, потом положил трубку и обратился с полуулыбкой к Климанову:
— Не доехал ваш дружок-банкир до Шереметьева. Расстреляли из автомата. Водитель и Долгов погибли на месте.
— Анохин? — быстро спросил Климанов, часто дыша, и прижимая ладонь к груди.
— Не его почерк… В банке Долгова многие солидные люди целые состояния потеряли. Чтоб пришить его, думаю, немалая очередь выстроилась. Как узнают, что убили, всю ночь праздновать будут… Вот так, живет человек, богует, считает, что Бога за бороду держит, не догадывается, что смерть его для многих праздником станет.
— А что… Перелыгин… — прошептал Сергей Никифорович.
— До Перелыгина, видать, очередь не дошла.
Климанов вдруг вытянулся в кресле, словно превозмогая боль. Голова его откинулась на подголовник кожаного кресла, потом он как-то обмяк, уронил голову на грудь и, словно умалился, вжался в кресло. Рука его сползла по подлокотнику и безвольно спустилась, скользнула по коже вниз и повисла, замерла.
Утром газеты на первой полосе сообщили, что Председатель Совета Республики Верховного совета России Сергей Никифорович Климанов скоропостижно скончался от инфаркта. На той же странице газеты «Коммерсант» была краткая информация, что «по дороге в аэропорт Шереметьево расстрелян банкир Виктор Борисович Долгов. Киллер арестован, дал показания, что выполнял заказ криминального авторитета по кличке Барсук, который объявлен в розыск». А чуть ниже кратко сообщалось, что арестован за взятку заместитель министра МВД Александр Кириллович Сарычев.
Николай Петрович Волков читал эту информацию почему-то с грустью. Он отомщен, но почему грустно, почему? Может, из-за Перелыгина? Что делать с ним?
Он не знал, что Перелыгин в этот миг сидел в кабинете генерала Можаева, который показывал ему видео с дискеты, где тот забавляется с девочкой-подростком.
Перелыгин тупо смотрел на экран монитора, а генерал Можаев теребил свой чуб, массировал пальцами темя, чтобы унять боль.
— Отключи! — выдавил из себя Перелыгин.
Можаев выключил и с грустью спросил:
— Что прикажешь нам делать, Алексей Андреевич? Срок за совращение малолетних немалый, а тут не один эпизод…
Можаев кивнул на стопку дискет, лежавших перед ним на столе.
— Посмотрим дальше?
— Не надо… — всхлипнул Перелыгин. — Я не насиловал? Вы же видели… по согласию…
— А вы разве не видели сколько лет девочке? Разве не знали, сколько лет дают за совращение малолетних?
Слезы потекли по щекам Перелыгина. Он снова всхлипнул, был похож в этот миг на большого толстого обиженного ребенка.
— Оп-па! — воскликнул Можаев. — Мужчина плачет! Жалкий вы человек…
— Климанов… из-за этого… умер… — всхлипывал Перелыгин.
— Вы разве газет не читали? Инфаркт!
— У него сердце никогда не шалило…
— Может, не жаловался? Человеком он был, в отличие от вас, мужественным. А у вас как с сердцем при такой полноте?
— Пошаливает… одышка…
— Жалко мне почему-то вас, жалко! Денег лишились; друзей, которые тянули вас всю жизнь, лишились; а человек, которого вы считали другом, взяли замом, предоставил нам всё это богатство, — указал Можаев на дискеты.
— Кто?
— Кто-кто, Николай Анохин, — устало ответил Можаев с таким видом, будто ему надоело разговаривать-объяснять Алексею Андреевичу.
— Какой Анохин? — недоуменно с удивлением смотрел на него Перелыгин.
— Я же говорю, друг вашей юности Николай Анохин, которого вы предали! Только не говорите мне, что он расстрелян. Он сидит сейчас в своем кабинете в вашей редакции и с наслаждением читает о смерти Климанова, об убийстве Долгова и об аресте Сарычева и думает, как ловко он отомстил своим недругам, не подкопаешься, и размышляет потихоньку, что делать ему с предателем Перелыгиным.
— Волков — Анохин?
— Надо было давно догадаться! Но вы были ослеплены тем, что он спас вашего сына. Кстати, Олег не ваш сын, а Климанова. Видите, и жена у вас гулящая, да не где-то на стороне, а с другом-покровителем. Да, ладно!.. Это всё в прошлом… А сейчас, сейчас что нам делать с вами? Будь моя воля, я бы немедленно арестовал вас и посадил на много лет, но моё либеральное начальство не одобрит такого решения. Шум, шум им претит! Ну и оставить вас возглавлять главную газету России, зная, что вы растлитель малолетних, не сможет, помня, что в любой момент может всплыть эта запись на свободном телевидении…
— Я сейчас же напишу заявление об увольнении, — воскликнул с надеждой на спасение Перелыгин.
— Пишите, — пододвинул генерал по столу к нему чистый лист бумаги.
Алексей Андреевич схватил ручку и стал быстро писать. Расписался и поставил дату.
— Ну и ладненько! — взял лист, глянул на заявление Можаев. — Завтра у газеты будет новый редактор!
— Волков?
— Нет, я думаю, он не согласится… даже если будут предлагать. Мне кажется, что теперь он тоже уйдет из газеты. Цели своей он почти достиг. Почти! Я не могу представить, как он отомстит вам. Посмотрим, посмотрим!.. Умирать вам, когда вы потеряли всё, буквально всё, будет не сладко. Нельзя сказать о вас, что вы уходите в мир иной насыщенный жизнью, деньгами и славой. Имейте в виду, любитель девочек, что вы теперь вольный человек, попадетесь снова с подростками, сядете, как педофил, и никто этого не заметит… Можете быть свободным. Прощайте!
Генерал Можаев не протянул ему руки, отвернулся, выдвинул ящик и положил в него заявление Перелыгина, который, сгорбившись, побрел к выходу из кабинета. Он чувствовал себя раздавленным, размозженным, отяжелевшим, еле ноги поднимались. Особенно ошеломило его то, что Олежек, которого он мнил своей кровиночкой, наследником, продолжателем рода Перелыгиных, не его сын. Выходит и Любаша, и Сергей Никифорович многие годы насмехались над ним, посмеивались за его спиной над его лопоухостью, а может быть, даже считали, что он знает об их отношениях и по подлости своей души делает вид, что не догадывается. Червяк он, червяк!
В редакции Пререлыгин сразу направился в кабинет Волкова. Брел по коридору, никого не видя, не отвечая на приветствия. Сотрудники, встречавшиеся на его пути, с недоумением провожали его взглядом. Что с ним? Болен? Алексей Андреевич даже не взглянул на секретаршу Волкова, открыл дверь в его кабинет и с подавленным виноватым взглядом, как щеночек к волкодаву, зашаркал к нему. Николай Петрович, увидев Перелыгина, сразу понял его состояние, поднялся, показал рукой заведующей отделом писем, с которой обсуждал, как ответит на важное письмо, чтобы она покинула кабинет, и вышел из-за стола навстречу Перелыгину. Заведующая отделом посмотрела недоуменно и испуганно на главного редактора, проскочила мимо него, он не взглянул на нее, и выскользнула в приемную.
— Что с ним? — озадаченно спросила она у секретарши.
Та с недоумением пожала плечами;
— Он меня даже не заметил.
— Ой, Господи, что-то будет? — Заведующая приникла ухом к двери, замерла.
— Что там?
— Т-ш-ш! Прощения просит.
А Перелыгин в кабинете подтащился к Волкову, упал перед ним на колени, обхватил его ноги и забормотал:
— Коля, Коля, прости, если можешь! Предал, предал я тебя. Трус я! Слаб, испугался! Прости! Я — нищ, я — семью обездолил. Из газеты я ухожу, ухожу. Заявление уже подал…
Волков осторожно высвободился из рук Алексея Андреевича и вернулся в свое кресло за стол, а Перелыгин продолжал стоять на коленях, опустив голову, словно ожидая удара.
— Встань, — сказал ему Волков. — Ты никого не убивал, я знаю. Да, ты струсил… Да… тебе хотелось стать главным… Но не думаю, что ты обрел счастье, предав друга. — Николай Петрович с жалостью и презрением смотрел, как тяжело поднимается с колен Перелыгин, как, задыхаясь, отодвигает стул и опускается в него своим грузным телом. — И с Любашей вряд ли ты был счастлив. Уверен, она относилась к тебе без уважения, чувствовала, понимала твоё нутро и презирала, сама скрывая от себя это, ведь ей было удобно с тобой, комфортно. Только и всего?
— Ты не убьёшь меня? — прошептал Перелыгин.
— Не трепещи, — усмехнулся Волков. — Ты и так раздавлен… Я отомщен. Теперь ты знаешь, как это потерять всё. Вряд ли Любаша останется с тобой, когда ты нищ и наг.
— И сын, оказывается, не мой, — со скорбью признался Алексей Андреевич.
— Как это? — Волков сделал вид, что впервые слышит об этом.
— Климанова. Она гуляла с ним…
— Вот козёл! И ты терпел?
— Я только сейчас узнал.
— А к Зине он не подкатывался?
— Она его терпеть не могла… Словно догадывалась… Зина любила только тебя. Она Любе призналась, что Лена твоя дочь…
— Я чувствовал... догадывался, — качнул головой Николай Петрович.
— Зина считала, что тебя в живых нет... Мы все так считали!
— Я надеюсь, что ты ей не скажешь, что я Анохин?
— Она же теперь свободна… Будет счастлива…
— Она не свободна, у нее муж в беде… Как она себя поведет — никто не знает. Я с ней как-нибудь сам разберусь… Что ж, прощай! Надеюсь, я тебя больше никогда не увижу. Обниматься не будем!
Лена
После приезда в Уварово Зина с Леной сразу поехали в больницу. К счастью, мать её, Екатерина Алексеевна, просто перенесла сильнейший гипертонический криз. Давление у нее всегда было высокое. В больнице давление сбили, привели в чувство, к приезду дочери и внучки Екатерина Алексеевна ощущала себя вполне здоровой, и ее выписали.
На другой день Лена отправилась в редакцию местной газеты, теперь ею руководила молодая женщина, узнала у сотрудников адрес бывшего редактора и отправилась к нему. Представилась Василию Филипповичу журналисткой из газеты «Московские новости» Еленой Змеелов, мол, газета давненько получила его письмо по поводу статьи о судье Чеглаковой и вот только теперь, через полгода ее смогли командировать в Уварово, чтобы поподробней поговорить о том случае, который он описал в письме.
— Ну и хорошо, что сразу не приехали, — сказал Кирюшин, выкладывая из своего письменного стола копии документов. — Когда писал письмо, я многого не знал. Мало что мог бы рассказать. А потом получил дело Анохина в архиве, скопировал, что мог, поговорил кое с кем, даже через милицию делал запрос в Орловскую спецтюрьму, куда Анохина отправили на расстрел. Знаю об этом деле много. Вот, садись за стол, читай! А я тебе кофейку сделаю, а сам газеты посмотрю. Я по старой привычке много выписываю. С утра некогда было. Копался в огороде… Осень! Сад готовить к зиме надо… Люблю «Литературку», даже в «Коммерсант» иногда заглядываю, смотрю, что поделывают наши бизнесмены… Ты садись, садись за стол, устраивайся поудобней! Прочитаешь, потом поговорим. Отвечу на все вопросы.
Кирюшин вылез из-за стола, уступил место Лене, положил перед ней копии допросов на суде свидетелей обвинения Анохина и решение суда, а сам пошел готовить кофе. Лена принялась читать. Её дважды резануло упоминание двух свидетелей имени ее отца, поэтому она решила скрыть от Кирюшина свою настоящую фамилию.
Василий Филиппович принес кофе, поставил перед ней чашку, а сам сел в кресло перед наваленными на журнальном столике газетами, зашуршал ими. Она дочитала до конца решение суда, вздохнула тяжко и взглянула на Василия Филипповича.
— Ну и как? — спросил он, откладывая газету.
— Тяжко.
— Вот и мне было тяжко, ведь я с ним работал. Прямо перед этим случаем его назначили редактором областной комсомольской газеты, с невестой в загс подал заявление. Ходят слухи, она даже дочь от него родила. И вот тебе на! Разве можно в это поверить? Я сразу не поверил… А потом убийцу первой девчонки поймали, пятнадцать лет дали…
— Суд не пересматривал дело Анохина, когда убийцу поймали?
— Все думали, его в живых нет. Назад мертвого не вернешь!
— А вы не пытались найти свидетелей изнасилования, тех, что были на суде?
— А как же! Но поговорить не удалось… Один спился, помер, другой в Москве. Я не пытался найти его там, может, вам, удастся, а двое в тюрьме. С ними не поговоришь.
— Свидетели упоминали начальника милиции Сарычева, на глазах которого девчонка прыгнула с моста, но его почему-то не вызвали в суд, как свидетеля?
— Вот-вот, меня это тоже заинтересовало, а потом когда я поговорил с директором фабрики, стало ясно.
— Почему же? — нетерпеливо спросила Лена.
— А вы поняли, за что судили Анохина?
— За изнасилование… Пусть липовое, но обвинили в этом.
— Анохин начинал говорить в суде, почему он оказался на скамье подсудимых, но судья не дала ему сказать…
Лена вспомнила, что Анохин начал говорить про какую-то фабрику, но судья прервала его, посчитав бредом. Лена не увидела в этом решении судьи никакого подвоха.
— Да, он начинал говорить про какую-то фабрику…
— Анохин понял, за что попал в суд, но сделать ничего не мог. Был обречен!
— За что же его судили?
Василий Филиппович передал ей свой разговор с нынешним директором фабрики, рассказал, что Анохин вышел на след подпольного цеха, который организовали секретарь райкома партии и председатель Тамбовского облисполкома. Имен он не называл, считал, что они не важны для журналистки, только запутают.
— Они, боясь разоблачения, и организовали ему смертную казнь. Кстати, судья эта была любовницей председателя облисполкома, даже, якобы, сына от него имеет.
— Откуда вы знаете?
— Разве можно такое скрыть от людей. Тамбов маленький городишко, а тут не какой-нибудь слесарь, а сам глава области.
— А Сарычев, начальник милиции, играл у них какую-то роль?
— Это я не выяснил. Я его знал хорошо, ничего плохого о нем сказать не могу. Но одно меня мучает, понять не могу, как девчонка могла на глазах трех мужиков перепрыгнуть через полутораметровые перила. Я ходил на тот мост, пробовал перелезть, не получилось. Что-то здесь не то… А у него не спросишь, он сейчас замминистра МВД. Высоко сидит. Да и те ребята, что хотели отправить на казнь Анохина, слава Богу, у них это не получилось, сейчас на самой вершине власти…
— Простите, вы сказали, что казнь не получилась. Разве Анохина не казнили? — перебила Лена.
— Слава Богу, нет! Я делал запросы от нашей милиции. Ответили, Брежнев помиловал. Казнь заменили на пятнадцать лет, отправили в колонию. И туда я делал запрос: освободился два года назад. Восемнадцать лет отсидел.
— Почему восемнадцать?
— Это я не выяснил.
— Сюда он не приезжал?
— Насчет приезда, не могу сказать, но тут он точно не прописан. У меня с нашим начальником милиции прекрасные отношения, он мне помогал в розыске Анохина, подписывал мои запросы на бланке. Только вчера я получил ответ из московского Управления ЗАГСами, что Анохин два года назад поменял фамилию и отчество, стал Волковым Николаем Петровичем…
— Волков? Николай Петрович? — потрясенно воскликнула Лена.
— Вы его знаете?
— Кто же его не знает?! Это знаменитый журналист!
— Нет, это не тот, — остудил ее Кирюшин. — Статьи Волкова я лет пять назад, ещё в начале перестройки начал читать в «Огоньке». Анохин тогда ещё сидел в колонии. Волков из «Российской жизни» полный тезка теперешнего Анохина!.. Сейчас я покажу письмо из ЗАГСа.
Кирюшин стал рыться в газетах, навалом лежавшими на журнальном столике, начал искать конверт с ответом из Москвы.
— Что это? — вдруг недоуменно спросил сам у себя Кирюшин и взял в руки газету «Коммерсант». — Климанов умер?
— Как умер! — воскликнула Лена.
Василий Филиппович вопросительно поднял на нее глаза.
— Он из Верховного Совета? — спросила Лена.
— Ну да… умер, инфаркт. Это тот самый бывший председатель облисполкома, который отправил на казнь Анохина, — возбужденно глядел в газету Василий Филиппович. — И вдруг воскликнул: — Оп-па! — и прочитал вслух: — «По дороге в аэропорт Шереметьево расстрелян банкир Виктор Борисович Долгов. Киллер арестован, дал показания, что выполнял заказ криминального авторитета по кличке Барсук, который объявлен в розыск».
Лена замерла ошеломленная, сидела не шевелясь.
— Этот банкир, — воскликнул радостно Кирюшин, — был у нас секретарем райкома. Это он организовал подпольный цех на фабрике! Это он убил начальника милиции Саяпина, а потом и его зама Ачкасова, вот тут-то и всплыл Сарычев… Гляди-ка и о Сарычеве здесь!
— Убит! — вскрикнула Лена.
— Нет, — удивленно глянул на нее Кирюшин. — Арестован!.. Что-то они всем кагалом в один день, — задумчиво проговорил Василий Филиппович. — Подозрительно! Неужели Господь наконец-то обратил внимание на их деяния? Подозрительно! У меня от радости руки затряслись. За это выпить надо! У меня винцо есть. Выпьем? — живо спросил он.
— Нет-нет, спасибо! — отказалась Лена, поднимаясь из-за стола. — Я и так отняла у вас столько времени. А информации сколько — ужас! Голова кругом идет. Надо всё осмыслить! Я пойду!
— Ну, смотри, смотри, а я сейчас выпью! Нет, напьюсь! Бывают же такие благословенные дни! — провожал ее до двери Василий Филиппович.
А Лена была ошеломлена услышанным: отец арестован, Долгов убит, Климанов умер. Она почти бегом бежала к своему дому по темной, не освещенной улице. Раньше на ней в это время горели фонари.
— Где ты была? — встретила ее с упреком мать. — Мы тебя заждались! Волноваться начали… Ужин готов, раздевайся и за стол!
— Мама, папа арестован! — оглушила ее Лена и обняла.
— Как арестован? Откуда ты взяла? — прошептала Зина в плечо дочери.
— Арестован, за взятку... В газете напечатано... Это ещё не всё: Долгов убит, а Климанов умер…
— Господи, что же это? — горестно перекрестилась Екатерина Алексеевна.
Она вышла из кухни и стояла, смотрела, как обнимаются, разговаривают дочь со внучкой.
— И это ещё не всё: Николай Анохин, тот журналист, не расстрелян! Живой он!
— Колюшка? Отец твой? Живой? — ахнула Екатерина Алексеевна.
Лена выпустила Зину из объятий и обескуражено глядела на бабушку.
— Как отец? Анохин мой отец?
— Мама, зачем ты? — с горечью вскрикнула Зина. — Лена не знала…
— Ой, прости, доченька! Сорвалось! От радости сорвалось… Камень с души…
Лена обратилась к матери.
— Ты была его невестой?
— Она-она, раздевайся, раздевайся, за столом поговорим! — теребила ее бабушка.
За столом Екатерина Алексеевна открыла бутылку вина.
— Столько новостей. Надо сердце успокоить, — объяснила она. — Рассказывай, где была, откуда у тебя такие новости? — потребовала она у Лены, когда они выпили по рюмке.
Лена рассказала всё самого начала, как пыталась приехать в командировку от газеты в архив и к бывшему редактору Кирюшину, как встретилась с ним сейчас и чем закончилась их встреча. Услышав, что Анохин поменял паспорт на имя Волкова Николая Петровича, и что Кирюшин считает, что знаменитый журналист просто полный его тезка, она нервно воскликнула:
— Это он, он, он! Я на него смотреть не могла. Стыдно! Я не узнала, а сердце почуяло! Теперь я понимаю, почему всегда, когда я читала его статьи, сердце ныло, ныло! Стиль не изменишь, всё равно пробьется!
— Что ты теперь будешь делать? — обратилась к ней Екатерина Алексеевна.
— Завтра полечу мужа спасать, адвоката хорошего искать, — горестно проговорила Зина.
— Ты ведь его никогда не любила?
— Я с ним двадцать лет прожила. И он ни меня, ни Леночку не обижал…
— А Колюшка?
— Что Колюшка? Он, может, обо мне и не помнит.
— Помнит, всё он помнит, — горько вздохнула Екатерина Алексеевна.
Конец
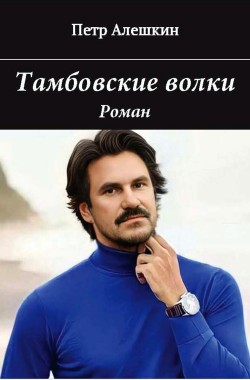





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

