Читать онлайн "Я - террорист"
Глава: "Я - террорист"
Рассказ омоновца
1
— Хочешь заработать четыреста тысяч долларов? — спросил у меня старший лейтенант Никитин, спросил, как всегда, весело, иронично, грустным я его никогда не видел.
После штурма Белого дома он получил еще одну звездочку на погоны, а я широкую лычку, стал сержантом и командиром отделения ОМОН. Оба мы получили по ордену «За личное мужество».
— Назови мне того, кто не хочет? — тем же тоном спросил я вместо ответа.
— Учти, в случае провала либо смерть, либо много лет за решеткой, — улыбался Никитин, но по глазам его я понял, что он не шутит, что действительно можно заработать такую бешеную сумму. Я быстро перевел ее в уме в наши деревянные и получил хорошую сумму — аж полмиллиарда. Вот так куш!
— У нас работа такая, ай забыл, — все тем же ерниченским тоном сказал я. — Каждая операция со смертельным риском и всего за двести пятьдесят баксов в месяц.
— Значит, готов? — уже серьезно спросил старлей.
— Созрел, — быстро, без колебаний, ответил я.
Я согласился, хотя сразу понял, что дело будет связано с преступлением, но согласился не только потому, что сумма была огромной для меня и на много лет вперед решала все мои проблемы, давала возможность осуществить все мечты, просто круто меняла весь мой образ жизни, а в основном потому, что безгранично верил Никитину, хорошо знал по опыту, что хоть и рисковый он парень, но собственная голова дороже ему всего на свете и совать ее в петлю он не будет не только за четыреста тысяч баксов, но и за четыреста миллионов. Значит, у него все продумано, есть план почти беспроигрышный. Несколько процентов на проигрыш, на случайности всегда надо оставлять.
В этот же день Никитин рассказал мне и Сучкову об операции, которую он назвал «Набат», рассказал в общих чертах. Мы, втроем, захватим в заложники школьников в Ростове, потребуем в качестве выкупа за них десять миллионов долларов и вертолет для перелета в Иран.
— Ого! — воскликнул Сучков, рыжий рослый омоновец, туповатый амбал, услышав о десяти миллионах. — А почему нам только по четыреста тысяч? Остальные кому?
— Остальные не нам, — отрезал Никитин.
Я понял, что организатор операции не Никитин. Задумал ее не он. Старлей такой же исполнитель, как и мы. Это усложняло дело. Деньги большие. Я знал, что из-за больших денег организаторы, чтобы замести следы, часто освобождаются от исполнителей. Надо решаться! Можно сейчас сказать — нет, тогда Никитин все превратит в шутку, скажет, что проверял нас на вшивость. Но доверять больше не будет никогда. Ах, была не была! Игра стоит свеч. Никитин рискует, а почему мне не рискнуть. Я спросил о другом:
— Мы действительно в Иран полетим?
— Что мы там не видели?
— Ясно.
2
В Ростов мы прилетели утром. Как и в Москве там было слякотно, пасмурно. Вместо неба грязновато-серый туман. И настроение у меня было подстать погоде, томился: зря клюнул на этого червяка! Но старался держаться бодро, чтобы старлей и Сучков не поняли моего состояния, подхохатывал Никитину, когда он рассказывал анекдоты. Я не понимал его бесшабашного веселья перед таким серьезным делом. А Сучков был, как всегда собран и непроницаем. Одеты мы были в ширпотребовские невзрачные куртки, лыжные шапочки. В больших спортивных сумках автоматы, рожки с патронами, пустые рюкзаки, а в одной — кирпичи, завернутые так, чтобы их можно было принять за динамит, и настоящий взрыватель. Мы договорились при заложниках называть друг друга по выдуманным кличкам: Никитина — Шеф, меня — Хмырь, а Сучкова — Амбал. Никитин должен был вести переговоры, а наше дело молча и быстро исполнять его приказы. Мы сели в рейсовый автобус, чтобы таксист не мог потом быть свидетелем. Куда ехали знал только Никитин. Молчали в автобусе, делали скучающий вид, друг на друга не смотрели. Выскочили на улицу на остановке. Огляделись. Район был рабочий. На другой стороне улицы бетонный забор, поверх которого видны желтые крыши Икарусов и ПАЗиков. Похоже, автобусный парк. Неподалеку за голыми ветвями деревьев видны были распахнутые ворота, а чуть подальше двухэтажное кирпичное здание, возле которого на площадке стояло три «Жигуленка» и автобус Икарус. У входа в здание топтались два мужика, о чем-то разговаривали.
Мы перешли улицу и по мокрому тротуару потихоньку двинулись к воротам. Метрах в ста от них Никитин поставил свою сумку на газон под дерево, бросил нам:
— Ждите. Как подъеду — маски на лицо и — в автобус!
Он неторопливо зашагал дальше. Мужики, стоявшие у входа, пошли ему навстречу к Икарусу. Один зашел со стороны кабины водителя, открыл дверь и полез внутрь. Мы слышали, как зашипели, громыхнули, открываясь двери. Второй мужик исчез в салоне. Никитин остановился напротив ворот, не доходя до автобуса, нагнулся и нача л отряхивать брюки. Бил ладонями по штанинам долго, тер ткань в руках. Отряхнул, отошел с тротуара к створкам ворот и начал закуривать. Икарус рыкнул, окатил черным дымом стоявший рядом серый от грязи «Жигуленок» и тронулся, стал удаляться.
Улицу безлюдной назвать было нельзя. Шелестели, шипели шинами по мокрому асфальту машины. На автобусной остановке, где мы только что вышли, толпилось человек шесть. Да и на тротуарах с обеих сторон там и сям маячили люди. С одной стороны улицы, где мы стояли под деревом, забор, с другой — серые пятиэтажки с такими же серыми, голыми и тревожными деревьями рядом. Голосов не слышно: молча стоят на остановке, терпеливо ждут, молча идут мимо нас, не обращая внимания. Скользнут взглядом и — дальше. У каждого свои дела, свои заботы.
Из ворот выкатился, покачиваясь, новый серо-синий ПАЗик. Никитин метнулся к нему, застучал по двери. Слышно было, как он крикнул:
— Эй, погоди! Открой на секундочку!
ПАЗик приостановился, скрипнул дверями. Никитин нырнул в салон. Я заволновался. Никак не мог смотреть на нашу затею, как на игру. Мы замерли. Автобус, казалось, стоял вечность. Наконец, двери скрипнули снова, закрылись, и автобус тревожно и осторожно покатился, развернулся. Мы опустили головы, чтобы лица не было видно, и когда он поравнялся с нами, остановился, разом натянули, раскатали лыжные шапочки на лица так, что видны были только глаза в прорези, подхватили сумки, кинули в автобус и запрыгнули сами. Никитин в такой же маске сидел в кресле кондуктора напротив водителя и держал в одной руке пистолет, а другой прикрывал его ладонью, чтобы с улицы не было видно. Вид у водителя, кучерявого парня в темно-зеленом свитере, испуганный.
— Вперед! — кинул шепеляво, проглотив букву «р», Никитин водителю. Во рту он держал две конфеты карамельки, чтобы изменить голос. — Давай знакомиться! Долго путешествовать вместе. Как зовут тебя?
— Вася, — нервно и хрипло ответил водитель.
— Хорошо, Вася, а меня зови просто Шеф. Договорились? И успокойся, шалить не будешь, мы тебя не тронем. Попробуешь бросить нас, извини, прихлопнем. Крути себе баранку спокойно и крути! Ни о чем не беспокойся, все будет хорошо… Сейчас на светофоре налево… Так, теперь во двор, ага, сюда, видишь школу? Подгоняй автобус прямо ко входу… Автоматы! — глянул он на нас.
Мы расстегнули сумки, достали автоматы. Сучков кинул один Никитину.
— Амбал, стереги Васю. Рыпнется удирать, стреляй. Я автобус водить умею! Хмырь, за мной!
3
Мы выскочили из остановившегося автобуса прямо на ступени ко входу и влетели в коридор.
— Вы куда? — крикнула нам старушка в черном халате. Вероятно, уборщица или гардеробщица. Кроме нее в коридоре первого этажа никого не было. Тихо. Шел урок. — Туда! — крикнул, указал Никитин вверх на второй этаж и побежал по лестнице.
На втором этаже мы кинулись к ближайшей двери, распахнули, влетели в помещение, остановились у доски. Мы попали в восьмой класс. За столом у окна напротив двери сидела учительница лет тридцати, довольно миловидная, с остреньким носиком и тонкими черными бровями. Реденькая челка.
— Здравствуйте, дети! — рявкнул Никитин сквозь маску, держа автомат на плече стволом вверх. — Вы заложники! Сидите тихо! Сейчас…
Всякой реакции ожидал я от учеников, только не такой. Они не дали договорить Никитину, заорали вдруг весело: Ура-а! — радостно завизжали, задвигали стульями, некоторые вскочили, некоторые стали бить учебниками по партам. И почему-то большинство из них кричало: Николай Иваныч! Николай Иваныч! Учительница растерялась, смотрела то на нас, то на орущих детей.
— Тихо! — рявкнул Никитин, но в шуме его не было слышно. Тогда он шарахнул очередью из автомата по потолку. Посыпалась пыль, зазвякали, зазвенели по полу гильзы. Учительница вскочила, а ребята ошарашенные, испуганные, затихли мгновенно и стали опускаться на свои места, вжиматься в стулья.
— Не бойтесь! — спокойно заговорил Никитин. — Сейчас мы немного покатаемся на автобусе. Потом пойдете домой… Как вас зовут? — обернулся он к учительнице.
— Любовь Васильевна… — пролепетала растерянная учительница, остренький носик ее стал пунцовым, а зеленые глаза побелели.
— Любовь Васильевна, быстро с ребятами вниз вслед за ним, — указал он на меня, — к автобусу. Быстро! — И кивнул мне: — Вперед!
Я шагнул в коридор, а Никитин подтолкнул ко мне оцепеневшую учительницу:
— Быстро, быстро! — И начал поднимать ребят с первых парт и отправлять ко мне в коридор.
Когда я вышел туда, двери некоторых классов были открыты, выглядывали учителя, пытались узнать, что случилось, что за выстрелы?
— Назад! — крикнул я и выстрелил в потолок.
Двери тут же захлопнулись.
Вслед за перепуганными детьми выскочил Никитин, скомандовал:
— В автобус!
Мы испуганной стайкой затопали вразнобой по лестнице вниз. Старуха, то ли уборщица, то ли гардеробщица, смотрела на нас молча, разинув рот. Стояла столбом, не шевелилась. Ей, видно, казалось: шевельнись она, мы ее тут же ухлопаем.
— Ну вот, теперь видишь куда? — сказал ей громко Никитин.
«Бля, не может без шуток! Дай поерничать!» — подумал я с раздражением. Я был напряжен, взвинчен. А ему шуточки!
— Дети, куртки в охапку и в автобус! — крикнул Никитин. — На улице холодно!
Пока ребята и учительница искали, снимали с вешалок свои курточки, одевались, застывшая старуха не шевелилась, как обмерла.
Никитин первым выскочил на улицу и указал учительнице на распахнутые двери автобуса:
— Любовь Васильна, карета подана. Прошу! Располагайтесь поудобнее. Давайте, давайте…
Учительница первой влезла в автобус. Ребята, теснясь торопливо, вслед за ней. Никитин не успел войти внутрь, как из школы вылетел седой мужчина, бросился к нему. Он вопил на бегу:
— Убейте меня! Убейте меня! Детей отпустите!
Никитин задержался на ступенях, шагнул навстречу учителю, ловко поймал его за шиворот, остановил, встряхнул, приговаривая:
— Успокойся, успокойся! От тебя зависит жизнь детей… Теперь слушай! Сейчас позвонишь в милицию и скажешь: террористы захватили детей и учительницу в заложники. У них автоматы и взрывчатка. Усек? Мы на автобусе отправляемся на военный аэродром. Если попытаются остановить, задержать, перестреляем детей. На аэродроме мы скажем, что нам надо и отпустим ребят. Запомнил? — Никитин еще раз встряхнул учителя, отпустил, потом ласково похлопал по щеке и добавил: — Пусть не шутят с нами. Нам терять нечего… Иди звони! — подтолкнул он старика по ступеням ко входу, шагнул в автобус и кинул водителю: — Поехали!
4
Я видел, как старик споткнулся на ступенях, задержался рукой, чтоб не упасть, обернулся к нам, что-то крикнул. Автобус тронулся и удалялся от него. Никитин стоял у двери, оглядывал детей. Вместе с учительницей заложников было десять человек. Четыре мальчика и пять девочек. Никитин взял ребят только с первых парт. Растерянные школьники еще не понимали, что происходит. Одна девочка была особенно напугана, дрожала, дышала тяжело открытым ртом. Никитин достал из кармана карамельки, развернул, сунул две штуки себе в рот под маску, а одну протянул перепуганной девочке. Она оттолкнула его руку и заревела. Завсхлипывала и сидевшая рядом с ней.
— Что с вами? — огорченно спросил Никитин. — Я не хотел вас обижать… Берите, — насильно всунул он им в руки по конфетке. — Ну, дурочки… Любовь Васильна, успокойте их. Пересядьте, вот сюда к окошку поближе к ним.
Оттого, что он держал конфеты во рту, голос его был не страшный. Ребята сжались на сиденьях, как воробьи на морозе. Учительница, все еще не пришедшая в себя, деревянными шагами, держась за спинки сидений, перешла к окну. Никитин всыпал ей в ладонь горсть карамелек. Несколько штук не уместилось в ее маленькой ладони, упало на пол.
— Угости ребят и успокойся. Мы вас обижать не собираемся. От вас, Любовь Васильевна, от вашего спокойствия будет зависеть все, — похлопал ее по руке Никитин, перешел к кабине и обратился к водителю: — Вася, чувствуешь, жизнь этих детей в твоих руках. Будь умницей, кати и кати потихоньку, на гаишников внимания не обращай! С ними мы разберемся… — Никитин деловито оглядел салон, скомандовал нам: — Амбал, присядь к взрывчатке! Чуть что, взрывай!.. Хмырь, не торчи, присядь сзади, чтоб голову не видно было, и контролируй!
Я заметил, что кое-кто из ребят среагировали на клички Амбал и Хмырь, воровато оглянулись и снова опустили головы. Вид у них был такой, словно они не выучили урок и теперь боялись как бы их не вызвали отвечать. Учительница что-то шептала испуганной девочке, которая плакать перестала, но по-прежнему дрожала и не поднимала голову.
Сучков присел на корточки перед сумкой с кирпичами и взрывателем, расстегнул ее и устроился прямо на полу между сиденьями, положил автомат на колени. Я сел на ступени у задней двери, а Никитин, наоборот, у передней.
— Вась, дорогу на военный аэродром знаешь? — спросил он. — Кати туда!
Меня раздражало, что даже сейчас Никитин молчать не мог, а потом я понял: говорил он без умолку, чтобы снять напряжение, успокоить ребят. Если будем молчать, может случиться нервный срыв, истерика.
Понял и сам заговорил громко, впервые с начала операции. Конфету в рот сунуть не забыл.
— Ребята, хотите загадку? Сроду не отгадаете!
— Давай, Хмырь! — поддержал Никитин.
Я видел, что ребята прислушиваются, приободряются, почувствовали, что ничего плохого с ними не делают и вроде бы не собираются.
— Слушайте, — начал я. — К реке подошли два человека и увидели лодку. Но она оказалась одноместной. И все же они благополучно переправились и пошли дальше. Отгадайте, как они сумели переправиться?
Ребята молчали. Я думал, что они меня не слушали, не воспринимали. Но вдруг в тишине одна из девочек тихо произнесла.
— Они с разных сторон к реке подошли. Один переплыл в одну сторону, а другой обратно.
— Вот это да! — захохотал Никитин. — А я сижу, думаю, как же они ухитрились? Сроду бы не угадал… Ну, ты молодец! Отличница, наверное?
Ребята зашевелились, оживились, стали смелее оглядывать нас.
— Ну, чего молчишь, отличница? Как тебя зовут? — спрашивал Никитин у девочки, разгадавшей загадку. — Любовь Васильевна, как она учится?
— Лида хорошо учится, — ответила бесцветным голосом учительница. Она еще не пришла в себя. Носик ее по-прежнему был неестественно розовый.
— И зовут тебя хорошо, — говорил Никитин девочке. — Знаешь, даже стихи есть про тебя: хорошая девочка Лида в нашем Ростове живет. Я с именем этим ложился, я с именем этим вставал… «Хорошая девочка Лида!» — на парте своей написал…
— Милиция… За нами… — хрипло сказал водитель и прокашлялся. До этого он все время молчал.
5
Послышалась сирена. Я приподнялся, выглянул и заволновался сильней, крепче сжал в руке автомат. Нас догоняли две милицейские черные «Волги» с мигалками. Одна сходу обогнала нас, помаргивая фиолетовым фонарем на крыше, и пристроилась впереди. Другая осталась сзади. Не дай Бог, попытаются остановить, стрелять начнут! Что тогда? Тоскливо и тревожно было на душе. Но обе «Волги» не сбавляли хода. Никитин тоже выглядывал, следил за милицией. Убедился, что они не останавливают нас, а просто сопровождают, и произнес:
— Молодцы! Сообразили… — и громко обратился к ребятам. — Видите, как президентов вас везем. И спереди мигалки, и сзади! Когда б вы еще так прокатились! А вы боялись? Моя милиция меня бережет, — засмеялся он.
Напряжения больше не было в автобусе. Ребята смотрели в окна. Учительница тоже оглянулась, посмотреть на милицейскую машину, идущую сзади. Лицо у нее успокоилось, глаза оживились. Отошла.
— Аэродром, — произнес водитель.
— Кати к воротам. Если закрыты, остановишься.
Ворота были закрыты. На площади пустынно. Похоже, о нас сообщили, и здесь подготовились. Я напрягся, сжал автомат — первое препятствие! Как поведут себя власти? Все зависит от первого шага. Вспомнилось, как семейный ансамбль «Семь семионов» попытался захватить самолет, чтобы удрать за границу, и как их расстреляли. Погибли тогда и заложники. А если и теперь власти задумают взять нас силой? Милицейские машины остановились поодаль. Никто из них не выходил. Ждали наших действий.
Никитин, пригибаясь, подошел к учительнице.
— Любовь Васильевна, теперь все зависит от вас. Вы спокойны? Вы можете меня слушать?
Учительница кивнула.
— Любовь Васильевна, вы видите, мы никому не делаем зла. И никого не тронем, если нас не будут трогать. Вы сейчас пойдете к ним и скажете, что у нас автоматы и взрывчатка. Вот видите, — указал Никитин на сумку, возле которой сидел, казалось, совершенно безучастный ко всему Сучков. — Стоит повернуть вот эту штучку и на месте автобуса будет большая яма, и от нас всех ничего не останется. Нам терять нечего, а детям жить да жить… Что нам нужно? Нам нужно всего лишь, чтобы открыли ворота, и мы въехали на поле. Идите и скажите, если через пять минут ворота не будут открыты, нам ничего не останется, как убить одного из ребят. Предупредите их, виноваты будут они. Все понятно?
Учительница снова кивнула.
— Идите, и непременно возвращайтесь! С вами детям будет спокойнее. Если не вернетесь, значит, нам отказали. Придется убивать… Да, возьмите эту девочку, — указал он на все еще дрожавшую девчонку. — Оставьте ее там, а то, как бы ей плохо не стало… Вась, открой двери!
Учительница вышла, помогла сойти вниз всхлипывающей девочке.
Мы видели, что из одной машины быстро и уверенно выскочили два милиционера и стали ждать, смотреть, как подходят к ним учительница за руку с девочкой. Сошлись, слушают учительницу, поглядывают в нашу сторону, расспрашивают, что-то доказывают учительнице, уговаривают. Она их в свою очередь убеждает в чем-то. Говорили минут пять, не меньше. Любовь Васильевна повернулась к нам, пошла медленно, тяжело, так тяжело, словно пудовые цепи к ногам привязаны, следом волочились.
— Ну что? — нетерпеливо спросил Никитин.
— Сейчас откроют.
— Слава Богу! — выдохнул Никитин. — Боялся, солдафоны намудрят себе на шею.
— Они хотят с вами встретиться. Переговорить…
— Перебьются.
— Спрашивают, что вы хотите? Что вы задумали?
— Придет время, расскажем.
Через долгих две-три минуты железные ворота дрогнули и поползли в стороны.
— Вася, поехали!
Автобус заурчал весело и покатил в ворота. Обе милицейские машины въехали вслед за нами.
— Вася, жми — вон туда! — на чистое поле. Там остановись… Дальше полетим на вертолете… Любовь Васильевна, вы теперь наш главный и единственный посол! Идите к ним, передайте наши требования: нам нужен вертолет, чтобы лететь в Иран, и десять миллионов долларов. Как только баксы будут на борту, мы всех отпускаем и летим в Иран… Еще раз предупредите их, пусть не вздумают штурмовать. Погибнут дети! Разве жизни их стоят десяти «лимонов», а что для страны эти несчастные «лимончики», когда министры Гайдара миллиарды за рубеж гонят. Пусть не жадничают, поделятся! Так и передайте им… И пускай пошевеливаются, не тянут резину.
Ребята слушали его слова с интересом. Страха уже не было в их глазах.
Мы снова наблюдали, как учительница разговаривает с милиционерами возле машины. На этот раз еще дольше обсуждали наши требования. Видно было, как из машины переговариваются по рации, спрашивают, должно, как быть? Мы тогда еще не знали, что уже создана государственная комиссия на самом высоком уровне и, благодаря телевидению, о нас уже знает вся страна. Но в том, что создана группа захвата из спецназовцев, мы не сомневались. Теперь она где-то на подлете к Ростову. Из головы не выходил случай с «Семью семионами». Как теперь поведут себя спецназовцы? Неужели решатся брать силой? Вроде бы мы не очень большую сумму запросили? Да, и с Ираном дипломаты должны связаться, чтобы там нас немедленно выдали назад. Если договорятся с Ираном, то не должны штурмовать.
К нам вместе с учительницей направился один из милиционеров. Шли неторопливо. Никитин отодвинул стекло в окошке, выставил ствол автомата и крикнул:
— Стой! Еще один шаг и будет труп… Иди одна!
Они приостановились, потом милиционер решительно шагнул дальше. Затрещал автомат. Никитин стрелял вверх. Резко ударило в нос порохом.
— Ой! — вскрикнул один из мальчиков и схватился за щеку.
— Ты чего? — глянул на него Никитин.
— В лицо попало…
— А-а, это гильза. Возьми ее на память… Хвастаться будешь.
Милиционер стоял на площади, размышлял, потом что-то сказал учительнице и пошел назад, к машине, а Любовь Васильевна тронулась к нам. Никитин подал ей руку из автобуса, помог влезть.
— Передала… Сказали, будут звонить в Москву, советоваться.
— Начнут теперь тянуть бодягу, комиссию создадут из воров-министров и трусов-генералов, один в лес начнет тянуть, другой в речку. Вы сказали им, чтоб малость поделились нахапанными «лимончиками»?
— Говорила. Они предлагают рацию для переговоров…
— Перебьются… Ну, ладно, куда они денутся. Будем ждать. — Никитин расположился на кондукторском сидении и оглядел салон.
6
Сучков как сел на пол в начале операции рядом с сумкой, так и сидел безучастно с автоматом на коленях. О чем он думал, что чувствовал? Он не интересовался, не выглядывал в окно, когда шли переговоры, когда стрелял Никитин, и вроде бы не слушал, по крайней мере, не обращал внимания на слова Никитина. Глядя на него, и я успокоился. Ребята, успокоившиеся, вертевшие во все стороны любопытные головы, во время стрельбы, вновь сжались, замерли. Но не надолго. Увидев, что ничего страшного не произошло, все живы, снова стали смотреть по сторонам. Лиц я их не видел, наблюдал сзади.
— Взял гильзу? — спросил Никитин у мальчика, которому стреляная гильза, вылетая из автомата, попала в щеку.
Мальчик отрицательно мотнул головой. Все ребята ни разу не произнесли вслух ни одного слова. Я поднял с пола из-под ног мальчика гильзу и толкнул его в бок, протянул ее. Мальчик оглянулся, осторожно взял гильзу, словно она была горячая, поднес к лицу и понюхал.
— Воняет? — спросил Никитин.
— Не-а.
— Правильно. Это мужской запах. А вот дай девчонке понюхать: она непременно скажет — фу! воняет!
Ребята слушали, поглядывали в сторону мальчика, крутившего в руках гильзу.
— Дядь, а как тебя зовут? — вдруг громко спросил, осмелился паренек, сидевший у окна рядом с мальчиком, у которого была гильза. На нем была яркая куртка из разноцветных клиньев.
— Правильно, пора познакомиться. Зовите меня — Шеф.
Паренек насмешливо хмыкнул.
— Что, не похож на шефа?
— Нет.
— Почему?
— Ты болтливый. Шеф слушает и говорит одно слово.
— Да-а, а я не знал. Тогда зови меня болтливый Шеф. Ладно?
Паренек снова хмыкнул. Он, видимо, улыбался.
— Шеф, — вдруг обратился к Никитину еще один мальчик, который сидел в другом ряду, там, где была учительница и девочки, и все зашевелились, заулыбались, засмеялись. Так это прозвучало неожиданно и смешно. Мальчик замолчал, оглянулся на одноклассников. — Вы чего? — не понял он.
— Ничего, — ответил ему паренек в яркой куртке.
— Я просто спросить хотел: разговаривать можно?
— Кто вам мешает? Хоть стихи читайте, — ответил Никитин. — Но давайте сначала познакомимся. Начнем с тебя, — указал он на паренька, который выяснял, как зовут Никитина.
— Борис.
Мальчика с гильзой звали Сашей, двух других ребят — Ромой и Олегом. А имен девочек я не запомнил. Все ребята сидели спиной ко мне. Хорошо я запомнил только Бориса. Он был самым шустрым и общительным. И Сашу — любопытного и любознательного.
— Почему вы так обрадовались, когда мы в классе появились? — спросил Никитин.
— Мы думали, это Николай Иванович переоделся, наш учитель труда, — ответил Борис и в свою очередь спросил: — Почему ты все время конфеты сосешь?
— Волнуюсь. Язва у меня. Когда волнуюсь, она у меня страшно болит. Вот я ее и ублажаю, подкармливаю.
— А у нас у учителя географии тоже язва. Он и сам на язву похож, тощий, как Кощей. Мы его Язвой зовем, ехидный, как подсмеется, уязвит, аж тошнит, — рассказывал Борис.
— А у Любови Васильны какая кличка, а?
Борис только хмыкнул, засмеялся, но не ответил.
— Любовь Васильна у вас хорошая, смелая. Вы ее не обижайте, — говорил Никитин, поглядывая в сторону здания аэропорта. — Смотри-ка, кажется, парламентер!
К нам направлялась женщина. Шла деловито, смело. На ней было голубоватое пальто, вязаная светло-серая шапочка.
— Вась, открой-ка дверь!
Никитин вышел на улицу и двинулся навстречу. Говорил он с женщиной долго, показывал ей на часы. Они в чем-то убеждали друг друга. Мы молчали, смотрели, как они разговаривают. Вернулся Никитин веселый.
— Все в порядке. Будет нам вертолет.
7
На этот раз ждали долго. Никитин балагурил по-прежнему с ребятами. Они освоились, начали разговаривать между собой. Даже смешки послышались. А Никитин замолчал. Я видел, что он начал нервничать, посматривать то на часы, то в окно. Время шло. Спецназ теперь точно прибыл в аэропорт. И горячие головы, должно быть, убеждают взять нас силой. Вдруг убедят? Нет, не похоже. Не станет правительство рисковать сейчас, понимают: все осудят, если дети погибнут. Кресла и так качаются под ними после выборов… Скоро темнеть начнет. А в темноте больше соблазна взять нас. И «Альфа» теперь сидит в аэропорту, глаз с нас не спускают, суки! Никитин не выдержал, выскочил из автобуса и протрещал вверх из автомата. Не успел он вернуться в автобус, как одна из милицейских машин, которые пришли с нами и стояли у входа, засверкала фиолетовым фонарем и тронулась, заскользила вдоль здания.
— Вася, за ними!
Автобус заурчал и мягко покатил по бетону, постукивая колесами на трещинах. Никитин следил за милицейской машиной, которая подошла к одному из военных вертолетов, окрашенному в чередующиеся темно-зеленые и грязно-серые пятна, и остановилась. Из нее вышел мужчина в летной куртке и военной фуражке, открыл дверь вертолета, опустил лесенку и вернулся в машину. Она качнулась, объехала вертолет, отошла в сторону и остановилась. В ней, кроме двух мужчин, была та самая женщина, которая приходила на переговоры.
— Подгоняй дверью к лестнице! — приказал Никитин водителю, а нам с Сучковым бросил: — Внимательно! Вертолет может быть набит спецназом.
Мы приготовились к возможному бою. Я понимал, что против спецназа мы ничего не сможем. Вряд ли хоть один из них даже пострадает. Хорошо помнил свою стычку со спецназовцем в Белом доме, когда хотел убить Руцкого. Никитин с автоматом вскочил в салон вертолета и оглядел его, скрылся внутри. Минуты через две выглянул, махнул рукой:
— Залезай!
Он помог учительнице подняться по лестнице, потом девочкам. Погрузили сумки.
— Вася, не покидай нас! — крикнул Никитин. — Ты нам еще пригодишься! Отгони автобус в сторону и сюда. Амбал, останься с ним!
В вертолете, в этой железной бочке, было холодно. Пахло керосином. Мы уселись на жесткие сиденья вдоль стен и стали ждать, смотреть в окно на милицейскую машину, из которой вылезла женщина в голубоватом пальто. Никитин ждал ее у открытой двери. Я только теперь разглядел ее. Было она, как говорится, не первой свежести, но еще привлекательная, круглолицая, доброжелательная на вид и располагающая к доверию. Она подошла, хотела что-то сказать, но Никитин опередил ее, жестко проговорил:
— Если через двадцать минут мы не взлетим, будут первые трупы. Ответственность за это будет на вас! Взгляните на часы! — Женщина послушно посмотрела на свои часы. — Двадцать минут! Вы уж один раз надули. Я вам не верю… Повторяю: мы летим в Минеральные воды, там получаем деньги, дозаправляемся и в Махачкалу, снова дозаправка и — в Иран. Вопросы есть?
— Отпустите хотя бы девочек.
— Нет. Сначала деньги, потом девочки-мальчики! Деньги сейчас, сейчас и отпустим. И еще раз передайте, пусть спецназ не рвется в бой. Никого в живых не будет. Взгляните на взрывчатку. Клочка ни от кого не найдете… Да, в Минводах пусть приготовят ужин. Дети не обедали. Чтоб непременно был им «Марс», и пару бутылок кефира не забудьте. Среди нас язвенники. Все усекла?
— Все. Отпустите девочек…
— Как кукушка завела, ку-ку да ку-ку… Идите, и в Минводах переговоры только через вас. Других не подпустим. Повторяю: через двадцать минут, чтоб были вертолетчики! Пойдет кровь, остановить будет трудно. Учтите!
Никитин прикрыл дверь, не поднимая лестницы.
— Внимательно следите со всех сторон. Наверняка, горячие головы уговаривают штурмовать.
Мы прилипли к иллюминаторам. Я следил со стороны аэропорта и видел, как милицейская черная «Волга» подошла ко входу, как из нее вылезли женщина и мужчина в меховой куртке. Оба скрылись в здании. Не было их минут десять. Вышли группой: человек шесть-семь. Четверо, в том числе та же самая женщина, уселись в машину.
— Едут, — сказал я Никитину.
Он подошел к иллюминатору и, пригнувшись, стал следить за машиной. Когда она остановилась, подошел к двери, распахнул ее и крикнул вылезшим из кабины двум пилотам в кожаных теплых куртках и шапках и женщине.
— По одному!
Первым влез в вертолет старший, худощавый, высокий, лет сорока пяти вертолетчик, влез, огляделся и сказал:
— Здравствуйте, братья-разбойники!
— Привет, ясный сокол! — откликнулся Никитин. — Оружие принес?
— У вас, говорят, своего хватает.
— Хмырь, проверь!
Я тщательно ощупал каждую складочку в его одежде. Ничего не нашел, кроме пачки сигарет «Прима», зажигалки и связки ключей.
— Чего ты такие вшивые куришь? — насмешливо спросил Никитин.
— Какова зарплата, таковы и сигареты.
— Да брось ты! Плюй тогда на свой вертолет, оставайся с нами в Иране… А еще лучше, я тебе там помогу вертолет загнать. Все баксы твои. Идет?
— Подумаю, — усмехнулся пилот, взял у меня ключи, сигареты и пошел в кабину.
Второй вертолетчик помоложе, смурнее, ни здрасте, ни до свидания не сказал, молча расставил руки в стороны, когда его обыскивали. У него были только ключи и расческа. Видимо, не курил. Школьники с интересом наблюдали, как мы обыскиваем. Для них это была игра.
Никитин высунулся из кабины, крикнул:
— Эй, красотка! До встречи в Минводах. Ребятам «Марс» не забудь, а мне кефира!
Втянул лестницу и захлопнул, запер дверь.
— Ну что, соколы! Полетели в теплые края. Дорогу в Минводы знаете?
— Найдем… Заблудимся, у прохожих спросим, — откликнулся из кабины худощавый пилот.
8
Вертолет затрясло. Загремело, зазвякало что-то в углу.
— Амбал! — весело крикнул сквозь грохот Никитин. — Следи за динамитом, как бы не взорвался от тряски. — И захохотал. Похоже, он все время боялся, что не дадут вертолет, оставят на ночь в автобусе и решатся штурмовать. Что тогда? Взрывать кирпичи или действительно начинать убивать детей. Нет, детей я бы не решился убивать. Васю ухлопать можно. Какой-то он не свой, что-то мне в нем не нравилось. Насупился и молчит, сидит, как деревянный. Учительница ничего, милашка. Ее бы получше одеть да раскрасить, сразу сексуальней стала бы. А так, за версту видно — учительница. А учительница и есть учительница, какая из нее баба! Вертолет трясло, стало теплей, а перед посадкой вообще душно.
В Минводы прилетели в сумерках. Никитин почему-то забеспокоился, приказал дважды облететь аэропорт, прилип к иллюминатору, внимательно всматривался в набитую «Волгами» и автобусами площадь перед аэропортом.
— Думаю, атаковать решили, дуболомы! — пробормотал Никитин и пошел к кабине: — Садитесь, вон туда, на полосу!
Пилоты что-то ответили. Я не расслышал. Никитин сказал им резко:
— Именно на взлетную полосу! Мне плевать, что она единственная!
Зависли, опустились на большие бетонные плиты взлетной полосы напротив аэропорта. Никитин сразу выскочил из вертолета. В открытую дверь потянуло свежим легким воздухом. Дети зашевелились, загалдели, разглядывая в иллюминаторы горы в белых снегах. А мне стало ужасно тревожно. Ясно было, что власти задумали какую-то пакость. Одна девочка подошла к учительнице и что-то озабоченно и растерянно шептала ей. Я догадался, о чем речь. Самого начинало прижимать. Здесь не самолет, туалета нет. Снаружи затрещал, захлопотал автомат Никитина. Я выглянул в дверь. Никитин стрелял вверх, звал на переговоры. Около аэропорта никого не было видно, вокруг нас чистое поле.
— Шеф, девочке в туалет надо, — сказал я негромко Никитину.
Он огляделся.
— Вон за колесо. Я отвернусь.
— Девочка, как тебя… Иди вниз, за колесо. Любовь Васильевна, идите с девочками. Им веселей будет.
Мы с Никитиным помогли девочкам спуститься. Я сверху, он снизу. Никитин влез в кабину, предупредив Любовь Васильевну:
— Только без сюрпризов!
Девочек не было долго. Показалась машина, катившая к нам от аэропорта. «Жигуль». Девочки и учительница, смущенные, раскрасневшиеся, взлетели по лестнице. Никитин быстро втаскивал их по одной внутрь.
Приехала та же самая женщина, которая вела переговоры с нами в Ростове. Никитин снова, едва она подошла, не дал ей слова сказать, заговорил первым, и опять жестко, даже грубо:
— Я вижу: весь аэропорт спецназом набит! В бой рвутся?! Передайте: пусть дают отбой! Здесь не мальчики, а смертники! Детей мы не тронем, если не будет штурма! — говорил все это Никитин быстро, не давал вставить слова женщине, потом он обернулся к учительнице. — Любовь Васильевна, скажите, обидели мы хоть словом вас или ребят?
— Нет, — качнула головой учительница.
— От вас, только от вас зависит их жизнь и свобода! — вытянул руку, ткнул пальцем в сторону женщины Никитин. — Где деньги? Где ужин?
— Доллары собирают в коммерческих банках. Утром будут.
— А ужин?
— Сейчас будет… Вы на взлетной полосе. Самолеты сесть не могут.
— Быстренько поезжайте к этим генералам-дуболомам, пусть срочно отменят штурм. И мы освободим полосу. Быстро!
— А как вы узнаете, что они отменили? — пролепетала женщина.
— Вы нам скажете! — резко ответил Никитин. — Не будете же вы уничтожать детей. Их жизнь, — указал Никитин большим пальцем себе за плечо, — на вашей совести. Обманете — они погибнут. Вы же не зверь! Идите, если хотите, чтоб мы освободили полосу…
Женщина ушла торопливо к машине. Вернулась к нам быстро, подбежала, запыхавшись. Машина, видимо, по требованию Никитина, всегда останавливалась поодаль.
— Не будет штурма, — выдохнула она.
— Отлично! Садитесь, — протянул ей руку Никитин.
— Зачем? — растерялась она.
— Будем полосу освобождать… Страшно?
Женщина оглянулась назад и решительно шагнула к лестнице. Никитин втянул ее внутрь и закрыл дверь. И сразу вертолет затрясся, загрохотал.
— А вы храбрая! Из КГБ?
— Нет. Я в Министерстве иностранных дел работаю.
— В МИДе? То, что вы не из КГБ, по лицу видно. У тех баб глаза иные. Но при чем МИД?
— Случайность.
— Зовут вас как?
— Инна Дмитриевна.
— Вот, Инна Дмитриевна, смотрите сюда. Видите, большеватенькая сумка, в ней динамит, взрыватель. Стоит повернуть эту штучку, мгновение, и мы кто в раю ангелочком непорочным, кто в аду в котле. Нам-то все равно, мы, террористы, знали, на что идем, а дети при чем?.. Сами сказали: коммерческие банки баксы собирают. Что такое коммерческие банки? Жулье на жулье! Откуда они деньги берут, думаю, вам не надо объяснять. Пусть поделятся малость. «Лимончик» с того, «лимончик» с этого. Они и не заметят, завтра десятком компенсируют. Правительство-банки одна шайка-лейка! — Никитин глянул в иллюминатор, крикнул в кабину. — Вон на тот пятачок, возле сугроба садитесь! — И опять повернулся к женщине. — Инна Дмитриевна, а вы в Иране бывали?
— Нет пока.
— Полетели с нами.
— Надо командировку брать.
— Я вам и командировку и командировочные выпишу, — засмеялся Никитин. Он не забывал подкладывать в рот конфеты.
Вертолет сел, выключил мотор. Слышно было, как винты со свистом рассекают воздух.
— Инна Дмитриевна, передайте генералам, что здесь все спокойно, тихо, никого не тиранят, не насилуют. Все здоровы и ждут освобождения. Объясните им: их генеральские шутки не пройдут!.. И маленькая просьба — конфеты нужны, карамельки. Побеспокойтесь, ладно? Не прощаюсь…
Привезли ужин. Были и кефир, и «Марс» детям. Ели, смеялись: хорошо на дармовщину жрать. Только водитель был хмур, безучастен, молчалив. Пожилой пилот, его звали Виктором Ивановичем, оказался общительным, шутил с детьми, с учительницей. Никитин, хоть и продолжал болтать, но был настороже. Нас было трое, и мужчин трое. Никитин один ходил по салону, а мы с Сучковым держались в стороне, в хвосте вертолета. С нами была сумка с кирпичами и взрывателем.
Ночью дежурили по двое, один спал. Сменялись через два часа. Ночь прошла тихо. Попыток штурма не было. К утру пал холодный туман. В ста метрах ничего не видно.
Сразу вслед за завтраком привезли доллары. Я не ожидал, что десять миллионов это так много. В рублях это всего две пачки пятидесятитысячных бумажек. В одном кармане унести можно. А доллары привезли на электрокаре. Куча мешков! Никитин отогнал водителя от электрокары автоматной очередью, и раз пять ходил за мешками. Нес, кряхтел. Центнера два, не меньше. Как же мы их донесем? Куда же мы с ними денемся? Никитин вскрыл один мешок, вытащил несколько пачек зелененьких и выругался:
— Дуболомы! Не могли сотнями собрать!
Купюры были разные. И сотни, и пятидесятки, и двадцатки, попадались даже десятидолларовые. Считали пачками и то часа два потратили. Боялись просчитаться. Нет, правильно привезли: десять миллионов до единого доллара. Мы набили ими рюкзаки, сумки. Вытерли потные лбы, выдохнули и отпустили девочек. Учительницу и ребят пока оставили. Нужно лететь дальше, в Махачкалу.
Заправили нас без проволочек, но взлетать вертолетчики отказались: в такую погоду не летают. Жизнь дорога. Туман днем рассеялся малость, но все же пелена была довольно плотная. Никитин вскипел, заставил взлететь.
Пилоты правы оказались. Началась такая болтанка, что непонятно было, почему вертолет не рассыпается, держится в воздухе. Земли не было видно, сплошное молоко. А вокруг горы. Вертолетчики матерились, орали на Никитина. Он сдался: давай назад!
Еще день и ночь торчали в Минводах. В вертолете, как в холодильнике. Мы выпустили ребят погреться возле вертолета, погонять консервную банку. Никитин ходил возле вертолета с автоматом, наблюдал за ними.
— Вася, что ты, как сыч, сидишь. Вылезай к ребятам, погрейся!
Но водитель автобуса, кутался в свою курточку, молчал.
К вечеру мы отпустили учительницу. Она совсем озябла. С ней — двух парней. Самых шустрых Бориса с Сашей Никитин оставил, сказал:
— Без вас скучно будет.
Днем снова невозможно было взлететь. Никитин занервничал. Он стал материться. При учительнице и девочках сдерживался. Я тоже не находил себе места, был уверен, что авантюра наша непременно закончится за решеткой. Клял себя, что согласился. Клевал бы по зернышку и сыт был бы. Если бы не погода, мы уже бы давно скрылись. Черт побери! Сама природа от нас отвернулась! Вечером, когда стемнело, Никитин не выдержал, рявкнул на вертолетчиков:
— Хорош канителиться! Летим в Махачкалу, там заправимся и сразу в Иран. Заводи!
— Нельзя, погибнем!
— И тур с ним! Туда и дорога! Заводи!.. Мальчики, выметайтесь! Спасибо вам! Дуйте в аэропорт… Вась, полетели с нами в Иран. Есть шанс шахом стать, не упускай! Не хочешь? Ну тогда, гуд бай. Надумаешь, встретимся в Иране…
9
Вылетели, когда стало совсем темно. Никитин стоял у кабины, командовал нервно:
— Держитесь вдоль дороги! По этим огонькам. И ниже, ниже…
— Вмажемся в гору!
— Держитесь вдоль дороги! — твердил свое Никитин.
Летели мы совсем низко над землей. Когда пролетали над освещенными домами, совсем рядом видны были машины во дворах, люди. Вдруг кто-то шарахнул по вертолету из автомата. Никитин отскочил от кабины, приоткрыл дверь вертолета и заорал вниз:
— Не стреляйте! Доллары бросаем! — И крикнул мне, указывая на сумку с кирпичами: — Давай деньги! Быстро!
Я понял его, подтащил к нему тяжеленную сумку с взрывателем и кирпичами. Никитин присел у двери, закрыл спиной сумку от вертолетчиков, стал вытаскивать из нее, завернутые в бумагу кирпичи и швырять вниз на освещенные дома. Освободил сумку и вернулся к кабине, выругался:
— Суки! «Лимона» три выбросить пришлось!
Он снова стал следить за дорогой, командовать вертолетчиками.
— Выключи маяк! — приказал он грубо. — Быстро!.. Выключай, выключай!
Я понял, что за вертолетом с земли все время наблюдали по сигналам маяка, установленного в кабине, и теперь нас должны потерять из виду. Ай да Никитин!
— Видите огоньки, развилку? Сворачивайте левее. И ниже, ниже, вдоль дороги. Тут скал нет. Так, так, так… Ага, вот! — воскликнул он радостно. — Вон туда! Видите, огонек вспыхивает. К нему! Быстрее…
Огонек мигал беспрерывно, похоже, кто-то включал-выключал фонарик, светил вверх. Когда вертолет завис над ним, он погас.
— Снижайтесь! Зависайте в метре от земли… Ребята, сумки!
Мы с Сучковым подтаскивали сумки, рюкзаки, а Никитин сталкивал их вниз. Вертолет висел, дрожал, гремел оглушительно. Выкинули, выпрыгнули. Никитин, прежде чем спрыгнуть, крикнул вертолетчикам:
— В Махачкалу!
На полянке никого не было. Но как только вертолет отлетел от нас метров на пятьдесят, из темноты из-за куста выскочил парень в камуфляжной куртке, вытряхнул что-то из рюкзака к нашим ногам и негромко скомандовал:
— Быстрее переодевайтесь.
По голосу я узнал Васюкова, омоновца из моего взвода. Значит, вот кто нас ждал!
Мы срывали с себя маски, куртки, свитера, брюки. Холода не чувствовали.
— Все в рюкзак, в рюкзак! — шептал Никитин.
Через пять минут мы были в омоновской форме.
— В машину! Взять только эту сумку, — указал Никитин на самую маленькую, в которую, я помнил, мы складывали только пачки с сотенными купюрами.
— А остальные? — удивился я.
— Остальные сумки, рюкзаки и мешок с одеждой, оставить здесь! Автоматы тоже! — кинул быстро Никитин и спросил у Васюкова. — Все в порядке?
— Да.
Мы уселись в «Жигуль» и покатили вниз по извилистой дороге, подпрыгивая на камнях. Васюков указал на бардачок:
— Командировки и удостоверения там!
Никитин достал и передал нам удостоверения омоновцев и командировки, объяснил, что мы командированы из Москвы для участия в операции по задержанию террористов угонщиков вертолета с заложниками.
Утром мы активно участвовали в блокаде Махачкалы, ловили террористов. Никитин, как всегда, был энергичен, быстр, деятелен, стремился лично задержать террористов. Командовал московскими омоновцами Лосев, бывший наш комбат. За участие в штурме Белого дома он стал генерал-майором, получил повышение.
Вскоре мы узнали, что все три террориста задержаны с оружием в руках. При них оказалось шесть с половиной миллионов долларов. Остальные, по их словам, они разбросали над Чечней, чтобы по ним не стреляли. Это подтвердили вертолетчики. Я слушал сообщение, разинув рот, а Никитин с обычной своей веселой ухмылкой на лице.
— Доигрались, голубчики! — сказал он громко и весело. — Жаль, что не мне попались. Ох бы, и потешился я!
Никто не сомневался в том, что попадись они ему в руки, он бы действительно потешился.
В Москве я получил свои четыреста тысяч баксов. Передал их мне Никитин.
— Послушай, кто же все-таки те, которые попались? — спросил я.
— Все-то тебе надо знать! Спи спокойно, — засмеялся Никитин. — Не спеши тратить, потерпи, — кивнул он на баксы. — Положи в банк, пусть растут.
Но позже, по некоторым его оговоркам, я стал догадываться, что операцию, скорее всего, разработал генерал-майор Лосев, наш бывший комбат. Он и назвал ее — операция «Набат». Так она проходила по всем официальным документам. А ребята, которые попались в Махачкале, были крутыми парнями. Они, должно быть, согласились заменить нас в обмен на свои жизни. За ними, вероятно, числилось то, за что не милуют. А теперь они отсидят небольшой срок и выйдут, ведь мы никого не убили, даже не обидели, не унизили. Потребуют суда присяжных, а такой суд даже за тройное убийство полтора года дает, как было в Саратове и в Подмосковье. Телезрители, которые три дня следили за операцией «Набат», ублаготворены. Террористы пойманы, другим не повадно будет заложников брать. И деньги почти все вернулись в коммерческие банки.
Всем хорошо! Все довольны!
Убийство генерала Рохлина
Рассказ омоновца
— Нет-нет, убивать его нельзя! — быстро проговорил шеф, тряхнув головой, и полные, чуть отвисшие щеки его затряслись, а затемненные очки сползли на нос. — Каждый ребенок на нас укажет, все поймут, что по указке Хозяина…— поправил он очки. — Если бы не случай в Калмыкии с Юдиной… Вся страна на уши встанет, скажут, убивают несогласных… Нет… Надо думать, думать, — глядел шеф сквозь очки на своего помощника Лосева. — Хозяин считает, что опаснее этого генерала нет. Всех недовольных он к себе притягивает. Надо заставить замолчать его задолго до выборов… Потом будет сложнее…
— Разве генерал в президенты метит. Это же смешно! — осторожно вставил Лосев. Он неделю изучал жизнь знаменитого генерала, по несколько раз перечитывал, перелистывал три папки с выписками из досье генерала, размышлял, прикидывал, как можно убрать его. Вчера затребовал и получил дополнительные сведения о его семье, и у Лосева возник, утвердился в голове план. Но сейчас он не спешил высказать его своему шефу.
— Нет, о президентстве он не думает. Не в этом дело… Вся армия считает его единственным мужиком среди генералов. Остальные лакеи… Хозяин опасается, что армия не поддержит на выборах на третий срок… И он прав! — вздохнул шеф и опустил глаза на свои белые пухлые пальцы, вяло переплетенные перед ним на столе.
— Хозяин отказался от выдвижения на третий срок, — то ли утверждая, то ли спрашивая, сказал Лосев.
— Куда он денется! Не пойдет, не изберут, и сам, и семья, и все мы, кто был рядом в эти годы, все окажемся в местах очень отдаленных… Кого бы ни избрали… Это всем ясно! И он это хорошо понимает, слишком много мы натворили. Нам не о нем, о себе думать надо… Ты-то, надеюсь, тоже понимаешь, что на печке не отсидишься, — усмехнулся шеф. — Многое всплывет…
— Ну да, — притворно вздохнул Лосев. Он верил, что нужен будет любому режиму, не потонет. И заговорил: — Я на досуге поразмышлял об этой проблеме и кое-какие мыслишки появились, посоветоваться надо…
— Давай, советуйся, — немного оживился шеф.
— Как известно, чеченцам в недавней бойне он здорово насолил, и как будто они его приговорили… — начал издалека Лосев.
— Хочешь убедить народ, что чеченцы его убрали? — перебил шеф. — Ерунда! Прикрыться чеченцами — первое, что в голову приходит. Кто поверит? Как ты докажешь, убедишь всех, что это они убрали? Паспорт чеченца оставишь? — усмехнулся недоверчиво шеф.
— Я только начал, — вставил Лосев.
— Ну, давай, давай, я больше не перебиваю…
Лосев рассказал, как, по его мнению, без большого шума можно навсегда освободиться от беспокойного генерала. Шум, конечно, будет. Совсем без шума убрать столь известного человека нельзя, но все телевидение охотно будет повторять официальную версию. Ведь хорошо прикормленные журналисты боятся генерала, опасаются, как бы он их похлебку пожиже не сделал: мол, народ голодает и вам пора пояса подтянуть. Все телевизионщики нервно вздрагивают при слове оппозиция. Поддержат, не засомневаются, всем растрезвонят, что так и было.
Лицо шефа оставалось бесстрастным, но глаза под очками по мере рассказа оживлялись, грусть уходила из них, и он снова опустил взгляд на стол, на свои руки, расцепил их, стал медленно потирать пальцы. Верный признак, что мысль Лосева казалась ему перспективной. Выслушал, спросил коротко, стараясь говорить равнодушно:
— Исполнители есть?
— Не раз проверены в деле.
— План ничего, ничего, — одобрил шеф. — Особенно хорошо в нем: если сорвется, мы в стороне. Это мне нравится, действуйте! Подключим все, что нужно… Выгорит, буду ходатайствовать перед Хозяином о Звезде Героя…
Никитин был необычайно весел, возбужден, особенно говорлив. Наблюдая за ним, я понял, что нас ожидает веселенькое дельце. И точно! Когда мы остались одни в сквере, он быстро оглянулся через свое плечо, нет ли кого поблизости, не подслушивает ли кто нас, хлопнул меня по плечу, хохотнул:
— Не закис без дела?
— С тобой закиснешь! — засмеялся я ему в тон. — Я забыл, когда ночью спал!
— Разве это дела были? Делишки! Вот теперь настоящим займемся. На весь мир прогремим! — воскликнул он и еще раз кинул взгляд на молодую мамашу в другом конце сквера, сидевшую на скамейке возле детской коляски. Ветер шумел листьями, заглушал наши голоса. — Нам с тобой поручили грохнуть генерала! — быстро, вполголоса закончил Никитин, глядя, как я отреагирую на его слова.
— Шутка? — коротко хохотнул я, понимая, что это не шутка. Смешком я пытался скрыть напряжение, на мгновение сковавшее меня от его слов. Действительно, шум будет на весь мир. Генерал познаменитее тележурналиста Листьева. — Ох, и искать нас будут после, землю рыть… Не захотят ли избавиться от нас наши… — Я запнулся.
— Заказчики, хочешь сказать?.. Это не заказ, а приказ! А приказы выполнять надо! Не дрейфь! Это будет игра, как тогда в Ростове с вертолетом… Тот же человек разрабатывал. У него рука легкая. Проскочим… Мы ему еще долго будем нужны!
Я догадался, что Никитин говорит о генерале Лосеве, но не стал уточнять. Лосев теперь нами непосредственно не командовал, был помощником шефа.
— Когда надо?
— Скоро свистнут, надо готовиться… Ты по-чеченски ни слова не знаешь?
— Нет.
— А с кавказским акцентом говорить можешь?
— Магу, дарагой, магу, — засмеялся я.
— Тренируйся перед зеркалом, — приобнял меня Никитин. — Скоро понадобится. Операцию назовем: мамаша!
— Почему — мамаша? — удивился, не понял я.
— А чем тебе мамаша не нравится?..
Ждать пришлось недолго. Дня через четыре Никитин весело сказал мне:
— Мамаша говорит: пора! — и развернул листок с планом дачи генерала, ткнул пальцем. — Это первый этаж! Запоминай: вход, коридор, здесь комната охраны — там два человека, — отхлебнул пива из стакана и глянул на меня Никитин. Мы сидели за столом на кухне в моей квартире. — Тут столовая, лестница на второй этаж. Наверху спальня генерала, комната четырнадцатилетнего сына…
— Пять человек… И всех убирать? — спросил я.
— Какой ты, Серега, кровожадный! Кого нам приказали убрать? Генерала… Его и уберем.
— А охрана? Стрельба начнется…
— Стрельбы не будет. Охрана ничего не услышит… Я тебе стрелять категорически запрещаю! Приказал бы не брать с собой пушку, да знаю, без нее ты спать не ложишься… Смотри дальше! Это комната гостевая. Сегодня у сынишки генерала день рождения. Ты выпил бы в день рождения сына?
— А как же? — приложился я к стакану с пивом.
— И генерал такой же человек, хоть и генерал. Значит, пьян будет!
— Я бы гостей пригласил, — сказал я, вытирая полотенцем усы.
— И он пригласит.
— Ну вот… Ночевать останутся.
— А никто не приедет.
— Почему?
— У всех будет своя причина… И еще тебе вопрос на засыпку, — ерничал Никитин. — Представь, сегодня день рождения твоего сына, а гости не приехали, выпить надо, пригласил бы ты охранников дернуть за здоровье сына, а?
— Конечно.
— Капитан, слушай приказ! Когда станешь генералом, никогда не приглашай за стол охранника, — строгим тоном сказал Никитин, потом хохотнул: — Если не хочешь, чтоб тебе капнули в рюмку клофелинчику. Понял?
— Есть, майор! — шутливо выпятил я грудь, не вставая с табуретки.
— Вольно, вольно, — засмеялся Никитин. — Теперь слушай дальше. Меня зовут Руслан, а ты Казбек. Так и зови меня там. И говори с кавказским акцентом. Или лучше молчи, говорить буду я!
Ночь выдалась дождливая, темная. Недели две в Москве стояла азиатская жара, а теперь резко похолодало, небо затянуло тучами. Дождь то начинал лить, то быстро прекращал, затихал. Машину мы оставили у дороги, в кустах. Пошли пешком к даче. Шли молча, ежились под дождем. С одной стороны, хорошо, что дождь, никто не встретится, а с другой, мокнуть не особенно-то приятно, хоть и не так холодно, как осенью. Был первый час ночи, и у редких дач тускло светились окна. Кое-где горели уличные фонари, выхватывая из тьмы добротные, в основном кирпичные дома. Мы присели под кустом неподалеку от светившегося двумя окнами двухэтажного, из белого кирпича дома. Замерли, стали ждать. Подробностей операции я, как обычно, не знал и, как всегда, не интересовался. Никитин знает, прикажет, что делать на месте. Сидели под кустом, мокли не менее часа. В доме ничего не менялось, одиноко горели два окна. Во всех дачах огни давно уже погасли.
Никитин вдруг шевельнулся, выдохнул:
— Ага, есть!
На втором этаже в одной из комнат дома загорелся свет, потом еще одна комната засветилась внизу, а в прежних двух окнах свет погас. Минут через десять все окна потухли. Внизу сначала погасло, потом вновь вспыхнуло. Мигнуло два раза.
— Пошли! — быстро сказал Никитин. — Маску!
Я, чувствуя легкое волнение, как всегда перед сложным делом, двинулся следом, натягивая на ходу на мокрые волосы черную маску. Никитин шел уверенно, легко, почти не таясь взбежал по каменным ступеням ко входу в дом. Дверь оказалась незапертой. Мы осторожно нырнули внутрь, замерли на мгновение, ориентируясь в полутьме, и потихоньку стали подниматься по лестнице на второй этаж, стараясь, чтобы шагов наших не было слышно. Там неожиданно для меня Никитин перестал таиться, даже кашлянул тихонько возле двери, за которой, как я помнил, была спальня генерала.
— Вася, это ты? Ты чего? — раздался в тишине довольно громкий женский голос.
Я невольно схватился за рукоятку пистолета. Васей, вероятно, звали одного из охранников.
Никитин ответил шепотом:
— Я… На минутку…
— Ты чего? — снова спросила жена генерала. Заскрипела кровать, мягкие шаги. Дверь приоткрылась. Из комнаты в полутьме высунулась женская голова. Никитин тут же схватил одной рукой ее за волосы, другой зажал рот, рванул на себя, выдернул в коридор.
— Тыхо, тыхо! Умрошь! — громко зажал рот, втолкнул в комнату для гостей и включил свет.
Он крепко сжимал женщине рот левой рукой, придавив ее голову затылком к своему плечу, а правой выхватил пистолет с глушителем и поднес к лицу жены генерала, говоря громким шепотом:
— Тыхо! Пикнешь — умрош! Сын умрот, охрана умрот, все умрут. Ти этого хочеш?
Женщина замотала головой, замычала. Никитин подтащил ее к креслу, стоявшему возле журнального столика, толкнул в него, не отводя пистолета от ее лица. Она быстро хватала открытым ртом воздух. Лицо у нее было белое. Видимо, она была в шоке.
— Успокойся, тыхо! — шептал ей Никитин. — Казбэк, — глянул он на меня, — к дверы! Следи за корыдором! — И снова жене генерала: — Жыть хочешь, а? Хочешь, чтоб сын жыл, дочка, внук, а? Говоры!
Женщина смотрела на него побелевшими глазами. Она была в полуобморочном состоянии. Слова вымолвить не могла, безмолвно шевелила губами и хватала воздух ртом.
— Казбэк, иды перережь малчику горло!.. Нет, тащи его сюда! Здэс выколи глаза, отрэжь язык, перережь горло. Пусть она смотрыт! Раз хочет…
Я решительно шагнул к двери, сделал вид, что иду за сыном, хотя понимал, что не нужен он Никитину, что он пугает мать. И это сработало. Актерами мы были хорошими.
— Нет! — опомнилась наконец, вскрикнула женщина, рванулась ко мне, но Никитин снова швырнул ее в кресло, зажал рот ладонью и ткнул глушителем пистолета ей в нос.
— Тыхо!.. Казбэк, не ходы! Она хочет, чтоб сын жыл. Мы тоже не хочэм его убывать! Зачэм? Пусть жывет… Слуши, женщина! Ты понымаешь меня? — Никитин отнял руку от ее рта.
Жена генерала испуганно закивала.
— Харашо, слушай тогда… Выбырай: или убьем сын, дочь, внук, зять, генерал, охрана и ты тоже, или одын генерал умрет. Выбырай! Не торопысь. Нам спэшыт нэкуда. Ночь длинна! Думай… Успокойся… — Никитин замолчал, сел в кресло с противоположной стороны журнального столика, не опуская пистолета с глушителем.
Наступила тишина. Слышно было только быстрое испуганное дыхание женщины. Я стоял у двери, прислушиваясь к тишине в коридоре, и наблюдал за женой генерала. Она постепенно приходила в себя. Медленно повернула голову к Никитину, взглянула на его страшную черную маску. Он быстро прищурил глаза, заговорил:
— Успокоилась? Харашо! Понымаешь, генерал все равно умрот, а малчик маладой, зачэм ему умырать? И дочь, и внук пусть жывут. Как решишь, так и будэт…
— Где охрана? — хрипло прошептала жена генерала.
— Спыт… пока спыт… Если решышь, оны умрут…
— Что я должна… — еле выдавила из себя женщина.
— Пистолет генерала где?
— У меня… в сумочке…
— А сумочка где?
— В спальне…
— Харашо. Идем в спальню, ты стрэлнешь в генерала. И все! Мы уйдем… А ты скажешь охране, что поссорилась с мужем и в ярости застрэлила его, суд тэбя оправдает. Скажэшь — нэ помню, нэвмэняема была…
— Нет — нет! — вскрикнула женщина.
— Тыхо, тыхо! А деты, а внук? Хочэшь, чтоб мы и генерала, и их, да?
— Нет, нет! — слезы текли по щекам жены генерала.
— Ну вот, харашо! — Никитин поднялся, потихоньку, спокойно взял ее за руку и поднял с кресла.
— Пошли!
Жена генерала еле передвигала ноги. Лицо у нее было искажено, в слезах. Я боялся, что с ней случится истерика, и она упадет в обморок. Мы вошли в спальню. Никитин осторожно, старательно прикрыл дверь, нашарил рукой выключатель на стене и щелкнул им. Небольшая люстра розоватого цвета мягко осветила комнату, спящего генерала, лежащего в постели на боку лицом к стене. Волосатая рука его лежала поверх одеяла. Он даже не шевельнулся, когда вспыхнул свет. Дышал спокойно, тихо.
— Эта сумочка? — указал Никитин на коричневую дамскую сумку на комоде. Говорил он шепотом. — Бэры пистолет! — подвел он за руку жену генерала к комоду. — Бэры, бэры! Сама! Деты будут жывы, внук жыв! Бэры!
Женщина сунула дрожащую руку в сумочку и вытянула оттуда небольшой пистолет.
— Вот так! Маладэц, — ласково, как ребенку, говорил ей Никитин. — Пошлы! — потянул он ее к кровати, к спящему мужу. — Снымай с предохранытэла! Стрэлай в голову! Жмы!
— Нет, — с ужасом в голосе прошептала жена генерала и обмякла, стала валиться на пол, уронив пистолет. Он упал на коврик у кровати, глухо стукнув. Никитин успел подхватить женщину, не дал ей упасть.
— Нэхарашо, — шептал он, помогая жене генерала устоять на ногах. — Смотры, это просто! — он быстро нагнулся за пистолетом, подхватил его с коврика рукой в тонкой кожаной перчатке и сразу выстрелил в висок генерала. Выстрел хлопнул в тишине, показалось мне, оглушительно, хотя я знал, что хлопок из этого пистолета звучит не громче упавшей со стола книги.
Генерал дернулся один раз, как под током, и замер. Маленькая дырочка, возникшая на его виске, мгновенно потемнела, набухла. Темная кровь тонкой струйкой побежала по лбу на подушку. Жена генерала тонко вскрикнула и безвольно опустилась на пол, на коврик, в то место, где только что лежал пистолет.
— Всо! — наклонился над ней Никитин, но тут же, будто вспомнил еще что-то, проговорил. — Нэт, ещо чуть-чуть! — подхватил он жену генерала под мышки, поднял с пола. — Дэржи пистолэт, брось его в окно! Зачэм он тэпэр…
Вероятно, Никитин опасался, что вдова генерала в шоке может застрелиться. По-моему, это было бы неплохо: убила мужа и застрелилась сама. Но, видимо, в замысел Никитина это не входило. Он всунул в руку женщины пистолет и заставил выбросить его в открытое окно.
— Тэпэр всо! — сказал Никитин, отпуская женщину. Она снова опустилась на пол возле окна. — Запомны, жэнщына: скажешь, что были мы, умрут дэты! Скажи, что рэвновала генерала, ссорилась, невмэнаема была, нэ помнышь, как стрэлала… Поняла, да?.. Казбэк, пошлы!
Мы как змеи, бесшумно соскользнули по лестнице вниз, тихонько прикрыли входную дверь, промелькнули по освещенному участку дачи и растаяли во тьме.
— Ох, и шум будет завтра! — весело и возбужденно сказал Никитин приглушенным голосом, когда мы торопливо подходили к лесопосадке, где была спрятана машина.
— Представляю, — отозвался я. — Как думаешь, возьмет она на себя, не расскажет?
— У нее выхода нет… Она ведь прежде всего мать, страх за жизнь детей сильнее всего. На себя ей теперь наплевать… А заговорит, на чеченцев спишут, мол, отомстили генералу. Ты же видел, она все время в шоке была. Уверена, что чеченцы были…
Весь следующий день я не отходил от телевизора, слушал репортажи телелакеев с дачи знаменитого генерала, которого спящим застрелила в постели собственная жена.
Кто-то подкинул версию, что она состояла на учете в психушке, и журналисты радостно подхватили ее. А сын генерала, подросток, оказывается, был эпилептиком. Генерал был несчастлив в семейной жизни.
Я посмеивался, слушая это, вспоминал действия Никитина на даче. Я там был лишь статистом, теперь только вспомнил, что на даче я ни слова не произнес. Говорил и действовал один Никитин, гений злодейства.
Сам Хозяин высказался по поводу смерти оппозиционного генерала, потребовал от шефа провести расследование убийства оперативно, гласно, объективно.
Убить Ельцина
Рассказ
Успокоился майор Разин только тогда, когда истребитель «МИГ» легко промчался, проскользнул по бетонке и взмыл вверх. Майора привычно вдавило в кресло, привычно мелькнуло серебристое от зимнего солнца облачко, и перед глазами застыло белесовато-голубое постепенно темневшее небо. Разина охватил вдруг восторг: он жертвует собой ради России, ради своего народа. Все продумано, подготовлено. Была уверенность, что он идет на благое дело. Кто, если не он?! — пронеслось в голове. И все же глубоко-глубоко в душе была тревога.
В наушниках раздался голос капитана Пугачева, который всегда летал с ним в паре на своем «МИГе». Майор Разин на мгновение представил, увидел как бы с земли: два серебристых истребителя, словно невидимым канатом привязанные друг к другу, с ревом несутся над землей вверх. Привычная картина для этих мест. Майор ответил капитану, что слышит его, все идет нормально, ложимся на заданный курс. Разин с удовлетворением отметил, что говорил совершенно спокойно. Он понимал, что потом, когда извлекут из-под обломков «черный ящик», будут десятки раз прокручивать ленту, вслушиваться в его слова, в интонацию, искать волнение, суетливость, дрожь в голосе. Он был спокоен, уверен в себе. Ничто не мешало задуманному. Через три минуты нужно будет поворачивать в сторону Москвы.
«Интересно, послушается ли капитан Пугачев приказа сбить его? Дрогнет ли у него рука?» А приказ непременно последует, когда на командном пункте поймут, что он затеял. Майор Разин и капитан Пугачев дружили семьями. Жены их учительствовали в одной школе. Младший сын Разина Игорек учился во втором классе вместе с дочерью Пугачева Иринкой.
Вспомнилось, как неделю назад Игорек приплелся из школы необычно молчалив и грустен. Вяло поставил ранец с учебниками возле тумбочки и закрылся в спальне. Разин понимал, что от одной картошки и капусты, которыми, слава Богу, снабжала теща из деревни, от такой еды изо дня в день радости детям мало. Не повеселишься на голодный желудок, не порадуешься. У него росла еще старшая дочь Машенька, недавно ей исполнилось одиннадцать лет. Раньше, когда зарплату платили и в продуктах недостатка не было, она была жизнерадостной, смешливой. А с недавних пор стала книжницей, тихоней, старалась не беспокоить попусту мать с отцом, занятых поисками куска хлеба. Учителям три месяца уже не платили зарплату, и он, майор, высококлассный летчик, страж Отечества, забыл, когда в последний раз получал зарплату. Но его семье еще не так тяжко, помогает деревенская бабушка. Прежде, когда платили пенсию, она подбрасывала деньжат. А теперь и ей несладко. Спасибо за картошку с капустой! А как Пугачевым живется, страшно подумать! И сколько еще таких терпеливых пугачевых по России!
Увидев Игорька на редкость унылым, Разин обратился к жене Светлане Михайловне:
— Что с ним? Случилось что? Двойка?
— Нет… — ответила жена. Она недавно вернулась из школы, готовила обед, доставала квашенную капусту из холодильника. — Может, его поразил обморок Иринки Пугачевой?.. Понимаешь, — Светлана Михайловна поставила тарелку с капустой на стол. Разин с отвращением вдохнул надоевший кислый запах, — вызвала я ее к доске, она два слова произнесла и вдруг к стене прислонилась и поползла, поползла по ней вниз, колени подогнулись и кувырк на пол, как подбитая синичка… До сих пор в голове стоит стук от ее удара затылком о паркет… — Светлана Михайловна отвернулась к холодильнику и вытерла щеку ладонью. — Я думала — умерла!.. Голодный обморок… От голода она вся прозрачная стала, светится. — Сама Светлана Михайловна была такая же прозрачная. Выступившие скулы обтянуты голубоватой кожей.
— Долго это будет продолжаться?! — вдруг неожиданно громко, с отчаянием воскликнула она. — Долго нас будут мучить? Издеваться над нами? — Она зарыдала и села на табуретку.
«Недолго! — мрачно подумал Разин. — Я остановлю изверга!»
Он ничего не сказал, прижал к себе жену, погладил по волосам, успокаивая, потом молча пошел в спальню к сыну. К этому времени он уже решился, обдумал, как будет действовать, ждал подходящего момента.
Игорек лежал в одежде на кровати и уныло смотрел вверх, на белый потолок. На отца не взглянул. Он считал всех взрослых трусами. И своего отца тоже. В груди Разина тягостно заныло от бессилия, от невозможности помочь своим детям, своей семье. Она сдавил свою грудь рукой и сел на кровать у ног сына.
— Грустно, сынок? — прошептал он.
Мальчик взглянул на него набухшими влагой глазами.
— Ты помнишь свой рисунок? Тот… с Кремлем и самолетом?
Игорек кивнул, еле двинул головой по подушке.
— Я ЭТО сделаю! — быстро прошептал Разин и добавил: — Скоро!
Мальчик вдруг вскочил с кровати, обхватив отца руками, прижался к его животу и затрясся в беззвучном плаче.
— Она тебе нравится? — гладил он сына по голове. — Мне тоже нравится… Хорошая девочка…
Месяца два назад, в сентябре, в начале учебного года, Разин поинтересовался, чем занимается сын, что он так усердно рисует за столом. Подошел. Смотрел из-за спины мальчика, как он старательно рисует на чистом листе истребитель, кремлевскую стену, башню. Самолет с красной звездой на хвосте устремил свой острый нос прямо на кремлевскую башню. Он него пунктиром идет линия. Истребитель атакует Кремль.
— Почему фашист с красной звездой? — поинтересовался отец.
— Это не фашист, — тихо сказал Игорек.
— Почему он тогда стреляет в Кремль?
— Это я… Я вырасту, стану летчиком и застрелю президента, — прошептал, не оборачиваясь, мальчик.
— Зачем?
— Он ограбил народ! — уверенно и быстро ответил Игорек. — Он не дает зарплату, и нам есть нечего. Он обманывает всех, разорил страну и всех людей. Иринка вчера ужинала только чаем, без сахара. Пап, можно я завтра возьму Иринке пирожок с капустой? Всего один? Ладно?
— Бери, бери! — Разин сильно прижал голову сына затылком к себе. — Кто тебе сказал, что президент ограбил народ?
— Все так говорят.
— А ты не говори.
— Но все знают…
— Пусть.
— Ты боишься? — прошептал Игорек.
После этого разговора Разину впервые пришла в голову мысль убить президента, освободить русскую землю от этого монстра, изверга. Россия без него воспрянет, поднимется, расцветет.
В те дни президента России готовили к операции. Жил он в Барвихе. Трудно было узнать, где, в каком доме и в какой комнате он находится. И была надежда, что президент загнется во время операции, сам освободит Россию. Поговаривали, что организм его отравлен алкоголем. Слишком веселая пропойная жизнь у него была.
Весь военный городок замер в нетерпеливом ожидании, когда передали по радио, что началась операция. Умрет или выживет? — гадали с надеждой, готовясь чуть ли не к всеобщему праздничному гулянию в случае известия о его смерти. Но надежда, как всегда, обманула. Монстр выжил.
Майор Разин начал разрабатывать план его уничтожения. План был прост. В тот день, когда президент приедет в Кремль на встречу с кем-либо, а майор будет в воздухе на боевом дежурстве, ему надо будет пробиться к Кремлю и освободить Россию. Разин вызнал, куда выходят окна президента. Главное — пробиться к Кремлю. Сделать это можно, если лететь над самыми крышами Москвы.
И вот этот день настал. Из телевизионных новостей майор узнал, что президент впервые после операции приедет в Кремль, чтобы провести в своем кабинете рабочие встречи с руководителями страны. Момент подходящий. Все совпадало. Надо решаться на этот важный шаг, выжить после которого у него не было никакого шанса. Разин решился, собрался внутренне, ничем не выдал себя перед стартом. Осталось уйти от капитана Пугачева и поразить цель.
Привычный ровный рев моторов заглушался наушниками. Истребитель, казалось, вытянулся в воздухе, застыл. Стрелки приборов замерли в нормальном рабочем положении. Пора! Самолет приблизился к самой ближней точке от Москвы. Сердце своими ударами разрывало грудь. Майор Разин резко бросил истребитель к земле и завопил, да-да, не заговорил, не закричал, а именно завопил, вызывая диспетчера:
— Ключ! Ключ! Я — Пятнадцатый!.. Я падаю! Управление отказало!.. Я падаю! Что делать?!
Истребитель стремительно, со свистом несся к земле.
Диспетчер отозвался тут же, заговорил спокойно:
— Пятнадцатый, успокойся! Как двигатели? Постарайся взять под контроль управление! Не суетись! Время еще есть.
Майор Разин сделал вид, что ничего не слышит, беспрерывно кричал:
— Ключ! Ключ! Я — Пятнадцатый! Почему молчите? Что делать? Самолет не слушается… Земля приближается… Внизу город! Буду тянуть до конца!
Земля действительно стремительно вырастала, неслась навстречу. Двигатели ревели ровно. Все приборы в норме.
— Пятнадцатый! — раздался в наушниках голос капитана Пугачева. — Я — Шестнадцатый! Ты меня слышишь? Катапультируйся, немедленно катапультируйся!
— Ключ! Ключ! Почему молчите?.. Ключ, где ты? Что делать?.. Я катапультируюсь! Дотяну до поля и катапультируюсь!
Майор Разин кричал, а сам зорко следил за приборами. «Все! — пронеслось в голове. — Ушел из зоны действия радаров!» Он выровнял истребитель и заскользил почти по самым верхушкам деревьев. Разин слышал, как диспетчер кричал Пугачеву:
— Шестнадцатый! Что с Пятнадцатым? Катапультировался? Разбился?
— Пятнадцатый пока держится над самым городом! Думаю, протянет недолго…
— Шестнадцатый! Свяжись с ним! Может он тебя услышит. Пусть не рискует, катапультируется. Москва близко. Не дай Бог, грохнется на Москву!
«Поговорите, поговорите, время идет. Кремль приближается, — лихорадочно думал майор Разин. — Эх, если бы не было Пугачева! В части думали бы, что я уже в раю. Перед Москвой очухаются, сволочи! Прикажут капитану меня сбить. Это точно! Как он себя поведет? Поднимется ли у него рука?» — думал Разин, слушая переговоры диспетчера с капитаном Пугачевым.
— Ключ! Я — Шестнадцатый! Он меня не слышит!
— Попытайтесь еще!
— Пятнадцатый! Ты меня слышишь? Пятнадцатый! Пятнадцатый!
Вдали показалась Москва. Майор Разин представил, как две ракеты оторвутся от его истребителя и, вмиг обогнав его, устремятся в окно кремлевского кабинета президента. Выпустит их Разин наверняка, когда промахнуться будет невозможно. Поражал цели майор Разин отлично. И вслед за ракетами вобьет в окно самолет. Если президент чудом останется в живых при взрыве ракет, то непременно погибнет под обломками истребителя. Жаль, погибнут и другие люди. Невинные. Но сколько невинных душ загублено со дня воцарения президента. В одной Чечне сотни тысяч! Тысячи покончили с собой от голода и безысходности. Даже академики не выдерживают, стреляют в себя, чтобы не участвовать в ужасах этого правления президента. Миллионы страдают, живут в унижении и нищете только для того, чтобы горсточка ненасытных прихлебателей, хищно окруживших кремлевского монстра, могли наслаждаться жизнью, грабить народ, обжираться на презентациях, качать доллары за рубеж. Как хорошо было бы, если в кабинете в это время оказался и алчный хищник Чубайс! Отомстить за слезы и унижение народа, за слезы сына, за голодный обморок Иринки, за дрожащие руки и впавшие щеки жены.
«В Кремль! В Кремль!» — рвалось сердце Разина. Казалось ему, что истребитель завис над землей, хотя деревья, поля, деревушки под ним слились в сплошную летящую массу.
Света и дети! Как они узнают о его поступке? Как к ним отнесутся после этого? Что будет с ними? А если выгонят с работы Светлану, выбросят всю семью из квартиры? Такой случай был. Капитан Иванов развелся с женой, ушел в отставку, уехал из городка, а его семью выкинули из квартиры. Живи где хочешь, квартира служебная! А семью убийцы президента вышвырнут без всякого сомнения! Куда им тогда податься… Как будут жить? Чем? Кем вырастут Машенька с Игорьком? Что будет с ними, с детьми убийцы?
Вдали показались купола кремлевских соборов, а капитану Пугачеву еще не дали приказ сбивать его. Решают.
«Вместе с президентом я убью своих детей! Разрушу их судьбы!..» Вдруг вспомнился майор Сергеев. Он погиб весной, разбился с самолетом. Хоронили его как героя, а семье выделили двадцать миллионов рублей помощи. «Убью президента, придет другой, такой же, если не циничней, наглей, похабней… А может, тот же Чубайс!.. Все ни к чему, все напрасно. Внезапно отчаяние охватило Разина. Тоска! И страх! Непонятный жуткий страх да темноты в глазах. Все не так, все не так! Что делать?! Назад?.. Нет, только не назад!
Под крылом мелькали первые многоэтажные дома пригорода Москвы. Мелькнула голубая полоса реки. Майор Разин рванул на себя штурвал. Истребитель круто, стрелой взмыл вверх, сделал петлю, вошел в штопор и, вращаясь, пошел вниз. Последнее, что увидел Разин, пустынный и голый берег Москвы-реки.
Капитан Пугачев видел, как истребитель Разина врезался в берег реки, как с огнем и дымом взметнулась земля.
«Слизняк! — с горечью мелькнуло в голове капитана. — Я ж его сопровождал! Придется мне… Надо узнать, где окно кабинета президента».
Спасители России
Сатирический рассказ
— Прошу садиться, господа лакеи… простите… министры! — чуть шепелявя заговорил премьер правительства России Черномордый, хмуря брови и делая лицо строгим и важным, соответствующим моменту, хотя ему очень хотелось зевать, ночью он не выспался. Он оглядел министров за широким столом зала заседаний и продолжил: — Начинаем чрезвычайно важное для России заседание. На повестке дня один вопрос: спасение России! Дальше, как говорится, некуда. Производство стоит, и никто не знает, когда оно пойдет! Денег нет… — Черномордый запнулся, огляделся опасливо, ему даже зевать расхотелось, спросил: — Нет тут посторонних?
Кабинет министров России дружно обернулся, осмотрел зал, сунул нос под стол и облегченно выдохнул:
— Нету!
— Если Коржаков жучков не наставил, то нету! — быстро выпалил руководитель внешней разведки и тут же как-то умалился, то ли съежился, то ли скукожился, то ли прозрачным стал. Одним словом, его не видно стало в кресле за широким столом. Это никого не удивило: понятно ведь, разведка не должна быть видна. Главное для нее, во время сказать слово. И слово разведки всегда необычно. Там, где нормальный министр не только ничего не заметит, но и мысли у него не возникнет отличной от других, разведчик все приметит, тем более руководитель разведчиков.
— Коржаков пусть слушает, — милостиво разрешил Черномордый, шевельнув бровями. — Он и так все знает. У него две дискеты компроматов. Ему можно…
— Да, две дискеты это не одиннадцать чемоданов, — льстиво поддакнул министр культуры Сидор. Показалось, что министр прямо через стол лизнет Черномордого.
Он должен был любую реплику премьера восторженно поддерживать, показывать — какие гениальные мысли осеняют премьера. Сидор лучше всех знал, что культура России дала дуба, только дубовое кресло министра культуры осталось. И держался за него Сидор крепко. Зарплату министрам, в отличии от работников подведомственных ему библиотек, ни разу не задержали. Поэтому министр культуры радостно хихикнул, поддержал своего шефа и полез в кейс за курсовыми работами своих студентов. Культуры не было, работы тоже, сидеть в дубовом кресле министра и зевать было скучно. Жена ругает: полнеть начал, и Сидор от скуки взялся вести семинар в литературном институте, готовить молодых критиков, то есть будущих безработных. Книги-то не печатаются, что критиковать? На прилавках одни триллеры. Но культурный Сидор нашел, чем занять студентов: дал им задание подсчитать сколько слов используют популярные демократические писатели, триллеры которых никогда не покидают списки бестселлеров. Развернув курсовую работу своего добросовестного студента, Сидор сразу же обратил внимание на имена писателей и цифры. На первом месте стояло имя Виктора Доценко. Оказывается, в своих семи знаменитых романах о Бешеном, так любимых культурным министром, Доценко использовал аж сто пятьдесят два русских слова! Молодец! Рекордсмен! Вот так словарный запас! В пять раз переплюнул Эллочку! Надо порадовать премьера Черномордого. Он тоже восхищается романами Доценко, лично говорил автору, что всегда с нетерпением ждет новый роман о Бешеном, а когда роман попадает к нему в руки глотает его, глотает, забыв о еде, о государственных заботах, с дрожью следит за тем, как герой романа Доценко спасает Америку. Душа премьера трепещет в ожидании: спасет или не спасет Бешеный Америку? И как радостно, когда русский Бешеный становится героем США! Сидор с умилением представляет, как Черномордый вытирает слезы радости, откладывая книгу: Америка спасена! Потом премьер России берет в руки баян, наигрывает милую его сердцу мелодию «Живи, Америка!» и думает, думает с надеждой: вот скоро придет бешеный американец и спасет Россию! Как здорово будет вручать ему награду в Кремле на глазах у всего мира! Ведь США по такому случаю непременно организуют прямую трансляцию на весь мир, привлекут к зрелищу не только папуасов и бедуинов: они почти цивилизованный народ, но и доставят телевизоры в хижины вновь открытых племен в джунглях Амазонки. И все, все увидят его, ЕГО, Черномордого! Увидят воочию, как он, выставив свой огромный живот, в двубортном костюме, подметающем полами паркет Кремля, вручает орден Героя России бешеному американцу. Аплодирует весь мир, даже дикие племена в джунглях Амазонки учатся хлопать в ладоши. Эх, мечта, сладкая мечта! Эта мечта и не дала выспаться толком премьеру правительства России, потому-то и давит он зевок, когда говорит о спасении России!
Прости меня, дорогой читатель, увлекся я, увел тебя из зала заседания в бразильские джунгли. Возвращаюсь назад. Итак, зал заседания российского правительства в Белом Доме, нет, не в Вашингтоне а в Москве, в том самом Белом Доме, который собственный президент расстрелял танками. В Белый Дом в Вашингтоне тоже стреляли, правда, не президент, а какой-то бешеный американец из пистолета. И промахнулся. Белый Дом в Вашингтоне поменьше, чем в Москве. Но несмотря на это, зовут его в мировом сообществе Большой Белый Дом, а московский — малый Белый Дом. Вероятно, из-за того, что в Вашингтонском — хозяин, а в московском его наместник.
Российские министры сидят вокруг стола. Во главе — премьер Черномордый. Реплику министра культуры о двух дискетах Коржакова и одиннадцати чемоданах Руцкого, в которые можно набить тысячи дискет, премьер отметил легким кивком, мол, услышал, оценил поддержку.
— Господа, раз здесь все свои, — продолжил Черномордый, по-прежнему строго хмуря брови, — скажу прямо: дальше некуда! Доруководились… Надо спасть Россию! Или мы спасем, или спасут ее бешеные коммунисты…
— Одного нашего нет, — вдруг робко вякнул со своего места почти совершенно седой и тихий министр юстиции Ковалев.
— Кого это, вашего? — строго глянул на него премьер.
— Чу… Чу… — начал заикаться от страха почти совершенно тихий министр юстиции.
— Может, Зю… Зю… Зюганова, — грозой глядел на него Черномордый. — Вашим тут не место!
Дело в том, что Ковалев раньше тоже был коммунистом. Правда, все кто сидел сейчас в зале, тоже раньше были коммунистами, но это еще раньше Ковалева, которого взяли из коммунистической партии Зюганова в министры юстиции за его покладистый и тихий нрав. Посчитали: беспокоить не будет. И не ошиблись. Устроившись в мягком кресле министра юстиции, Ковалев так полюбил его, что перестал считать себя коммунистом, испугался, что вышибут из уютного креслица.
Министр юстиции Ковалев от грозного взгляда и страшных слов премьера совсем потерялся, прошептал в тишине:
— Не моего, а нашего…
— Это чей еще здесь Зюганов?! —Черномордый обвел взглядом молчаливый стол.
Министр юстиции Ковалев почувствовал, как седеют два последних черных волоска его чудного чуба. За короткое мгновение он из почти совершенно седого и тихого министра стал совершенно седым и абсолютно тихим министром. В тишине, которая бывает в этом зале только глубокой ночью, он смог сделать только одно: медленно поднять свинцовую руку и указать ею вдоль стола наискосок от Черномордого. Головы всех министров, как под гипнозом, повернулись в ту сторону, куда показывала рука юриста, и увидели пустующее кресло Чубатого рядом с креслом Черномордого.
— Ах, Борисыча нет! — заулыбался премьер ласково. — Слона-то я и не приметил!
Министры облегченно зашелестели:
— Чубатый! Борисыч! Борисыч!
— Не приметили потому, что его нет, — снова удачно подхихикнул министр культуры.
— Подождем Борисыча! — снова одобрительно кивнул ему Черномордый и добродушно глянул на министра юстиции. — А ты, законник, меня совсем запутал… Нашего, вашего, моего… У меня в голову черт знает, какие мысли полезли: а вдруг ты опять не наш?
Бледный и тихий министр юстиции с жалким видом ковырял ногтем стол.
— Наш он, наш! Проверено! — проявился на миг руководитель внешней разведки и, прежде чем вновь усохнуть, сделал замечание министру юстиции: — Имущество не порть!
Ковалев с благодарностью скосил глаза в сторону кресла руководителя внешней разведки и опустил руки по швам. Так он и сидел до конца заседания.
Появился Чубатый. Распахнул дверь, по-хозяйски прошагал к своему месту рядом с премьером и кинул свою папку на стол. На робкий вопросительный взгляд Черномордого, бросил быстро:
— Начальство не опаздывает, а задерживается!
И в знак хорошего расположения потрепал по широкому плечу маленького премьера и проговорил всем:
— Был у Леонида Устиновича…
— У кого? — испуганно сорвалось с языка премьера. Он служил Леониду Ильичу Брежневу, Константину Устиновичу Черненко, Михаилу Сергеевичу, но об Леониде Устиновиче слышал впервые, и испугался, содрогнулся, что это за монстр такой?
— У президента, — кинул ему Чубатый.
— И как он? — вытянулся Черномордый, пожирая глазами Чубатого.
— Крепнет час от часу! Как сказочный богатырь, не по дням, а по часам здоровеет. Врачи в один голос говорят: в мировой практике такого не было!
— А ты говоришь: меньше пить надо! — шепнул министр сельского хозяйства своему шефу вице-премьеру. — Спирт — великое дело! Если бы землю спиртом поливать, представляешь, какой урожай был бы. Мы бы сами Канаде пшеницу продавали… У меня с собой бутылец финской водки, шлепнем после заседания?
— Дельное предложение! — так же шепотом похвалил вице-премьер. — Всегда бы так!.. а счас тихо, давай послушаем о Леониде Устиновиче… тьфу ты! о Борисе Николаевиче…
— А если крепнет президент, значит, крепнет и Россия! — патетически закончил доклад Чубатый.
— Зачем же тогда ее спасать? — брякнул министр культуры.
— Кого спасать? — не понял Чубатый.
— Россию…
— А на хрен ее спасать?
— Тема у нас такая, — пытался пояснить Сидор.
— Где?
— Заседание такое хотелось провести, — робко пояснил Черномордый.
— А с Борисовной посоветовались?
— Мы потом ей хотели доложить…
— Потом-потом обратился котом, — недовольно буркнул Чубатый. — Ей Березовский теперь уж давно доложил… Вечно вы вперед батьки…
— Вперед матки, — угоднически поправил министр культуры.
— Ну да, — согласился Чубатый.
— Раз уж собрались, а Россию спасть не хрена, — повторил Черномордый слова Чубатого, — давайте хоть подумаем о народе, как накормить его?
— Хрена ли о нем думать, — снова возразил Чубатый. —У него, что своей головы нет? Северные корейцы сами додумались: рвут траву и едят. И сыты! А у русских, что, рук нет? Чего бестолку болтать! Давайте лучше подумаем, как последние заводы приватизировать. Вот это вопрос!
— Но это вопрос Березовского, — вставил свое слово хорошо осведомленный во внутренних делах министр внутренних дел Коликов. —Чего нам вмешиваться, он один его решит. А если ему надо, семерку банкиров, друзей своих, подключит.
— Это верно… Меняется все быстро, не успеваю я, — согласился Чубатый. — Что вы тут о народе хотели сказать, давайте начинайте! — разрешил он вести заседание Черномордому.
— Конечно, народ есть хочет… а раз зарплату мы ему не даем, можно посоветовать народу переходить на подножный корм, есть траву. Но вот вопрос: летом трава растет, а зимой ее снегом закрывает, откапывать надо, да и не так питательна трава зимой… Калориев мало…
— Ну вот, — перебил Черномордого Чубатый. — Мы еще о калориях думать должны. Мы, что, власть или диетологи?
— Начнем? — шепнул министр внутренних дел Коликов своему соседу председателю Федеральной службы контрразведки Кывалеву. — Давай… Я себе еще в машине заготовил, — ответил шепотом Кывалев.
— А я еще раньше, в кабинете, — похвастался Коликов.
— Где бы ты не готовил, все равно проиграешь! — усмехнулся уверенно главный контрразведчик Кывалев.
— Бабушка надвое сказала… Сегодня твоя не пляшет, — хорохорился главный милиционер Коликов, с азартом думая, что сегодня удача должна быть на его стороне. «Почему, ну почему я ни разу не выиграл в «морской бой» у председателя Федеральной службы контрразведки? Что он за везунчик! Должен когда-то я выиграть или нет? Накладно после каждого заседания правительства раскошеливаться на коньяк «Наполеон». Это не Кывалев, а Наполеон какой-то! Но и на каждого Наполеона есть свое Ватерлоо. Сейчас, пока Черномордый будет болтать о народе, я устрою Кывалеву Ватерлоо!»
Они на коленях под столом развернули листки в клеточку с начерченными полями для боя и кораблями. Коликов дал залп первым.
— Б — три! — прошептал он.
— Мимо! — откликнулся Кывалев и бабахнул в ответ в угол: — А — один!
— Мимо! — ликующе шепнул министр внутренних дел. — И я в ответ: А — один!
— Сгорел!
— Вот так! — возликовал Коликов. — Я тебе счас разделаю!.. А — десять!
— Цыплят по осени считают… Мимо!
А заседание шло своим чередом. Черномордый говорил:
— Конечно, считать калории не наше дело, но как быть-то, как быть? Трава-то под снегом. Мы же не Панама какая-нибудь где вечное лето, где круглый год трава…
— В деревне траву заготавливают на зиму, сушат ее, потом складывают в омёты, — подсказал министр сельского хозяйства, думая, скорее бы эта еженедельная трепотня заканчивалась: выпить охота. Не каждый день с вице-премьером пьешь! Сегодня между стаканами он хотел попросить вице-премьера командировать его в Голландию на стажировку по выращиванию тюльпанов. Министр глядел в будущее. Скоро сельское хозяйство совсем зачахнет, последние старики в колхозах вымрут, и они закроются. Cельское хозяйство в России будет упразднено, а значит, кресло у него отнимут. Оно больше не понадобится. И министр решил загодя научиться выращивать тюльпаны. Она всегда в цене. Их даже из Армении возят. Денег-то сколько прокатывают. Надо научиться выращивать их на месте, и всегда будешь при деньгах. Без водки не останешься.
— Во что траву складывают? — не понял его Чубатый.
— В омёт… ну, в стог, значит, — растерялся министр сельского хозяйства.
— Так бы и сказал, а то омёт-помёт… Как ее, сухую траву, есть? Зеленую, куда не шло… Я сам зеленую петрушку и кинзу с черной икоркой люблю. Но если кинзу высушить, то ее и с семгой не прожуешь. Я же не рыжий жеребец!
Министры благодушно хохотнули, засмеялись над удачной шуткой Чубатого. Он был рыжий, с удлиненным лицом, как у лошади.
— Да, да, дело сложное, — подхватил Черномордый. — Не зарплату же народу платить. Это же смешно! Народу-то сколько, попробуй дай всем зарплату да пенсию…
— Может быть, нам подумать надо, как уменьшить количество народа, — поднял голову от своего листка на коленях Председатель Федеральной службы контрразведки, бывшей КГБ, Кывалев, и тут же шепнул Коликову: — Е — восемь!
— Сгорел! — огорченно фыркнул министр внутренних дел, вычеркивая с поля боя катер.
— Правильно говорит господин Коликов, сгорим мы на этом пути, — не поддержал Кывалева Черномордый. — Народ не поймет, скажет, снова сталинизм пришел. Иной выход нужен… Давайте искать!
— А если наш народ без помощи сталинизма, а сам! — старался поскорее закончить дискуссию министр сельского хозяйства.
— Как это, сам? — не понял Чубатый.
— Как ядерный академик, пук! — настаивал министр себе палец в висок.
— Дельная мысль! — поддержал Чубатый. — Надо посоветоваться с Борисовной!
— Но как это технически сделать? — спросил премьер. — Пистолетов не хватит… А выдашь всем, глядишь они нас пук-пук!
— Зачем пистолеты? Веревка у каждого найдется, — подсказал находчивый министр сельского хозяйства, и вдруг с тревогой подумал: «Если все воспользуются веревкой, кому тогда тюльпаны продавать? За рубеж? Там голландцы рынок захватили! Конкуренция высокая! Эх, зря я с веревкой… А что я испугался! «Новые русские» останутся… Им буду продавать!.. Надо отстаивать свою идею, пока Чубатый поддерживает, а он Борисовну убедит, а она Леониду Устиновичу… тьфу ты! президенту внушит!.. Надо будет потом Чубатому и Борисовне тюльпаны каждый день бесплатно присылать, чтобы они своим друзьям, «новым русским», рекомендовали покупать у меня. С их помощью можно будет и на зарубежные рынки выйти. Ведь у них у всех двойное гражданство!»
— Веревка — это хорошо! — подхватил его мысль премьер, почувствовав, что ее разделяет Чубатый. — Но как убедить народ, чтобы он ею воспользовался?
— Проще некуда! — в ударе был министр сельского хозяйства. — Позвать телевидение. Киселева с НТВ, Сорокину, Сванидзе, объяснить им, что в целях демократии надо с восторгом и радостью сообщать о каждом случае пользования веревкой или пистолетом, и каждому удачному пользователю веревкой присваивать звания Героя России. Не жалеть указов! А наш народ свято верит телевидению. Все будет о’кей!
— Это же сколько орденов надо. Отлить их денег стоит, — засомневался председатель Центробанка. — У меня таких денег нет!
— А зачем всем ордена вручать! — горячо отстаивал свою идею министр сельского хозяйства, видя, что Чубатый с интересом слушает спор. — Пожал руку, поздравил и хорош!
— Кому пожал руку? — улыбался председатель Центробанка.
— Удачливому пользователю веревкой… Герою…
— Где? В гробу?
— Да верно! — почесал затылок автор идеи и вскинул палец. — Тогда проще… Указ в газету, поздравления по телику: Сорокина мило улыбается, радуется… Киселев мужественно поздравляет… Наш народ свято верит телевидению! Вот увидите: две недели обработки, и Сорокина с Киселевым круглые сутки с экрана сходить не будут, читать списки Героев и поздравлять всех еще не воспользовавшихся веревкой с успешным шествием демократии по России… Вперед к победе демократии! — выкинул вверх кулак министр, надеясь, что на этом заседание закончится. Нетерпелось выпить.
— Дельно, дельно, — задумчиво проговорил Чубатый, покачивая рыжей головой. — Уверен, Борисовна одобрит… Но давайте глянем с другой стороны… Если весь народ воспользуется веревкой, а я в этом не сомневаюсь, он у нас доверчивый и терпеливый, но кто же будет нас кормить? Откуда мы зарплату возьмем?.. Что-то непродуманно… Может, послушаем по этому вопросу нашего юриста, министра юстиции Ковалева?
Застывший с руками по швам министр юстиции встрепенулся, испуганно брякнул:
— Я молчу! Я всего лишь юрист, а не сын юриста, чтоб говорить и по каждому поводу свое мнение иметь… Сын подрастет, он будет сыном юриста, он скажет…
— При чем тут твой сын, у тебя спрашивают, как по закону, — снова грозно смотрел на него Черномордый и снова прятал от него глаза Ковалев.
— Я… как Борисна… — пролепетал министр юстиции. — Как скажет она, так и закон…
— Это другое дело! — смягчился Черномордый. — А то бормочет: сын юриста! Нам одного сына юриста хватит!.. Еще идеи есть?
— Может, попытаться денег найти, чтоб народ накормить, — бойко подал голос недавно назначенный первым вице-премьером кучерявый Немец.
— Где ты их найдешь? Печатать Международный валютный фонд запрещает. А где их еще взять? Они на деревьях не растут…
— Нам надо вспомнить, без чего человек, кроме еды, не обходиться, — не успокоился кучерявый Немец.
— Без чего это?
— Куда не зарастет народная тропа! — по-солдатски хохотнул министр обороны.
— Нам на этой тропе капканы, что ли ставить? — ехидно ухмыльнулся премьер.
— Я не об этом, — продолжал уверенно и напористо кучерявый Немец, — опыт в начале перестройки был удачным. Тогда в каждом туалете посадили по бабушке, и они денежки собирали с каждого входящего… А теперь надо нам охватить все население, в каждой квартире нужно сделать платный туалет. Пока жетончик не бросишь, дверь не откроется. Стоимость жетончика сделать десять тысяч рублей… Представляете, сколько денег каждый день! Вот вам и Россия спасена, и народ сыт. И веревка не нужна…
— Ну да, — скептически перебил его министр сельского хозяйства, чувствуя, что об идее его забывают. — Русский народ обмануть захотел! Закрой туалет в квартире, а он в кухне в мойку поссыт, а в ведро посерет, да еще с балкона тебе на голову выплеснет. Представь, как Москва до самого Нью-Йорка вонять будет… Лужков на это не пойдет!
— Да! — нахмурился Чубатый. — Лужков как камень на пути… Думать надо дальше, думать! — посмотрел он на кучерявого Немца. — Ты министр молодой, имеешь право ошибаться!
— Министр молодой, а лакей старый! — усмехнулся про себя министр культуры Сидор, отвлекаясь от курсовых работ. Он только что узнал из одной работы своего ученика, что писатель Новогородский умудрился написать роман на пятьсот страниц, используя пятьдесят девять слов. Сидор с завистью размышлял, что имя этого знаменитого и почитаемого в демократических литературных кругах писателя-стилиста теперь попадет в книгу рекордов Гиннеса. И вдруг министру культуры пришла в голову идея новой книги. Он увидел ее в своем воображении, увидел золотые буквы на переплете: Евгений Сидор. «Новый Лев Толстой явился, или Богатство русского языка в бестселлерах Виктора Доценко». И написать эту книгу надо непременно, используя не больше пятидесяти двух русских слов.
Вот тогда именно его имя засияет на страницах книги рекордов Гиннеса. «Ах заманчиво! Как заманчиво!» — пела душа министра культуры.
А в «морском бою» Председатель ФСК Кывалев вновь готовился праздновать победу над министром внутренних дел. Последний корабль Коликова горел синим пламенем. Еще одна бутылка «Наполеона» пропала.
— Почему тебе так везет, а? — огорченно шепнул милиционер Коликов контрразведчику Кывалеву.
— Воевать надо уметь!
— Я тебя и так, и так… И в твою мать! И в Бога мать! А ты не горишь!… Все таки я тебя разгромлю!
— Когда разгромишь, я сразу ящик коньяка выставлю! — засмеялся Председатель Федеральной службы контрразведки.
— Я, должно быть, уже не меньше пяти ящиков поставил, — огорчался Коликов.
— И на этом не закончится… Заседание продолжается!
Председатель ФСК Кывалев был непобедим потому, что на своем поле он всегда не дорисовывал одного катера, занимавшего всего одну клеточку. И сколько ни палил министр внутренних дел, сжигал все авианосцы, крейсера, миноносцы, катера, но один катер всегда оставался. Попасть в то, чего нет, невозможно. И только тогда, когда у Коликова загорался последний корабль, Кывалев быстро дорисовывал у себя на свободной клетке катер. Проиграв, Коликов брал Кывалевский листок, разглядывал его поле, испещренное разрывами снарядов, и с сожалением говорил о той клетке, где был только что нарисован катер:
— Как я хотел долбануть в эту клетку, дурак, не стал! Ну, ничего, в следующий раз я тебя непременно расшлепаю… — огорченный министр внутренних дел не слушал Черномордого, который вопрошал:
— Какие еще предложения?
И вдруг снова проявился руководитель внешней разведки.
— Есть у нас товар, который вне конкуренции во всем мире! — веско заявил он. — Во всем мире, все, кто работают в этом бизнесе, даже не русский товар выдают за русский!
Шелест прошел по залу заседаний: неужели такое существует? Может ли такое быть? Можно ли поверить? Но произнес такие слова не Зюганов, не Жириновский и даже не Бабурин, а главный разведчик России. Значит, что-то такое есть. Что? Что это такое? Неужели спасены? Шепот, шелест, шорох стоял над широким и длинным столом.
— Что же это? — не выдержал Чубатый.
Все замерли, ожидая ответа.
— Наши проститутки!
«Ах, как верно! — выдохнул кабинет министров. — Мы о них забыли!»
— И что из этого? — спросил Чубатый.
— Думайте, анализируйте, мое дело информация! — снова растворился главный разведчик.
Наступила тишина. Все чувствовали, что созревает великая идея России, та, о которой мечтал президент, ради которой он издал свой знаменитый взбудораживший все общество указ о поисках единомыслия в России.
— Эврика! — воскликнул Чубатый.
Все с завистью смотрели на него, думали: светлая голова, хотя и рыжая! Счастливчик! Всегда опередит!
— Как действуют процветающие народы? — важно заговорил Чубатый. — Они развивают то, в чем конкурентноспособны. Возьмите японцев. Что они делают?.. Они развивают ту промышленность, где они впереди: электроника, автомобилестроение, банковское дело! И все!.. И мы должны следовать этим мировым экономическим законам. Наше дело — проституция! Я сам читал, что иностранные проститутки у себя на Родине учат две-три русские похабные фразы, чтобы убедить клиентов, что они из России. Так их быстрее снимают… Вот она объединяющая российская идея! — воскликнул он. — Вот наш лозунг: весь российский народ в проститутки! Проституция — это слава российского народа!.. Мы подключим все каналы телевидения для пропаганды этой идеи, все газеты! Некоторые давно уж подключились к этому доброму делу! Мы строем поведем народ в Европу, в Америку, в Азию завоевывать этот высокооплачиваемый бизнес. И на этом пути мы обогатимся, вольемся в ряды цивилизованного мира, выбьем все козыри из рук оппозиции. Весь народ еженощно будет получать зарплату: отработал — получи, и как положено, сдай налог государству! Россия станет богатейшей страной мира! Да здравствует, проституция! Я уверен: Борисовна одобрит этот лозунг!
— Проститутки-то бабы, а как же мужики? — робко засомневался министр сельского хозяйства.
— Газеты надо читать! — оборвал его Чубатый. — Разве не слышал, что по миру ширится движением голубых. В США только по официальным данным голубых десять процентов, а в действительности значительно больше. Многие стесняются признаться. Мы разобьем это предрассудок! Накроем своими голыми жопами и Европу и Америку!.. Не откладывая будем готовить первый десант… Товарищ генерал, — обратился Чубатый к министру обороны, — приказываю завтра же бросить в армию лозунг: каждый солдат — голубой!
— Есть! — вытянулся министр обороны.
— Слушай второй приказ! Объявить среди демократических поэтов конкурс на лучшие слова для гимна воздушно-десантных сил под названием: мы голубые, как наше небо!
— Есть! — попытался щелкнуть каблуками министр обороны, но вышло это у него по-старчески неуклюже. Да к тому же он чуть не упал, задев носком сапога за ножку кресла.
— И готовьте воздушный десант кантемировцев в веселый город Амстердам. Я уверен, после этой операции перестанут звать кровавым нашего самого демократического генерала Овневича, а будут звать самым сексуальным генералом. Прикажите кантемировцам, как только они с танками опустятся на берега каналов Амстердама, то пусть тут же во все люки выставляют свои голые задницы. Пусть каждый прохожий гей бесплатно ими пользуется. Это будет десант рекламы наших голубых способностей!
— Есть! — гаркнул хрипло министр обороны.
— Вы увидите, как наши проститутки и проституты завалят Россию долларами, — продолжал Чубатый. — Главное, следить, чтобы никто, ни один россиянин не отлынивал, ежедневно оттачивал свое мастерство в деле проституции. И мы победим!.. Смело утвердим формулу России, над которой бьются годами великие умы человечества. Она станет всем ясна, не будет в ней никакой тайны. Каждый ребенок, едва научившись говорить, будет легко отвечать на вечный вопрос: что такое Россия? Он скажет: Россия — это демократическая власть плюс проституцизация всей страны! У меня все!
Министры дружно зааплодировали, задвигались, заулыбались радостно те, чьи амбиции были удовлетворены министерскими креслами, а те, кто считал, что потолка своего не достиг, улыбались кисло, завистливо думая: «Вот рыжий черт! Отыскал все-таки объединяющую идею, выполнил блестяще задание президента! А почему не я? Как же мне в голову не пришло? Ведь знал, читал, что наши проститутки вне конкуренции за рубежом!»
Заключительное слово взял радостный премьер Черномордый:
— Ну что, господа лакеи, то бишь лакеи-министры… тьфу, устал, заработался, совсем запутался… господа министры, поработали мы славно! Формула России нас устраивает! Можно докладывать Борисовне!.. А мы все дружно беремся за дело, за великое дело проституцизации.
Смерть американца
Рассказ
Американец был зол, раздражен и растерян, но тщательно скрывал это от своих новых знакомых. Он не понимал, почему обычно любезный, разговорчивый и веселый официант ресторана был так сух с ним, делал вид, что не слышит и не понимает его острот, на зов не шел подолгу, прикидывался, что занят. Что произошло? В чем дело? Это было совершенно непонятно.
Вечер окончательно испортил сутенер. Когда Алекс Ньюмэн, так звали американца, поманил его к себе пальцем, он не вскочил, как обычно, со стула, не подкатился к нему услужливо, а медленно поднялся и лениво побрел меж столиков с таким видом, словно его только что разбудили и заставили делать что-то неприятное. Алекс хотел пошутить по поводу настроения сутенера, но что-то удержало его, и он коротко бросил, вскинув вверх свою пухлую руку с тремя растопыренными пальцами:
— Девочек, три!
Сутенер вздохнул и тусклым голосом сказал:
— Нету… Все заняты…
Алекс видел за столиками знакомых проституток. С некоторыми он был, и не раз. Они явно скучали в ожидании клиентов. Из-за них-то и привез он своих новых знакомых в этот ресторан, хотел угостить их виртуозными в сексе девочками.
— Для меня нет?! — сделал удивленное лицо Алекс, как бы намекая на то, что он всегда был щедр с сутенером.
— Именно для тебя нет! — очень серьезно ответил тот, произнося каждое слово раздельно. Глядел он на американца, не мигая и не отрывая взгляда от его круглого безбрового лица.
Алекс заметил, что охранники сутенера напряглись за своим столом и не сводят глаз с них. Скандал американцу был не нужен, и он молча кивнул, как бы соглашаясь, и отвернулся к своим новым друзьям, улыбнулся им и сказал по-английски:
— Продолжим вечер в другом… приятном месте…
Сутенер постоял возле их стола, видимо, хотел еще что-то сказать, но промолчал, повернулся и по-прежнему лениво, с каким-то вызывающим достоинством удалился. Таким Алекс его никогда не видел. Он почувствовал себя оскорбленным и решил непременно поставить это ничтожество на место.
Если бы Алекс Ньюмэн был один в ресторане, он бы ничуть не расстроился, плюнул бы на этих вшивых официантов, сутенеров, проституток и покатил бы в какое-нибудь казино, где всегда тусуются тележурналисты, и провел бы ночь весело. Но вечер сегодня был особым. Он пригласил в ресторан двух американцев, журналиста и бизнесмена, неделю назад приехавших в Москву. Алекс понимал, что оба они, так же как и он, имеют задания от спецслужб, и один из них, вероятно, бизнесмен, должен был сменить его. Ни один американец не появлялся в России без спецзадания. Алекс знал, что его работой в Штатах довольны, и надеялся получить хорошую должность в Вашингтоне. Знал он и то, что эти два американца непременно будут писать о нем в США, поэтому он хотел им понравиться, показать, что в Москве он свой не только в Кремле, но и в злачных местах. Никак не ожидал он такого непонятного отношения к себе официанта и сутенера. Поэтому-то и выходил он из ресторана злым, раздраженным и растерянным, но делал вид, что ничего не произошло.
На улице только что стемнело. Было еще жарко, пахло горячим асфальтом. На бледном небе над Москвой светили редкие тусклые далекие звезды. Большой черный джип Алекса с затемненными стеклами и с фиолетовой мигалкой на крыше ждал на стоянке. Переливающиеся огни над входом ресторана ярко отражались, играли на его полированных дверцах и капоте. Как только американцы появились на улице, джип немедленно рванулся с места и мягко подкатил к ним.
— На Тверскую, — быстро кинул Алекс водителю, садясь рядом.
На широкой залитой огнями улице водитель сам остановился в нужном месте. Алекс опустил стекло, и к нему тотчас же подскочил худой высокий парень с узким лицом и с длинными волосами, по-женски стянутыми резинкой на затылке.
— Три девочки… и побыстрей, — сказал американец, стараясь говорить без акцента.
— О,кэй! — кинул в ответ парень и исчез.
Через минуту он появился с двумя девушками. Обе они были в коротких юбках, в туфлях на высоких каблуках, отчего ноги их казались необыкновенно длинными. Обе белокуры, с мягкими правильными чертами лица, и очень хороши собой. Алексу они понравились, и он повернулся к своим гостям.
— Ну, как?
— Порядок…
— Садитесь, — сказал девочкам Алекс, указывая на заднюю дверь, и спросил у парня: — А где третья?
— Айн момент! — снова исчез тот.
— Элю возьми! Она за углом, — крикнула ему вслед одна из девушек.
В машине стало шумно. Девушки устраивались на заднем сиденье, теснили хмельных после ресторана американцев, которые сразу стали их тискать. Проститутки взвизгивали тонко и звонко, хихикали. Один из американцев вдруг громко охнул и хохотнул. Видимо, одна из девиц ущипнула его в ответ. Алекс улыбнулся, повеселел немного, думая, что девчонки попались озорные, значит, вечер должен окончиться хорошо.
Появился узколицый парень. Шел он быстро, суетливо и недовольно оглядывался назад на девушку, которая неторопливо, спокойно и как-то независимо шла следом, словно старалась показать, что к этому сутенеру она не имеет никакого отношения. Была она невысокого роста, в легком платье и босоножках, и совсем не походила на проститутку. Подошла, улыбнулась.
— Эля, давай к нам! — весело позвала из машины одна из девушек и помахала рукой в окно.
— Ага, к вам! — распахнул Алекс дверь и похлопал обеими руками по своим пухлым ляжкам. — Вот ее место! Садись, — приказал он Эле.
Она спокойно и послушно влезла в машину и устроилась на коленях у американца. Он обнял ее, крепко схватил рукой за грудь и воскликнул:
— Ух, ты, тугая какая!
— Больно же! — ахнула Эля и остреньким локтем ударила его в бок, в ребро.
— Ой, дура! — вскрикнул Алекс от боли и сильно ущипнул девушку за бедро. — Ты мне синяк поставила!
Эля взвизгнула, подскочила вверх и чуть не свалилась на водителя.
— Поосторожней, пожалуйста, а то врежемся во что-нибудь, — вежливо попросил шофер.
Дальше поехали спокойнее. Девушки на заднем сиденье хихикали, ойкали. Алекс потихоньку тер ушибленный бок, злился на Элю и думал, что, мол, заставит ее сегодня ночью попрыгать в постели, поиздевается над ней. А девушка сидела спокойно, слушала радио, по которому передавали последние новости. Диктор говорил, что американские самолеты вновь нанесли бомбовые удары по Югославии, рассказывал о пикетировании американского посольства молодежью, о том, что московские школьники, протестуя против агрессии НАТО, решили не покупать американские жвачки и сигареты.
— Вы американцы? — повернулась Эля к Алексу.
— А что? Похожи? — игриво спросил он вместо ответа.
— Ты больше на этого придурка, Жванецкого, похож…
— Почему придурка? — искренне удивился Алекс. Он действительно был похож на известного юмориста. Такой же пухленький, кругленький и лысенький. Ему всегда говорили об этом новые московские знакомые, говорили, как о его достоинстве. Алекс гордился этим, даже некоторые манеры перенял у юмориста. В девяносто втором году худой и бедный, но нахрапистый и пронырливый Алекс приехал в Москву «помогать» гайдаровским реформам. Длительное время он был советником у Чубайса, сильно разбогател на ваучерной приватизации, несколько десятков миллионов долларов ждало его в американских банках. Богатея, толстел, становился похожим на Жванецкого, пока не стал его точной копией. Сейчас впервые при нем назвали известного юмориста придурком. Поэтому он так удивился словам проститутки.
— А разве он не придурок? — ответила Эля. — Он всегда по телевизору выступает как нормальный придурок…
— Ну, ты и дура! — с непонятной злостью бросил Алекс.
С Рублевского шоссе свернули на дорогу, которая вела к двухэтажной кирпичной даче. Алекс говорил всем новым знакомым, что она принадлежит ему, а на самом деле он снимал ее у одного бизнесмена, который в первый год реформ, благодаря дружбе с Гайдаром, быстро разбогател, а когда его покровителя попросили из правительства, также мгновенно разорился. Охрана, постоянно дежурившая на даче, открыла дверь перед джипом, и машина подкатила к освещенному подъезду.
Гости расположились на первом этаже в большой гостиной с широким столом посредине и мягкими креслами у стен. Как только они шумно ввалились в комнату, со второго этажа быстро спустилась худощавая пожилая женщина, по виду очень энергичная и молчаливая.
— Петровна, мечи на стол, — приказал ей Алекс, вытирая платком вспотевшую лысину, и начал открывать окна.
В душноватой комнате сразу стало свежее, запахло сосной, лесом. Свет из окна освещал густую хвою сосновых веток. Девушки и гости-американцы расселись по креслам. Хозяин сам достал из серванта бокалы, из холодильника две бутылки шампанского и начал открывать их. Шампанское пили как воду, не чокаясь.
Петровна мягко скользила по паркету, носила из кухни тарелки с едой. Эля взялась помогать ей. Стол быстро заполнялся.
— Девочки, к столу! — весело махнул рукой Алекс.— А ты, Петровна, отправляйся домой. Мы теперь сами справимся…
За стол садились шумно. Шампанское быстро ударило в голову, и у всех было игривое настроение. Алекс развеселился, нарочно заговорил с акцентом, стал сыпать сальными словами, шуточками, непристойностями, но на душе у него все еще было смутно, противно. Он чувствовал себя обиженным, и хотелось отомстить. Но кому? За что? Девчата громко хохотали в ответ на его сальности, повторяли их и, закатываясь со смеху, падали на своих соседей, которые щекотали их, прижимали к себе, тискали и ловили губами смеющиеся губы. Вскоре американцы, разгоряченные коньяком и доступными женскими телами, стали также весело галдеть, гоготать. Удовлетворенный тем, что так шумно и хорошо проходит вечер, новые друзья должны быть довольны, Алекс усадил себе на колени Элю и стал целовать ее в шею, щекотать языком за ухом, вдыхая пряный аромат ее волос, возбуждающий запах теплого юного тела. Он не удержался от нахлынувшего на него страстного желания вдавить в себя хрупкое тело девушки и прижал, притиснул ее к себе, крепко, до боли сжал ладонью ее грудь. А когда Эля подняла к нему голову, впился в ее губы и целовал до тех пор, пока не захватило дух. Он слышал, как над ним смеялись и что-то кричали американцы. Потом один из них, бизнесмен, встал, вытер усы и поднял рюмку:
— Я слышал, что русские всегда пьют за дам. Выпьем за нашу победу над женскими сердцами!
Пьяные девушки завизжали озорно в ответ, захлопали в ладоши. А журналист, который захмелел больше других американцев, в патриотическом порыве вскочил со стула, вскинул вверх руку с рюмкой, расплескав коньяк на стол, и воскликнул:
— Россия — женщина! За нашу победу над Россией!
Американцы дружно и весело зашумели, но быстро примолкли, увидев, что девушки их порыв не поддержали.
— Есть русские, при которых ты бы никогда не произнес таких слов, — громко сказала Эля.
Алекс, по-прежнему держа ее на коленях, захохотал ехидно:
— Неужели? Я что-то за семь лет в России таких не встречал! Одни наши лакеи, начиная с президента!
— Врешь, придурок! — с яростью рявкнула ему в лицо Эля.
— Успокойся, детка! — еще ехиднее выпалил Алекс. — Россия давно наша! А все мужики ваши трусы! Мы в России хозяева!
Эля рванулась, соскользнула с его колен и шлепнулась на свой стул. А разгоряченный, возбужденный Алекс поднялся с рюмкой в руке, протянул ее над столом к американцам и громко провозгласил:
— Все в России наше — и леса, и банки, и заводы!
Американцы вскочили, заорали: «Да здравствует Америка!» Девчата пугливо молчали, опустив глаза. Журналист, опорожнив рюмку, быстро поставил ее на стол, наклонился к своей соседке, обхватил ее голову руками, впился на миг губами в ее рот, потом оттолкнул и произнес с гордостью:
— И все женщины России наши!
Эля взлетела над своим стулом и выкрикнула гневно через стол:
— Врешь, гад! Никогда не будут женщины вашими!
— Дорогуша! — снова заржал Алекс. — А зачем же вы, — он обвел рукой стол, — сюда явились? А? Ответь? — подмигнул он журналисту.
— Мы не женщины, мы шлюхи! — кинула ему Эля. Глаза ее пылали. — Это ты ответь, была ли хоть раз с тобой за семь лет в России нормальная женщина? Только шлюх и имел, да и то самых дешевых!
Она не успела договорить, как американец, гаркнув грязное слово, резко ударил ее по лицу. Эля откинулась на стул, еле удержалась на ногах. А когда он снова взмахнул рукой, чтобы еще раз ударить, девушка схватила столовый нож и резко воткнула ему в горло. Он застыл с раскрытым ртом и начал медленно валиться на стол. А Эля отбросила стул, вскочила на кресло у окна, потом на подоконник и исчезла в темноте. Только ветка сосны тревожно качнулась ей вслед. Американцы кинулись к Алексу, изо рта которого хлестала черная кровь. Он умер почти сразу.
Милиция приехала быстро. Рублевское шоссе, правительственная трасса, на каждом километре по три милиционера. Начали искать девушку, но ее и след простыл.
Следственная бригада немедленно приступила к работе. Убит иностранец, американец. Завтра все газеты напишут, все телеканалы трубить начнут. Американское посольство пришлет запрос. Вероятно, сам министр внутренних дел возьмет под контроль следствие. Поэтому свидетелей убийства тщательно допросили тут же на даче. Все четверо почти слово в слово рассказали, как и почему произошло убийство. Потом всех свидетелей повезли в милицию, чтобы по их описаниям составить фоторобот. Поначалу ни у кого не было сомнения, что Эля завтра же утром будет арестована. Но оказалось, что она появилась на Тверской недавно, работала самостоятельно, ни девушки, ни сутенер, пригласивший ее к американцам, не знают кто она, откуда и какое у нее настоящее имя.
— Товарищ майор, а где у нас альбом с фотографиями проституток, — обратился к руководителю следственной бригады лейтенант, участвовавший в допросе. — Давайте покажем сутенеру и девушкам, может быть, они ее опознают.
— Его вчера у меня следователь взял, — хмуро ответил майор. — Утром покажем…
А когда они остались одни, лейтенант сказал, разглядывая фоторобот Эли:
— Это же Лидка Белова. Я ее сразу узнал…
Майор вдруг резко выхватил листок с фотороботом из рук лейтенанта, порвал его на мелкие куски, швырнул в корзину под стол и повернулся к лейтенанту.
— Если ты ее имя произнесешь еще хоть один раз, я тебя сам пристрелю! Понял? — сказал он резко и твердо.
— Понял, — ответил лейтенант серьезно и почему-то засмеялся с облегчением.
Майор достал из сейфа альбом с фотографиями проституток, их биографическими данными и адресами, нашел Лидию Белову, вырвал фотокарточку и аккуратно приклеил на ее место фотографию другой девушки. Потом пересел к компьютеру и отредактировал фоторобот так, что он совсем перестал быть похожим на Элю. Вывел его на чистый лист, полюбовался и сказал удовлетворенно:
— Все свидетели были пьяны вдрызг. Не заметят… Завтра размножишь его и раздашь постовым на Тверской.
Убийцу американца до сих пор не нашли.
Последний бой ветеранов
Рассказ
Май. День Победы.
Конец апреля выдался жарким, деревья еще к первому мая зазеленели, выбросили клейкие листья, зацвела черемуха. Три дня были прохладными, прошел дождь. А сегодня с утра погода разгулялась. Серо-жемчужные облака высоко плыли над деревней. По улице тянуло запахом цветов с луга, легким влажным воздухом.
На теплых ступенях крыльца крайнего дома деревни с унылым лицом понуро сидел сухой, но еще довольно крепкий старик Иван Николаевич Пересыпкин. Был он в кепке, в поношенном пиджаке, в резиновых сапогах. Крыльцо, серое от древности, скособочилось, как больной радикулитом, и казалось, прислонись к нему нечаянно рукой, оно рухнет. Но у старика не было ни денег, ни сил, чтобы поправить его. «Выдержит еще года два, не развалится. Меня переживет. Скопытырюсь, сосед и дом, и крыльцо вмиг спалит, чтоб сорок соток моих прихватизировать! — говаривал старик, если кто-нибудь из односельчан советовал ему поправить крыльцо. — Недра наши присвоил, теперь нашу землю цапнуть жаждет».
Дело в том, что такой же ветхий дом умершей соседки три года назад купил никому неизвестный нефтяник. Всю усадьбу обнес трехметровым кирпичным забором, построил особняк. Вскоре ему показалось, что земли мало, что, если присоединить участок Пересыпкина, а за ним и часть луга, принадлежащего администрации деревни, то можно не только теннисный корт за забором устроить, но и маленькое поле для гольфа. Он предложил Ивану Николаевичу поменять его дом и участок на дом в Тверской деревне.
Пересыпкин удивился такой наглости соседа, ответил недружелюбно, чтоб впредь пресечь такие разговоры:
— Здесь я родился, здесь и смерти дождусь! — И повернулся, чтоб уйти в свой дом. Стояли они у крыльца.
Но нефтяник задержал его, сказал весело:
— Смерть всегда вокруг нас ходит, — и добавил твердо: — Заартачишься, придется пригласить ее к тебе в гости! Мне больше с тобой некогда разговаривать, мои ребята договор на обмен подготовят.
Вчера вечером к старику заглянули ребята нефтяника, два плечистых лобастых «быка», похожих друг на друга так, словно их на одном станке по лекалу вытачивали, в черных пиджаках с галстуками. Зашли в дом, по-хозяйски осмотрелись и спокойно предложили то же самое, что и хозяин их: обмен дома на Тверскую деревню.
— Здесь, в пятнадцати километрах от Москвы, каждая сотка стоит пять тысяч долларов, — стараясь быть спокойным, ответил Иван Николаевич. — А у меня огород сорок соток, да под домом и палисадником двадцать. А в Тверской деревне земля даром никому не нужна.
— Грамотный, — усмехнулся один «бык».
— Почему никому не нужна? — спросил-возразил другой. — Нам нужна, чтоб поменяться с тобой.
— Не буду я меняться, — задрожал от возмущения и бессилия Иван Николаевич. — Не буду, никогда!
— Будешь, — снова усмехнулся первый «бык».
— Никогда не говори «никогда», — назидательно сказал другой.
— Лучше я сдохну, чем уеду отсюда! — яростно, с негодованием воскликнул Пересыпкин.
— Это самый лучший выход для нас, — серьезно ответил первый «бык».
— Если надо, поможем, — сказал второй и добавил: — Ты, старик, чувствуем мы, не готов к деловому разговору. Завтра, с утреца, часиков в десять, заглянем к тебе, обговорим условия… У тебя выбор есть: либо обмен, что лучше для тебя; либо сдохнуть, что лучше для нас. Взвесь, обдумай за ночь.
И теперь Пересыпкин ждал ребят нефтяника, сидел на ступенях крыльца, сжимал рукой, массировал под стареньким пиджаком свою грудь с левой стороны, пытался успокоить рвущееся от тоски сердце. «Что делать? Как быть?» — с жгучей горечью думал он, пытаясь отогнать скорбную мысль, что можно покончить с этой безотрадной поганой жизнью сразу и навсегда. Лечь рядом с Анютой. Жена его Анна Михайловна умерла два года назад. Прожили они вместе пятьдесят пять лет, прожили мирно, покойно, но детей не нажили. Не дал им Бог детей. Увезут теперь в Тверскую деревню, сдохнешь там и зароют в чужой земле вдали от Анюты. Вместе жизнь прожита, и упокоиться вечным сном хотелось дома, чтоб лежать рядышком с женой. Иван Николаевич до такой степени ушел в себя, что не слышал орущих по-весеннему воробьев на высоком густом кусте сирени, приготовившемся зацвести, под окном его старенькой избы, не слышал подъехавшей и остановившейся на дороге напротив него машины, старенького «Запорожца» давнего друга однополчанина Леонида Сергеевича Долгова, Леньки. Леонид Сергеевич некоторое время весело смотрел из окна машины на Ивана Николаевича, надеясь, что тот поднимет голову, обратит на него внимание и радостно вскочит во весь высокий рост, как всегда бывало, когда он приезжал. Не дождавшись, посигналил. Пересыпкин уныло поднял голову, взглянул на друга, но даже не шевельнулся, чтобы подняться. Тогда Леонид Сергеевич стал тяжело выбираться из «Запорожца», позвякивая многочисленными медалями на пиджаке, в старости люди вес теряют, худеют, а он наоборот, отяжелел, полнеть стал, выбрался, оперся на палку и весело спросил у Ивана Николаевича:
— Ты чего такой скорбный? — И прихрамывая, как-то бочком, направился к нему: — И не в парадном мундире. Праздник ведь, наш праздник!.. Язва скрутила? — протянул он сочувственно руку Пересыпкину.
— Хуже, — вяло пожал Иван Николаевич мягкую горячую руку Долгова. — Хуже. Со свету сживает новый соседушка, — глянул он в сторону высокого забора из красного кирпича возвышавшегося неподалеку от его избы, за которым виднелась зеленая крыша особняка. — Усадьба моя приглянулась ему. Расширяться вздумал, а я мешаю. Выселить хочет в Тверскую деревню, говорит, не все ли равно тебе, где подыхать…
— Вот сволочь, а! — посерьезнел, возмущенно качнул головой Леонид Сергеевич.
— «Быки» его грозят, не соглашусь, ускорят смерть. Мол, земля моя даром достанется… И придушат, придушат, рука не дрогнет. Не я первый, не я последний…
— Дожили, ну дожили! — воскликнул Долгов. — А ты не жаловался властям? Надо рассказать, непременно рассказать!
— Кому? Нашему главе, так этот гад, — Пересыпкин снова глянул в сторону забора, — его сам поставил, кормит-поит. Ему жаловаться все равно, что этим воробьям, почирикают, да улетят. Вот и весь толк! Эхе-хе!
— Что ж, теперь руки опускать? Делай со мной что хочешь, воля и власть твоя, а я бессловесная овца, так? — загорячился Долгов. Он вообще был горячий, решительный.
— Выходит — овца! Что ты мне прикажешь делать? Что? Что бы ты сделал на моем месте?
— Да я бы… — горячо начал Леонид Сергеевич, но Пересыпкин перебил его, кивнул в сторону забора.
— Вот они, ко мне идут, поговори с ними, — горько усмехнулся он.
— И поговорю, сейчас поговорю, — бросил все также решительно Долгов и повернулся к двум накаченным амбалам в темных пиджаках, которые уверенно, неторопливо шли к ним.
— Ну, как, дед, подумал, будем подписывать? — спросил один из них, подходя.
— Погожу, подумаю, — буркнул Иван Николаевич.
— Думай быстрее, весна в разгаре, стройку начинать пора… — начал второй.
Но Долгов перебил его возмущенно.
— Ничего он не будет подписывать! — крикнул он и указал палкой на Пересыпкина. — Он здесь хозяин! Он здесь родился, здесь и умрет!
— Будет упрямиться, умрет, — спокойно сказал первый «бык», а второй спросил у Ивана Николаевича.
— Что это за шибздик?
— Это ты пустоголовый шкаф, гнилой лакей… — закричал Долгов и полетел в траву от легкого толчка в грудь второго «быка». Медали на груди его тонко звякнули.
«Бык» засмеялся:
— Ветром качает, а голос сохранил.
Долгов не по возрасту проворно вскочил и взмахнул своей палкой, но «бык» ловко перехватил ее, вырвал из рук Леонида Сергеевича, сломал о колено, откинул в сторону и снова толкнул ладонью в грудь Долгова, на этот раз посильней. Все это он проделал легко, мгновенно, играючи. Леонид Сергеевич отлетел от него метра на три, кувыркнулся по земле, испачкал свой праздничный костюм о влажную весеннюю землю. Одна медаль сорвалась с пиджака, покатилась в траву. «Бык» же повернулся к Ивану Николаевичу, спокойно сказал:
— Ладно, гуляй, празднуй. Три дня тебе сроку, в понедельник придем с договором. Глава администрации будет с нами, при нем подпишешь договор обмена.
Оба «быка» повернулись и неторопливо двинулись назад, к железной двери забора. Иван Николаевич поднялся и быстро заковылял к другу, который, как раздавленный сапогом червяк, возился на земле, тянулся дрожащей рукой к отскочившей от пиджака медали. Пересыпкин помог ему подняться, спросил сочувственно:
— Не ушибся? Руки целы?
— Я это так не оставлю! — дрожащим голосом, как-то жалко крикнул Долгов вслед «быкам».
— Напугал, — хохотнул один из них, оглянувшись на ходу. — Прямо колени дрожат.
— Вот так! — скорбно выдохнул Иван Николаевич и начал отряхивать пиджак друга. — А ты говоришь? Рабы мы на своей земле…
— Нет… мы не рабы, не рабы, — тяжело дышал Долгов. — Не за это мы воевали, чтоб над нами так измываться… Мы покажем, что мы хозяева на своей земле… а не эти оккупанты…
— Как ты им покажешь?
— Покажем, покажем!.. А сейчас поехали к Андрюшке. Он ждет… А этим, покажем, — погрозил он кулаком в сторону забора. — Защитим и твою честь, и свою.
— Ты отдышись пока, успокойся, посиди в машине. Я переоденусь, медку захвачу, огурчиков, — суетливо заторопился в избу Иван Николаевич.
Вернулся без кепки, в пиджаке, на груди которого тоже в три ряда висели позвякивали ордена и медали, только наискосок, видимо, потому, что у высокого худого Пересыпкина грудь была узкой. «Запорожец» повернул за угол дома Ивана Николаевича и затарахтел по новой асфальтовой дороге между огородом Пересыпкина и лугом к лесочку, который был неподалеку от деревни. За ним было шоссе. В лесу они уперлись в закрытый новенький шлагбаум.
— Откуда он здесь взялся? — хмуро спросил Долгов.
— Соседушка поставил. Это он дорогу заасфальтировал. Теперь не хочет, чтоб кто-то, кроме него, по ней ездил, — буркнул Иван Николаевич.
Он вылез из машины, поднял шлагбаум, пропустил «Запорожец».
Раньше каждое 9 мая они впятером встречались на площади возле Большого театра, впятером отмечали шумный весенний День победы. Воевали они в одной роте, вместе брали Берлин. После войны долгие годы не теряли друг друга из виду. Хоть не часто, но встречались. Помогали друг другу, если нужда была. Потом Антон Севастьянов умер. Стали встречаться у Большого театра вчетвером. А два года назад Андрей Алексеевич Кудрин обезножел, совсем ноги отказали, и теперь они в третий раз договорились отметить День победы у Андрея Алексеевича дома. Он ждал их. К нему должен приехать их четвертый друг однополчанин Медянцев Василий Васильевич.
По дороге в Москву, которая была всего в пятнадцати километрах, тяжко молчали. Леонид Сергеевич изредка нервно бормотал строчку из песни: «Мы за ценой не постоим…», а Иван Николаевич пытался его успокоить:
— Ты поосторожней веди машину, не волнуйся, а то не доедем. Ребята напрасно прождут…
Встретили их Василий Васильевич и Андрей Алексеевич с шумными радостными восклицаниями. Обнимались, неловко прижимали к себе по очереди сидевшего в коляске Кудрина. Полгода не видел его Иван Николаевич, и он совершенно не изменился за это время. По прежнему сияли его не стареющие глаза, по прежнему руки и плечи были как у двадцатилетнего борца, по прежнему в любую минуту шутка готова была сорваться с губ. А Василий Васильевич Медянцев немножко сдал: глаза под очками стали белесей, жиже, и кожа на щеках сильнее отвисла, делая его круглое лицо похожим на бульдога.
Из комнаты выглянул молодой незнакомый парень с доброжелательным лицом, лицом человека уверенного в себе, в своих поступках, в своем будущем. Он дружелюбно поздравил ветеранов с Днем победы.
— Это мой жилец, Игорь, — представил его Кудрин. — Тоже вояка, снайпер, как я, ветеран Чеченской войны. Орден имеет. — Андрей Алексеевич говорил о нем, как о своем внуке, с гордостью. — Теперь он со мной нянчится. Я у него под надежным крылом… На кухню, на кухню! — скомандовал хозяин, пристально вглядываясь в лица вошедших друзей, и покатил в коляске впереди.
Ветераны вслед за ним понесли тяжелые пакеты, начали вытаскивать из них колбасу, сыр, селедку, огурцы в банках, бутылки с водой и водкой, начали резать-раскладывать в тарелки продукты. В маленькой кухне тесно стало, шумно, но разговаривали и шутили в основном Кудрин и Медянцев, а Долгов и Пересыпкин поддерживали смех сдержанно, все никак не могли забыть свое унижение.
— Что-то вы смурные какие-то, — наконец удивленно спросил у них хозяин. — Леня, я тебя не узнаю. Что случилось? Ай не рады празднику? — пошутил он.
— Потом, потом, — отмахнулся Леонид Сергеевич. — Не будем портить праздник.
За стол ветераны пригласили жильца Кудрина Игоря Протасова, говоря, что, мол, они понимают, что ему со стариками скучно, своя молодая компания ждет, но за Победу одну рюмочку выпить не грех, сам ветеран, порох нюхал, знает, что такое победа. Игорь охотно выпил с ними, посидел немного и ушел в свою комнату.
Леонид Сергеевич после трех рюмок успокоился малость, повеселел, снова стал словоохотливым, как прежде, спросил у Василия Васильевича о здоровье его жены Наташи, которая в последнее время прибаливала. Даже в больнице пришлось месяц полежать. У Медянцева была большая семья: две взрослых дочери имели свои семьи, но постоянно бывали у отца вместе с внуками. Все лето у него на даче проводили. А дача у него была большая, хорошая. До пенсии он был главным инженером в строительном управлении. На вопрос Долгова он жене ответил охотно, с теплотой в голосе.
— На даче с внучкой. Говорит, на солнце и на воздухе легче дышится. И внучка меня порадовать решила, — похвастался Медянцев, — скоро правнука нянчить буду. Муж у нее, слава Богу, неплохой парень. Вместе учатся.
— А вы знаете, — хохотнул Леонид Сергеевич, — моя старуха объявилась. Позвонила.
— Брось! Как это? Что это с ней? — дружно воскликнули удивленно ветераны, с улыбками уставились на него. Они знали, что жена Долгова еще лет двадцать пять назад влюбилась в какого-то бухгалтера и ушла к нему, прихватив с собой сына подростка. Леонид Сергеевич работал тогда в уголовном розыске. Позже, когда боль в душе Долгова улеглась, и он сам стал с иронией относиться к поступку жены, друзья частенько подшучивали над тем, что он ошибся с профессии, надо было в тихие бухгалтеры идти, а не гоняться по ночам за преступниками. Знали, что в новые времена сын Долгова банкиром стал, в миллионеры выбился, изредка мелькал на телевизионном экране, как преуспевающий демократ, «новый» русский. И над этим шутили друзья, непременно спрашивали при встрече, не подкинул ли ему, пенсионеру, сынок миллиончик-другой. «Жду — не дождусь!» — посмеивался Леонид Сергеевич, который никаких отношений не поддерживал с прежней семьей, хотя новую семью так и не завел. Жил один. Потому-то они так удивились, услышав, что Долгову позвонила жена, стали шутить:
— Неужто деньгами объелись и решили тебя подкормить? — смеялся, тер щеку, Медянцев.
— Не, должно бухгалтер надоел, решила вернуться, — возражал ему Кудрин.
— Вам смешно, а ей не до смеха было, — начал рассказывать Долгов. — Звонит, плачет, говорит, сын исчез. Неделю ни слуху ни духу. Пропал. Потереби, мол, старые связи на Петровке, может, там, что знают.
— У тебя, конечно, взыграло сердце ретивое, старая любовь позвонила, — шутливо сказал Кудрин. — И ты бегом на Петровку.
— А как же? Куда деваться, — притворно вздохнул Долов, подыгрывая друзьям. — Старая любовь не ржавеет. Помчался на Петровку, примчался, спрашиваю: где сын мой? А мне отвечают: в бегах, в загранке. Надул, такого же как он хмыря, испугался расправы и бежать.
— А в загранку на поиски сынка старая любовь не собирается тебе командировать, а то мы готовы целой бригадой тебе помогать, — смеялся Медянцев. — Позвони, предложи, намекни, мол, в Европе нам каждый кустик знаком, на животе до Берлина проползли, мигом разыщем.
Посмеялись, выпили еще.
— А ты чего сегодня такой молчаливый? — спросил Медянцев у Ивана Николаевича.
— А-а, — горько махнул рукой Пересыпкин. — Не спрашивай.
Во время разговора боль в его душе отдалилась, притухла, и теперь снова древоточцем вгрызлась в сердце.
— Случилось что-то? — серьезным тоном спросил Кудрин.
— Случилось, случилось! — воскликнул, вспомнив о «быках», Долгов. Ярость, обида снова вспыхнули в нем, и он с напором рассказал о случившемся, о нефтянике, соседе Пересыпкина, о его «быках», и спросил:
— Неужели мы за такую жизнь воевали? Неужели мы, действительно, рабы на своей земле? Неужели за себя не постоим? Помните, Андрюха Чумаков, в Берлине, умирая на наших руках, говорил, что ему не горько умирать, мы победили, впереди у нас и у наших детей прекрасная свободная жизнь… за такую жизнь умирать не обидно… Знал бы он, к чему мы пришли? А мы как трусы, как рабы, как бараны, которых ведут на убой, пальцем не шевельнем в свою защиту!
— А что делать? Что? — спросил Медянцев Василий Васильевич. Он был самый рассудительный среди друзей. — Не стрелять же?
— Стрелять! Именно стрелять! — воскликнул возмущенный рассказом Кудрин. — Я на фронте прекрасным снайпером был. Я бы собственноручно всех этих Ельциных-Гайдаров-Чубайсов перестрелял!
— Ельцин, положим, давно не при чем, давно на пенсии, — спокойно возразил Василий Васильевич. — А до этих не добраться. Да и не они с земли сгоняют Ивана.
— Это они такую жизнь сделали, они! Придет время, ответят за все…
— Когда нас не будет, — снова вставил Медянцев.
— Вот тут ты прав! Не надо ждать, не надо! Надо действовать сейчас, сегодня, иначе каждого из нас поодиночке угробят. Кому-то надо начинать, вставать на свою защиту…
— Куда вставать? Что начинать? На улицу, что ли, с плакатами выходить. Да Кремль плевал на наши плакаты. Посмеются только журналюги, губами пошлепают по телевидению, а власть будет и дальше делать по-своему, — возражал Василий Васильевич.
— Правильно, правильно, никому плакаты не нужны. Оружие надо брать и идти…
— Куда? — засмеялся Василий Васильевич. — Кремль брать?
— Ты, Вась, в хохму все не превращай, не шути, — сказал удивительно спокойно Леонид Сергеевич. — По-твоему, мы должны смирно смотреть, как у нашего друга отбирают дом. Пусть в бомжи идет, мы тут не при чем, да? Нет, не по мне это.
— И не по мне, — поддержал Василий Васильевич. — Только я считаю, надо по иному защищать: писать нужно, на прием идти, стучать во все двери…
— Кому писать? Гайдару? — снова заговорил Кудрин. — К кому на прием? К Путину? Так тебя к нему и пустили. Может, к Чубайсу постучимся, вдруг услышит. Он давно еще сказал, что мы, ветераны, только путаемся под ногами, нам давно пора подыхать… Либо мы жалкими рабами уйдем в землю, либо умрем за нее бойцами. Я предпочитаю умереть бойцом.
— Помнишь в лесочке шлагбаум? — вдруг так же спокойно спросил Леонид Сергеевич у Пересыпкина. — И сосед твой, значит, каждый раз останавливается перед ним, поднимает его, чтоб проехать.
— Охрана поднимает, не сам, — ответил Пересыпкин.
— Один из тех «быков»?
— Ну да, — не понимал Пересыпкин, к чему клонит Долгов.
— Это здорово, это хорошо! Можно засесть в кустах и, когда он остановится у шлагбаума, перещелкать их всех за минуту.
— Верно. Я готов! — подхватил Кудрин.
— Как пионер, — засмеялся Василий Васильевич, поправляя очки на носу. — Вы что, ребята, вроде бы немного выпили, а говорите так, как будто по две бутылки тяпнули.
— Ты можешь не ходить, мы втроем справимся, — обидчиво и запальчиво вскрикнул Кудрин и спросил у Ивана Николаевича. — Сколько у него охранников?
— Два.
— Справимся, — уверенно сказал Кудрин. — Главное — внезапность! Двоих я на себя беру, как снайпер, а вам по одному, — глянул он по очереди на Долгова и на Пересыпкина.
— И я с вами… — сказал уверенно Медянцев. — Куда я без вас? Но это безумство…
— Безумству храбрых поем мы славу! — хлопнул его по руке Кудрин. — Выпьем за безумство храбрых!
Они выпили, стали закусывать.
— А где мы оружие возьмем? — спросил Василий Васильевич Медянцев.
Все дружно перестали есть, молча уставились друг на друга.
— У меня ружье… — тихо сказал Леонид Сергеевич. — Правда, я лет двенадцать на охоте не был, не стрелял из него. Но раньше, — уверенней заговорил он, — я из него не одного кабана завалил. Стрелял — не жалуюсь!.. И оно у меня в хорошем состоянии. Да и пистолетом я отлично владел.
— А я после войны ни разу не из чего не стрелял, — вставил Медянцев.
— Там ты стрелял хорошо, это я помню, — сказал Долгов. — И не трусил.
— Я и сейчас ничего не боюсь. Жизнь прожита, днем раньше умрешь, днем позже…
— Это верно… Но где оружие взять, — пробормотал Кудрин.
— А этот… — кивнул в сторону комнаты Леонид Сергеевич, — паренек не поможет ли? Он ведь недавно с фронта…
— Точно! — воскликнул Кудрин. — Как же я не подумал о нем. Иван, позови его сюда, — попросил он Пересыпкина.
Они не знали, что дверь в комнату Игоря Протасова была открыта. Он слышал весь разговор ветеранов и возмущен был действиями нефтяника не менее их, но не верил, что старики смогут справиться с охранниками. По всей видимости, они профессионалы, лохам нефтяник платить бы не стал. А Кудрин, пока Иван Николаевич ходил за его жильцом, обдумывал, как спросить у того об оружии, чтобы не объяснять, для чего оно нужно.
— Садись, Игорек, дело к тебе есть, — пригласил он к столу Протасова. — Давай, еще по одной выпьем за нашу победу на нашей земле. Чужие земли нам не нужны.
— За это всегда готов, — сдержанно улыбнулся Игорь. Он вообще был немногословный, спокойный, выдержанный.
Наполненные рюмки пятерых мужчин тихонько звякнули, прикоснувшись друг к другу.
— Понимаешь, нужда какая приспела. Может, ты знаешь, как помочь… — заговорил Кудрин, подцепив вилкой кусочек селедки. — Нужно нам достать два пистолета и карабин…
— И ручную гранату неплохо бы, — вставил Леонид Сергеевич.
— И побыстрей, — добавил Кудрин.
— Зачем это вам? — потянулся Игорь за соленым огурцом.
— Пистолеты ребятам нужны для самозащиты, а карабин для охоты на кабана. Леня, у нас заядлый охотник, — кивнул Кудрин в сторону Долгова.
— В принципе, сейчас все можно достать. Все продается, — спокойно жевал Протасов огурец. — Но дело серьезное, вы хорошо его обдумали… за хранение такого оружия срок дают.
— Обижаешь, Игорек, не мальчики перед тобой. Посмотри, сколько орденов на каждом. Знаем, что говорим, — сделал вид, что обиделся Кудрин.
— Да ладно, дядь Андрей, — засмеялся Игорь. — Это я так! Будут вам пистолеты.
Ветераны оживились.
— Когда?
— Да хоть завтра.
— А ты можешь сюда привезти?
— Привезу.
— Вот и хорошо.
Игорь снова оставил стариков одних.
— Завтра-то они нам зачем? — спросил Иван Николаевич. — Завтра оружие нам вряд ли понадобится. Я знаю, что в рабочие дни он уезжает из дому в семь утра, а возвращается в восемь вечера, если не задерживается где-то, но когда он будет у шлагбаума в праздничные дни, угадать невозможно.
— Хорошо, мужики, — взял в свои руки организацию дела Леонид Сергеевич. — Значит, так, нам надо быть у шлагбаума утром в понедельник в семь часов. Днем те, гады, обещали быть у Ивана с договором. Потому другого выхода у нас нет. Только в понедельник. Я приеду сюда в четыре часа утра. Иван будет со мной. Он эти две ночи у меня ночует, дома показываться ему не стоит, мало ли что тем в голову спьяну взбредет. Береженого Бог бережет… Приготовим удочки, будто мы на рыбалку собрались. До шести мы, уверен, доберемся, спрячемся в лесочке и встретим гостей…
— Может, не надо, ребята, а? Спасибо за поддержку. Пошутили, и хватит, — вздохнул Иван Николаевич. — Зачем вам рисковать. И в Тверской области люди живут, доживу я там как-нибудь. Недолго осталось…
— Нет, Иван, молчи! — перебил Кудрин. — Дело не в тебе, не только в тебе. Мы каждый за себя постоять должны, постоять за наших друзей, которые остались для нас навсегда девятнадцатилетними. Как они теперь оттуда смотрят на нас? Эх, думаю, теперь говорят, предатели вы предатели! Предали все, за что мы головы в девятнадцать лет сложили, да еще бы хоть жили по человечески, а то так, прозябаете, заживо гниете, да еще за эту жизнь поганую цепляетесь, мечтаете лишний денек в гнилье пожить. Стыдно, стыдно!.. — горько вздохнул Кудрин. — Постоять мы должны за себя, за них, погибших шестьдесят лет назад. Каждый из нас мог быть на их месте, каждый из нас мог шестьдесят лет в земле лежать, а мы пожили, порадовались, и боимся на день раньше уйти по-мужски, как они, в бою. А я уверен, уверен, что мы победим эту нечисть, непременно победим, ведь за нами правда, с нами Бог, и с нами, главное, внезапность!
— Ты-то, Андрюша, — обнял его за плечи захмелевший Иван Николаевич, — ты-то, безногий, куда рвешься. Вояка! — засмеялся он нежно. — Как ты пойдешь в бой?
— Спокойно. Без меня нельзя. Я снайпер!.. До лифта донесете, внизу в машину тоже засунете, сил хватит… В бою без меня нельзя, там вы без меня пропадете.
— Если по серьезному делать, то надо бы нам, мужики, там побывать до понедельника, — подал голос, задумчиво молчавший некоторое время, Василий Васильевич. — Осмотреть местность, распланировать, кто, где будет находиться, откуда стрелять? С бухты барахты нам не победить! Надо заранее знать, где машину спрячем? Как уезжать будем после боя? Что будем делать, если кого-то из нас ранят? Давайте завтра махнем туда, осмотрим, покумекаем.
— Мысль верная, — подхватил Леонид Сергеевич, — но на завтра откладывать нельзя. День велик, давайте прямо сейчас махнем, побродим там, подышим воздухом, а?
— Как же сейчас? Ты под мухой, на первом посту остановят. Сейчас нельзя, — засомневался Иван Николаевич.
Они услышали шаги в коридоре. Игорь Протасов подошел к двери туалета, открыл ее и приостановился, взглянул на ветеранов, спросил:
— Вы куда-то хотите съездить? Я могу отвезти на своей машине, — предложил он.
— У него машина о-о-о! — с восхищением протянул Кудрин. — Сарай на колесах! Джип!
— Ты ведь тоже употреблял, — показал на свое горло Иван Николаевич.
— Мне можно, у меня документ есть, — показал Игорь красную книжечку. — Меня не остановят… Я могу отвезти вас куда угодно. Мне не сложно, до вечера далеко.
Ветераны переглянулись.
— Поедем, а, — то ли спросил, то ли предложил Леонид Сергеевич.
— Поехали! Я тоже хочу подышать лесным воздухом, — сказал Кудрин.
— В лесочек нам захотелось, погода хорошая… — будто оправдываясь, сказал Иван Николаевич.
По дороге за город Леонид Сергеевич, оглядывая просторный салон джипа, спросил у Игоря:
— Много, наверно, стоит этот сарай?
— Не знаю, должно быть, много, — ответил Протасов. — Он служебный?
— Служебный? — удивился Василий Васильевич. — Кем же ты работаешь?
— Водилой, — засмеялся сдержанно Игорь. Приятно было ему, что ветераны подумали, что он важная птица. — Важняка из генпрокуратуры вожу.
— А-а! — протянул удовлетворенно Леонид Сергеевич. — А я думаю, откуда у тебя красные корочки, не из спецназа ли ты?
— Разочаровались?
— Наоборот. Свой человек.
Машину остановили на обочине возле узкой недавно заасфальтированной дороги, ведущей в лес.
— Погодите малость, — попросил Леонид Сергеевич Игоря и Кудрина, — а мы прогуляемся по этой дорожке.
Они вылезли из джипа и пошли неторопливо, молча по асфальту в лес. Когда они скрылись из виду, Игорь улыбнулся Кудрину:
— Я на секунду сбегаю в кусты, — и выскочил из машины.
Лес был здесь молодой, густой. Пахло сыростью, весенней травой. Игорь, осторожно ступая, чтоб не было слышно с дороги, где были ветераны, пробежался по лесу и выглянул из кустов. Они стояли возле шлагбаума, обсуждали что-то. Протасов внимательно осмотрел дорогу, кювет, придорожные кусты и вернулся в машину.
Две ночи провел Иван Николаевич у Долгова, две ночи они почти не спали, разговаривали, вспоминали свою жизнь. Пересыпкин время от времени пытался отговорить Леонида Сергеевича от их затеи, но Долгов мягко возражал, говорил, что Кудрин прав: мы несем ответственность за погибших. Василий Васильевич Медянцев тоже не спал две ночи, сомневался, мучился, не признавался себе, что хочется ему еще пожить, не верилось ему, что они, старики, смогут победить молодых тренированных охранников, и в воскресенье позвонил Долгову и, заикаясь, мямля, попросил не судить его строго, но он не может ехать с ними: через две месяца любимая внучка должна рожать, очень уж хочется ему увидеть правнучку, понянчить ее.
— Понимаю, понимаю, — грустно сказал в трубку Леонид Сергеевич.
— И вы отступите, это не дело, ошибка… — начал отговаривать его Медянцев, но Долгов перебил.
— Мы не отступим! Хватит отступать, наотступались, — и положил трубку.
Пересыпкину не стал говорить, что Медянцева не будет с ними, узнает в понедельник.
Только Кудрин спал бодро, спокойно. Он чувствовал в себе прилив сил, энергии, с нетерпением подгонял дни, часы, минуты, с нетерпением ожидал понедельника, словно этот день принесет наконец настоящее дело, которое он ждал долгие годы. Настоящей жизнью, как он считал, он жил только на фронте да в тюрьме. После фронта были долгие годы работы на заводе. Каждый день одно и тоже, одно и тоже. Скучная жизнь! В колонию он угодил на семь лет за убийство человека. Тогда ему было уже под пятьдесят лет. Однажды ночью на автобусной остановке при нем пристали к девчонке три подонка. Кудрин был заметно выпивши, и они не обращали на него внимания. Разве мог он, бывший разведчик, стерпеть такую мерзость? Конечно, не мог. Один из негодяев улетел от его удара под скамейку, врезался виском в железную ножку и скончался. И вот теперь снова его ожидает опасность, хорошая опасность, от которой в жилах кровь горячей становится, нетерпеливей, снова появилась возможность проучить негодяев, вступить с ними в настоящий бой.
Игорь Протасов не обманул, привез карабин, снайперскую винтовку СВД, гранату и два пистолета. Снайперская винтовка вызвала восторг у Кудрина, чудесная игрушка. Он долго крутил, вертел ее в руках, вскидывал к плечу и, щуря глаз, смотрел через оптический прицел, восхищался. Но цена ее была непомерная. Не было у Андрея Алексеевича таких денег, пришлось с горечью вернуть Игорю, взять карабин, который был значительно дешевле.
В понедельник в четыре часа утра, как и договаривались, Долгов и Пересыпкин с удочками, привязанными к багажнику на крыше машины, приехали к дому Андрея Алексеевича Кудрина. Он ждал их одетый, бодрый, веселый. Сидел в своей коляске, пил чай.
— Ну что, двинулись с Богом? — громким шепотом, чтобы не разбудить своего постояльца Игоря Протасова, сказал Кудрин, когда друзья его отказались от чая, и спросил о Медянцеве: — А Вася внизу?
— Нету Васи. Отказался. Жить охота. Говорит, правнучку хочется понянчить, — хмуро ответил Леонид Сергеевич.
— Я так и знал, знал, — ничуть не огорчился Кудрин, заговорил бодро, энергично, громким шепотом. — Мы втроем легко справимся. Я хорошо вижу, как мы это сделаем. Я все обдумал. И весь день будем праздновать победу. Двинулись, нас ждут великие дела, — вытянул он руки навстречу друзьям.
Они подошли к нему, наклонились. Он крепко обнял их за плечи сильными руками, и понесли его к выходу. Дверь в комнату жильца открылась, показалась голова Игоря. Он взглянул на крепко сплетенных руками старых друзей:
— Помочь?
— Справимся, — тяжело прохрипел Леонид Сергеевич. — Закрой за нами дверь.
Иван Николаевич все время молчал, был сумрачен, чувствовал себя виноватым, мол, это он взбулгачил друзей, из-за него они рискуют жизнью. Ему хотелось отказаться от дела, без него не поедут, но было стыдно, подумают, что он струсил. Медянцева не осудили вслух, но, ведь, каждый подумал про себя, что он струсил, предал.
К месту боя доползли на тарахтящем «Запорожце» без приключений. Рассвело. Сначала Кудрина высадили возле шлагбаума, а потом загнали в кусты машину, чтобы ее не было видно с дороги, разобрали оружие, направились к месту боя. Леонид Сергеевич должен был спрятаться в кустах с одной стороны дороги, а Кудрин с Пересыпкиным с другой. Когда нефтяник остановится, и один из охранников выйдет из джипа, Долгов должен был бросить в машину гранату и открыть стрельбу из пистолета по охраннику. Нефтяник с водителем и другим охранником, увидев его, должны будут выскочить из машины на другую сторону, и тут Кудрин с Пересыпкиным быстренько их уничтожат.
— Только не геройствуй, — предупредил Долгова Кудрин. — Бросил гранату, выстрелил пару раз и падай в кусты. Помнишь, как в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего» Папанов высунулся из-за бревна, и готов. Охрана стрелять умеет, а тут всего десять шагов до машины. Не промажет.
— Не учи, учитель, — буркнул Леонид Сергеевич и добавил, бодрясь, шутливо: — У кого орденов больше? Кто в разведку ходил?.. Устраивайся сам поудобнее. Мы-то постоять можем. Я пошел на свое место, как бы он раньше времени выехать не вздумал.
Иван Николаевич помог Кудрину удобнее устроиться на брезенте под кустом черемухи, откуда дорога хорошо просматривалась. Шлагбаум нефтяник, видно, приказал установить там, где дорога возвышалась над землей, чтобы по кюветам нельзя было его объехать. Поэтому в этом месте дорога, где машина должна была остановиться, из лесу видна как на ладони. Затихли, замерли ветераны в засаде, прислушиваться стали к утренним лесным звукам. Ветра не было. Молодые листья на березах, ольхе, черемухе недвижно застыли, казались искусственными. Но лес жил, шевелился, отовсюду слышались птичьи вскрики, попискивание, где-то вдали щелкал соловей. От шоссе доносился слитный гул машин, которые торопились в Москву.
Напряжение, волнение росло в душе ветеранов. Кудрин радовался этому волнению, с нетерпением вглядывался в лесную дорогу, представлял, как выйдет охранник, как он его срежет точным выстрелом. Пересыпкину вдруг вспомнилась Анюта, жена, вспомнилась молодой, в этом лесу, куда они приходили за ландышами весной, тогда точно так пел-заливался соловей. Вспомнилось это почему-то Ивану Николаевичу, и он почувствовал, как глаза его наполнились влагой. Он отвернулся от Кудрина, чтобы тот не видел его лица. А Долгов, сидя на траве под березой, чувствовал себя инспектором уголовного розыска, представлял, что он сидит в засаде, что вот-вот по дороге поедет машина с бандой матерых опаснейших преступников, которых надо немедленно уничтожить, иначе они принесут много бед невинным людям.
Наконец они услышали приближающийся ровный спокойный гул машины. Черный угловатый джип, мерседес, мягко подкатил, остановился возле шлагбаума. Пересыпкин снял пистолет с предохранителя, напрягся, протер глаза. Кудрин уверенно поднял карабин. Они видели, как один из «быков», Иван Николаевич узнал того, что толкал Долгова, спокойно вышел из машины и подошел к шлагбауму, видели, как из-за березы, из-за куста орешника выскочил Леонид Сергеевич и с криком: «Получайте, гады!», взмахнул рукой, и в это же мгновение тренированный «бык», в миг повернулся к нему, выхватывая пистолет, и несколько раз выстрелил. Падая, Долгов успел бросить гранату слабеющей рукой. Она отлетела от него всего метра на три и взорвалась под откосом, почти не причинив вреда джипу. Только поверху машины, задев и разбив стекла, хлестнули осколки. Кудрин, чуть замешкавшись из-за того, что смотрел на Долгова, переживал за него, выстрелил из карабина по охраннику. И в это время бак джипа, почему-то гулко выбросив пламя, взорвался. Дверцы машины распахнулись и оттуда вывалились три человека. Охранник, в которого выстрелил Кудрин, был то ли в бронежилете, то ли Кудрин от волнения за Долгова промазал, быстро упал на асфальт и перекатился за столб шлагбаума, продолжая стрелять по кустам, теперь туда, откуда раздался выстрел карабина, но почему-то вдруг дернулся, замер и опустил руку с пистолетом на асфальт. «Долгов! Жив, значит!» — радостно, лихорадочно подумал Кудрин и выстрелил в водителя, который, выскочив из машины, катился на заднице по траве под откос. Водитель откинулся навзничь и затих. Правое плечо Кудрина вдруг обожгло, парализовало, и он выронил карабин. Иван Николаевич рядом с ним лихорадочно палил в сторону джипа, возле которого катался по обочине нефтяник, пытаясь сбить пламя с костюма, а второй охранник, присев на колено и вытянув в их сторону руку с пистолетом, стрелял непрерывно и быстро. Пересыпкин вдруг неестественно вскинул голову, как будто кто-то дернул его за волосы вверх, и тут же упал лицом в траву. По виску его потекла струйка крови. И в это же мгновение беспомощный Кудрин почувствовал, как пуля вошла ему в шею. Он захрипел, но успел увидеть, как второй охранник почему-то выронил пистолет и бочком упал в траву, и нефтяник перестал кататься по обочине, затих у колеса машины. Пиджак его дымился, тлел слабым огнем.
«Молодец, Леня! Ты всегда был лучшим… Мы победили…» — последнее, что мелькнуло в голове Кудрина. Он не слышал торопливый хруст веток позади себя, не слышал, как подбежал Игорь Протасов со снайперской винтовкой в руке, той самой, которой восхищался Кудрин, не видел, как Игорь склонился сначала над Пересыпкиным, попытался нащупать пульс у него на шее, но не смог. Андрей Алексеевич Кудрин тоже был мертв.
Игорь четырежды выстрелил из винтовки, целясь в голову каждому из лежащих неподвижно пассажиров горевшего джипа, сунул под руку Кудрина винтовку, на которой было множество отпечатков пальцев Андрея Алексеевича, и перебежал дорогу, чтобы узнать жив ли Долгов. Леонид Сергеевич лежал на боку, в крови, весь изрешеченный осколками гранаты. Убедившись, что и он мертв, Игорь Протасов бросился по кустам туда, где была спрятана его машина.
Последний бой ветеранов длился всего десять секунд.
Дезертир
Реальный случай
Когда пошла череда дезертирств из Российской армии, дезертирств с оружием в руках, с многочисленными убийствами, мой давний друг Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Брюхов Василий Павлович передал мне исповедь солдата-убийцы, который задумал, долго вынашивал и осуществил свое кровавое дело. Предлагаю вниманию читателей эту исповедь перед убийством с незначительными и несущественными сокращениями.
«Велика Россия, а отступать некуда…»
Политрук Клочков
Три часа назад я в очередной раз заступил на ночное боевое дежурство на узле связи областного военкомата. Однако это мое очередное дежурство отличается от предыдущих одним весьма существенным обстоятельством. Дело в том, что это дежурство — одно из последних в моей службе, ибо нынешняя ночь одна из последних в давным-давно опостылевшей мне моей бесконечно запутанной жизни.
Эта исповедь, которую я сейчас пишу, искренняя, откровенная, честная, ибо мысли мои идут из самой глубины души, это мысли самые тайные, самые сокровенные. Многие, совершая подобное тому, что намерен совершить я, не оставляют после себя каких-либо «рукописных трудов». Однако я, чтобы облегчить работу следователю военной прокуратуры, которому предстоит заниматься этим делом, а главным образом, чтобы внести полную ясность, развеять все домыслы, ложные измышления, избавить многих людей от излишней нервотрепки, я решил оставить родным, друзьям, а также для следствия эти краткие заметки.
Если вы потрудитесь внимательно, вдумчиво, без какой-либо предвзятости прочесть все, что я ниже пишу, то даже несмотря на все, что я совершу, вы должны будете понять, что в сущности своей я человек был не такой уж дряной, что в характере моем было много, подавляющее большинство черт именно хороших — да это и не удивительно. С детства мои родители, затем школа, техникум, армейский коллектив формировали, воспитывали во мне трудолюбие, честность, жажду знаний, доброту, патриотизм. Но вся беда в том, что наряду с этими хорошими чертами я приобрел и другие, которые сыграли роковую роль в моей судьбе: высокую, очень высокую требовательность к себе, а главное, обостренное, я бы даже сказал, болезненное чувство собственного достойнства. Именно эти две черты оказались в чудовищном противоречии с тем, как сложилась моя жизнь. Характеризовать себя — дело сложное, не каждый способен объективно дать оценку своим поступкам, своей жизни. Но я постараюсь.
Итак, по порядку.
1. Причины случившегося
Смотрел я как-то спектакль «Традиционный сбор». В нем бывшие выпускники одной из школ, встретившись спустя много лет, решили выставить друг другу отметки за прожитую жизнь. Так вот, если говорить об оценке моей жизни, то мне смело можно поставить два балла. На первый взгляд может показаться, что жизнь у меня складывается неплохо: я успешно без единой тройки закончил электротехникум связи, получил диплом техника электросвязи, специальность, успешно отслужил уже больше половины срока в рядах Российской армии. Казалось бы, что будущее у меня четко определено: завершить службу в армии, работать по специальности на одном из предприятий связи, при желании учиться и т. д. Однако так кажется только внешне, все это лишь кажущееся благополучие. На самом деле на благополучие, на душевный покой нет даже намека.
Дело в том, что я всю жизнь занимаюсь тем, что в глубине души мне чуждо, ненавистно, что мне противоестественно. Я, обладая гуманитарным складом ума, все свою жизнь вынужден буду работать в сфере техники, ежедневно заниматься презренными техническими вопросами. В том, что мои душевные стремления не совпали с выбором жизненного пути, я виню только себя. Виню за то, что после окончания школы я смалодушничал, поддался на истерические советы моей матери, буквально ослепленной мыслью сделать из меня инженера — не важно по какому профилю, не важно хорошего или плохого. Лишь бы я стал инженером, лишь бы в ВУЗ. Моя вина в том, что после школы я не представлял себе ясно и четко куда пойти учиться, вот почему я, как щепка плывущая по течению, следуя этой бредовой идее матери, поступил в технический университет, хотя заранее знал, что учиться там не смогу, что вскоре подтвердилось. Весной я вынужден был уйти из университета, уйти не потому, что не мог осилить программу, а потому, что не хотел всю жизнь заниматься ненавистной мне работой. Идти в армию, не имея специальности мне не хотелось, и я поступил в электротехникум связи, в спецгруппу, где была отсрочка от призыва в армию.
Учился я, честно говоря, с большим желанием, очень хотелось получить диплом, а главное — доказать этим гнусным тварям из райвоенкомата, что не бездельник я, не лодырь, как они утверждали, пытаясь не дать мне законной отсрочки от призыва в армию. Спасибо подполковнику из облвоенкомата — выручил, разобрался, восстановил справедливость.
В первый год моего обучения в техникуме я чуть было не сделал вывод, что именно связь мое призвание. Но я жестоко ошибся. Уже на третьем курсе, несмотря на то, что по всем второстепенным предметам дела мои шли отлично, свой основной предмет — АТС — я возненавидел сразу же, возненавидел за то, что это был слишком конкретный предмет, а все конкретное, узко практическое мне глубоко чуждо, враждебно, ненавистно. И тогда я понял, что вновь ошибся в выборе своего жизненного пути. Это была моя вторая серьезная ошибка. Нелегко мне было признаться в ней самому себе, но тем не менее, это так. Сейчас здесь, в армии, когда мне ежедневно приходится обслуживать эту ненавистную мне технику связи, свою ошибку я осознаю и чувствую как никогда ранее. Но тогда отступать было некуда, тем более, что уже в воздухе носился запах диплома. Закончил я техникум с приличным дипломом ( в смысле среднего балла) и с весьма скудными фактическими познаниями по своей основной специальности, к которой я был абсолютно равнодушен. Что меня ждало впереди? Тусклая, унылая, бесцветная, однообразная жизнь, не жизнь, а существование, подобное тому, которое ведут многие миллионы людей.
Получив диплом и отслужив в армии полгода, я совершил третью, на этот раз уже роковую ошибку — поддался на уговоры матери перейти из воинской части на службу в облвоенкомат в родном городе. Скажу честно, я никогда не принадлежал к категории «маменкиных сынков», хотя знаю, что моей матери очень хотелось бы видеть меня таковым. Ведь такого легко всю жизнь держать подле себя, заботиться о нем, а проще говоря, бесцеремонно вмешиваться в его личную жизнь своими доброжелательными советами, от которых на деле один вред.
Господи, майн гот, как говорят японцы, как я хотел остаться служить в родном городе! (Шутка!) Дело в том, что, по моему глубокому убеждению, ни один психически нормальный человек больше недели в нашей «дружной» семье, а проще говоря, в самом натуральном филиале сумасшедшего дома, не выдержал бы, сбежал. Достаточно один день прожить в атмосфере нашей семейной «идиллии», чтобы навсегда полюбить тишину. Эти бесконечные выступления в защиту частной собственности, вечный, до сих пор не решенный, вопрос: «кто в доме хозяин?», все эти дикие мещанские сцены, все это за двадцать лет мне настолько наскребло, сатанински прямо таки, что я готов был служить где угодно, хоть в Чечне, хоть в Таджикистане. Одним словом, после получения диплома у меня было страстное необоримое желание слинять из родного города и желательно куда подальше. Однако матери все-таки удалось вынудить меня дать свое согласие на переход на службу в облвоенкомат (да лучше бы у меня язык отсох в тот проклятый миг). А удалось это ей благодаря тому, что у меня перед армией не было никаких конкретных планов на будущее. Нужно будет, отслужив, искать работу, что сделать сейчас не просто. Мать меня и «надоумила», дескать, если будешь служить в облвоенкомате, будет больше шансов найти работу.
До сих пор не могу понять почему так произошло, но факт то, что этот, в общем-то, дешевый аргумент оказал на меня прямо таки гипнотическое воздействие. И я (неожиданно даже для самого себя) дал согласие на службу в городе. Уже тогда где-то в глубине души, в глухих лабиринтах извилин коры головного мозга я сознавал, что служба здесь в силу ранее перечисленных причин (впоследствии к ним добавилось немало других) для меня гибельна. Но я упорно гнал от себя эту здравую мысль, заглушал ее, как мне тогда казалось, весьма убедительными доводами.
Служба в армии, я имею в виду настоящую, боевую, пусть трудную, но живую, разнообразную по характеру службу на Лесной речке в войнской части, мне, честно говоря, пришлась по душе. Как бы ни было в эти незабываемые полгода службы на Лесной речке трудно, порой очень трудно, но ни разу я не пожалел о том, что не смог избежать службы в армии. Наоборот, служба в значительной степени мне даже нравилась, нравилась своим живым характером, стремительным ритмом, разнообразием впечатлений. Там, на Лесной, действительно была жизнь, не похожая на мое прежнее затхлое существование. Там я чувствовал себя нужным человеком (нужным Родине, товарищам по службе, с которыми я был в отличных взаимоотношениях). Там я познал новое, незнакомое мне ранее чувство, чувство радости жизни, осмысленности бытия. Поэтому я бесконечно благодарен свои командирам (капитану Шумакову, майору Батуеву и другим), которые сделали из меня солдата. И если бы мне предстояло все два года прослужить в этом гвардейском подразделении, то я бы об этом не пожалел. Но к моему глубочайшему сожалению, я связал свою армейскую службу с проклятым военкоматом. Отслужив полгода на Лесной, я был переведен для дальнейшего прохождения службы в облвоенкомат, где имею несчастие пребывать по сей день (впрочем, когда эти записки попадут к вам, меня в этой гнусной, грязной, полуразложившейся конторе уже не будет). За семь с лишним месяцев моей службы в этой конторе я насмотрелся такого, что вполне позволяет мне сделать о военкомате определенные и, думаю, далеко не субъективные выводы. Они таковы:
1. Военкомат — это классическая пародия на военное учреждение Российской армии.
2. В военкомате полностью отсутствует воинская дисциплина, хотя видимость этой дисциплины создается. Процветают индивидуальные, групповые и коллективные пьянки не только в канун праздников, но и в будние дни. На чердаке россыпи пустых бутылок из-под спиртных напитков. Причина такого чудовищного развала дисциплины, отсутствие сильной руки, круговая порука сотрудников военкомата.
3. Морально-политический уровень офицеров крайне низок. Помимо пьянства, процветают карьеризм, мерзкое чинопочитание и т. д. Политико-воспитательной работы с нами, я имею в виду личный состав узла связи, никакой не ведется. Чудовищное очковтирательство — вот что у нас в военкомате прекрасно заменяет вдумчивую, действенную политработу!
Ко всему изложенному в этих трех пунктах можно было бы добавить массу примеров, впечатлений, а если учесть чудовищно однообразный, нудный, хотя физически легкий, характер службы, постоянное общение с техникой связи, которая в глубине души невыразимо противна моему характеру и складу ума, а также постоянные склоки между нами, не прекращающиеся все эти полгода, то станет ясно, что служба в военкомате осточертела мне до такой степени (к этому еще надо добавить постоянные скандалы в семье, бесконечные пьянки и периодически повторяющиеся пьяные дебоши отца: спасибо ему за это и тебе, мать тоже, ведь в том, что произошло есть немалая доля и вашей вины), что я всерьез в последнее время стал подумывать о путях выхода из создавшегося положения. Собственно говоря, я видел два выхода. Первый: подать рапорт о переводе обратно в часть на Лесную, и второй — одним выстрелом свести счеты с опостылевшей мне бесцельностью своего существования.
Все всесторонне обдумав, я пришел к выводу, что от первого выхода мне следует отказаться, так как, в сущности, для меня это был бы не выход, а лишь кратковременная (на год-полтора) отсрочка перед неминуемым самоубийством, ибо я отчетливо осознавал, что после завершения службы жизнь моя нисколько не изменится, что и в дальнейшем она будет течь по-прежнему в однообразно-тоскливо-размеренном ритме. У меня нет желания, и что самое главное, нет моральных сил для того, чтобы начать все заново. Честно говоря, я опасался, что моя, и без того сильно разболтанная, нервная система не выдержит новых жизненных испытаний, и я завершу свою жизнь в психбольнице. Мне могут возразить, сказать, что после армии я мог бы работать по специальности, иметь свою семью, жить в свое удовольствие. нет, не мог. не мог, ибо ненавидел свою специальность, она находилась в жутком противоречии с моими склонностями. Если бы я пошел по этому пути, я бы всю жизнь чувствовал свою второсортность. Я перестал бы себя уважать, вот что самое важное (я уже отмечал, что я человек с болезненным чувством собственного достоинства, а о каком достоинстве может идти речь, если я вынужден буду заниматься не любимым делом, и при этом делать вид, что у меня все в порядке, «все путем». Нет, такая жизнь очень скоро привела бы меня к нынешнему финалу. Так что тянуть?! Что толку тянуть время, если конец известен? Тянуть, чтобы выиграть у жизни год-два, это не серьезно. Смерть, смерть немедленно, пуля в лоб — и никаких больше проблем! Ну чем не оптимальный вариант решения этого путаного кроссворда называемого жизнью! Чем не блистательный финал этого затянувшегося спектакля, называемого жизнь!!!
Однако я был бы слишком жалок в глазах людей, если бы ушел из жизни тихо, бесшумно закрыв за собой дверь, скажем, с помощью яда или другого какого-либо традиционного способа. Нет и еще раз нет!!!
Яд, веревка, газ — все это атрибуты самоубийства малохольных слизняков, расстающихся с жизнью чаще всего не осознанно, под влиянием минутного мрачного настроения, приняв для храбрости «полбанки», и впопыхах оставляющих записочку с примитивно-кратким содержанием: «В моей смерти прошу никого не винить…» нет, я намерен, твердо (подчеркиваю) намерен уйти из жизни «громко хлопнув дверью», унеся с собой «на ту сторону барьера», так сказать, определенное количество себе подобных.
Толко не надо думать, что я настолько примитивен, что жажду славы Герострата. нет, все дело в том, как бы это лучше объяснить, что я не хотел, чтобы моя смерть вызывала у людей жалость, недоумение, сострадание. Нет, что угодно, только не жалость. Жалость унижает человека! Унижает память о нем. Я не желаю, чтобы меня жалели, пусть даже мертвого. Пусть уж лучше смерть моя вызовет у людей гнев, негодование, пусть они лучше содрогнуться от одной лишь мысли, что любой бы из них, окажись он в момент «операции» близ меня, мог бы стать жертвой. Живите и содрогайтесь, наслаждайтесь своей тараканьей свободой! Об одном я только крепко, просто до слез сожалею, что не могу я вас всех уничтожить. О Господи, чтобы я только ни отдал за то, чтобы расстрелять человек триста-пятьсот, расстрелять не из автомата или пистолета, а из зенитного пулемета бронебойно-зажигательными пулями. К моему величайшему сожалению физически я это сделать не смогу. Ну ничего, «не пятьсот, так пять, по крайней мере», как поется в песне, я с собой прихвачу.
Впрочем, я малость отвлекся от тематики повествования. Ведь пишу я прежде всего о том, что касается причин того, что я намерен совершить. Подводя итог сказанному: главная причина совершенного преступления — общая неудовлетворенность жизнью.
11. Кое-что о морально-психологических факторах
В любом человеке заложен инстинкт разрушать, мучить, уничтожать, жечь, убивать и совершать другие агрессивные действия. Это, так сказать, врожденная черта. Однако в человеке заложен и другой, защитный инстинкт, инстинкт самосохранения, а проще говоря, страх перед наказанием за содеянное. Эти два противоположных инстинкта в различных людях проявляются по разному.
В одних людях первый инстинкт дремлет и никогда явно не проявляется, а в других этот инстинкт живет, я бы сказал, тлеет, как огонь под слоем торфа. Инстинкт этот — огонь коварный, способный в силу ряда причин выйти наружу и натворить больших бед. К этой второй категории людей принадлежу и я.
Причем, чем дальше я живу, тем все сильнее и больше чувствую проявления этого инстинкта. Иной раз он просто захлестывает меня, и мне мучительно хочется уничтожать, жечь, убивать — в такие минуты я прямо-таки физически ощущаю в своих руках автомат и мысленно целюсь в эти жалкие, ни о чем не подозревающие, живые мишени. Знали бы вы, каких неимоверных, титанических усилий мне стоило не пускать автомат в «дело» там, в карауле, на Лесной речке. Эта мысль приятно щекотала мне нервы, а сам я в те неповторимые минуты чувствовал себя человеком, а не мелкой крохотной тварью, которая вынуждена всячески приспосабливаться к жизни лишь с одной целью — чтобы жить, чтобы выжить. И тогда, там, на Лесной, в карауле, я вдруг понял, что в нашем «гуманном» человеческом обществе Человеком можно чувствовать себя только с оружием в руках, в противном случае ты букашка, а не человек. С тех пор эта мысль всецело завладела мной, завладела, ибо она была ИСТИНОЙ в этом море фальши и лжи, она наполняла мою стосковавшуюся душу верой, верой не в Бога, не в розовую идиллию, а верой в ОРУЖИЕ, в его силу, в его власть над людьми. С тех пор эта мысль, эта вера не покидает меня, и она уйдет вместе со мной.
Сейчас я понял, что там, на посту, я напрасно сдерживал свои порывы, что от себя, как ни крути, не уйти, что надо, и чем скорее, тем лучше, испытать эту веру действием.
И вот сейчас, решившись на самоуничтожение, я решил исправить тогдашнюю мою оплошность, и хоть час, хоть десять минут, но насладиться Абсолютной свободой, которой, как известно, нет ни у нас в стране, ни на Западе, насладиться безграничной властью над людьми.
Да, чтобы это испытать — стоило жить!
И я счастлив, что ухожу из жизни с чувством огромной радости, колоссального душевного подъема, с сознанием того, что пробил мой «звездный час».
В свой один из последних дней жизни я обращаюсь к вам, мои друзья, Сергей, Валентин, Андрей, Саша, Гена! Я ухожу, а вы остаетесь топтать эту бренную землю, коптить это небо, а проще говоря, продолжать то, что называется жизнью. Но задумайтесь, задумайтесь, когда устанете от однообразия жизни — жизнь ли это? Задумайтесь, как вы живете? Живете затхлой, однообразной жизнью, нудно-невозмутимо жуете эту безвкусную, пресную жвачку. Мне жалко вас… Помните: и мертвый я всегда буду оставаться вашей совестью.
Отец, мать, я обращаюсь к вам.
Я прекрасно сознаю, что моя гибель, гибель вашего единственного сына потрясет вас, и возможно, на всю оставшуюся жизнь выбьет вас из колеи. Но давайте смотреть правде в глаза. Ведь в том, что случилось немалая и ваша вина. Однако я вас прощаю, простите и вы меня. В похоронах и прочем особенно не хлопочите и на могилу часто не ходите. Памятника не надо. Надо при жизни было помнить, что у вас есть сын, интересоваться моими мыслями, планами, а вас интересовало только сыт ли я, обут ли, одет, да «как успехи» в учебе, а что у человека на душе — это вас не волновало, вы были заняты собой, своим проклятым хозяйством, своими скандалами, склоками. Пусть мне памятником будет ваша память обо мне не как о преступнике, а просто как о человеке. Пусть памятником мне будет отсутствие склок в семье, пусть мир и покой наполнят всю вашу оставшуюся жизнь.
Бабушка! Из всех людей, живущих на свете, ты, именно ты, а не мать, не отец, была для меня самым добрым человеком. Прости за то, что иногда причинял тебе немало хлопот и огорчений. Однако в последнее время я старался делать тебе только хорошее. Бабушка, помнишь, как я однажды тебе сказал, что ты меня еще переживешь? Ты обиделась, решила, что я считаю, что ты зажилась на этом свете. Теперь ты, надеюсь, понимаешь, что я имел в виду не твою, а свою скорую смерть. Ты живи, пожалуйста, как можно дольше, от тебя всем людям только свет и тепло. А если отец с матерью тебя будут обижать, то я и мертвый приду разобраться с ними, раз уж я при жизни не мог защитить тебя от грязных скандалов и пьяных выходок отца. А ты, отец, пей и дальше. Пей, если совесть свою давно пропил. Сегодня ты, да в том числе и ты, угробил меня, завтра ты угробишь бабушку или мать, а потом, радостный и гордый, что троих пережил, будешь ходить на кладбище и поминать.
После очередного домашнего скандала, я окончательно понял, что нет мне места в этой проклятой жизни. Мне стало предельно ясно, что, если я сейчас здесь, в армии, не совершу того, что всесторонне обдумал, то в будущем, после демобилизации, буду горько жалеть об этом, но будет поздно. Поэтому я принял окончательное, бесповоротное решение совершить задуманное в ближайшие три дня, как только обстоятельства будут благоприятствовать мне. Считаю своим долгом вкратце изложить суть плана операции.
111. План операции:
а) Время проведения: 17, 19, 21 июня от 20.30 до 21.30;
б) Место проведения: помещение облвоенкомата;
в) Обязательные условия: наличие всего личного состава узла связи (по плану все подлежат обязательному уничтожению);
г) Ход операции:
1) Удар по голове тяжелым предметом (топором) дежурного облвоенкомата;
2) Экспроприация оружия (пистолета);
3) Убийство всего личного состава узла связи;
4) Вывод из строя аппаратуры узла связи (делаю это с единственной целью — в надежде на то, что после моих «стараний» эту допотопную, полуживую аппаратуру поневоле придется заменить на новую);
5) Самоуничтожение.
Итак, за дело.
В заключении хочу заверить всех, что иду на «дело», твердо веря в успех всего задуманного, ибо не вижу реальных факторов, способных помешать мне.
P.S. Эх, если бы капитан Козлов хотя бы изредка, хоть немного интересовался нашей жизнью, нашими внеслужебными делами, нашим настроением — все, возможно, могло быть иначе. А так…
Итак, за дело.
ЭПИЛОГ
Солдат осуществил свой план. Приобрел кухонный топорик, завернул его в газету и зашел в комнату к дежурному офицеру по узлу связи. Доложил о прибытии. Капитан, читая газету, даже не посмотрел в его сторону. Солдат зашел сзади и с силой ударил его по голове топором. Дежурный офицер, даже не охнув, свалился на пол, обливаясь кровью. Солдат полез в его кобуру за пистолетом. К его ужасу кобура была пуста. Чтобы офицер заступил на дежурство без пистолета, такого солдат предположить не мог, хотя знал какова дисциплина в военкомате. Солдат стал лихорадочно искать в карманах убитого офицера ключ от ящика с оружием. И тоже не нашел. Как позже выяснилось, ключ лежал на столе под газетой. В это время в комнату неожиданно вошла жена дежурного офицера, принесла ему обед. Увидев мужа на полу в луже крови, она от страха и ужаса дико завизжала. Убийство жены офицера не входило в планы солдата, но отступать было некуда, и он зарубил ее. Три солдата, дежурившие на узле связи, услышав крик женщины, кинулись в дежурную комнату. Вбегали они по одному, и солдат поочередно рубил их. Первых двух уложил насмерть, а третий увернулся, удар топором пришелся ему по плечу. Тут подоспели два офицера, обезоружили, скрутили убийцу, связали и отправили на гауптвахту.
Если бы солдату удалось завладеть пистолетом, жертв было бы намного больше.
Месть тамбовского волка
Рассказ
Перед рассветом, когда луна потихоньку скрылась за лесом, тьма тревожно сгустилась, несмотря на то, что небо было чистое, ясное, звездное, и на востоке уже стало светлеть, раздвигаться.
Две соседки, доярки, как всегда, почти одновременно вышли на улицу. Райка Чистякова, женщина бодрая, энергичная, сильная, резко громыхнула дверью в тишине, не опасаясь разбудить мужа. Он уже не спал. А Настя Грачева еще осторожней обычного прикрыла за собой дверь в сени. К ней из Уварова приехала дочь, нажаловалась вечером на мужа, облегчила душу, и теперь спокойно спала. Настя с тяжелой душой выходила из дому, думая, что по дороге на ферму поделится с соседкой своими горестями, поругает неудачника-зятя, и покойнее станет, как уж бывало не раз. Занятая этими мыслями, не заметила необычной тишины в деревне: ни собаки не лаяли, ни петухи не перекликались, и направилась к соседке, которая поджидала ее у своего крыльца. А Райка Чистякова обратила на это внимание и сказала весело, своим бодрым голосом разрушая тишину:
— Тихо-то как, а? Как на дне речки, аж в ушах звенит.
Она умолкла на миг, ожидая ответа подходившей к ней черной тенью Насти, и в это время из лесу, со стороны реки Вороны, донесся непонятный звук, напоминающий тоскливый вой.
— Чей-та? — спросила Райка тревожно, испуганно.
А непонятный протяжный жалобный звук, вой, усилился, раздирая тишину тоской, и вдруг, показалось, этот страшный вой расщепился на два голоса: второй, с хрипотцой, был еще томительней и тревожней.
— Ужас-то какой! — прошептала Райка.
— Волки, — также шепотом ответила Настя.
— Откуда же они взялись? Сроду не было.
— После войны были. Я в детстве слышала, как они выли.
— Откуда же они теперь взялись? — снова спросила Райка, спросила шепотом, словно боялась, что волки услышат ее голос и прибегут в деревню.
— Вшей тоже давно не было, а вот, поди же ты, появились. Так и волки. В плохие времена всякая нечисть наружу выходит, — рассудительно ответила Настя, несмотря на то, что этот жуткий вой, который все не умолкал, то поднимался выше, то чуточку затихал, добавил тоски и томления в ее неспокойную за дочь душу.
Но доярки ошибались. Это были не волки.
…Эта жуткая история произошла совсем недавно. Впрочем, в другие времена она не могла произойти. Только в наши.
Николай Плужников, обычный, ничем особенно не отличающийся от своих сверстников, парень, отслужив в армии, устроился аппаратчиком на химзавод в Уварове, районном городишке. Как все парни стал бегать на танцы в Дом культуры. Вскоре влюбился в девчонку Тамару, тянуть не стал, женился быстро, и женился удачно. Тамара оказалась хорошей женой, ссорились они не часто, мирились легко. Радостно было видеть ему, как она, маленькая, гибкая, хлопочет на кухне, завод им комнатку дал в семейном общежитии. А какое было счастье после работы, после ужина лежать в постели перед телевизором или разговаривать о работе, о друзьях, о своей деревне. Не было большего счастья для него, как чувствовать ее голову у себя на плече, чувствовать, как нежно щекочут его щеку белокурые волосы.
Так бы и прошла его жизнь, как у всех людей, со счастливыми мгновениями, с маленькими тревогами за маленьких детей и с большими, когда бы они повзрослели. Но начались реформы, химзавод закрыли, и Николай Плужников, двадцатипятилетний, крепкий, энергичный и неглупый парень, как большинство горожан оказался не у дел. Был выброшен на улицу. Химзавод кормил весь город.
Одни его друзья, из тех, что поверили ежедневной телевизионной пропаганде, что теперь каждый может стать князем, бизнесменом, подались в частные предприниматели, другие пошли в бандиты, стали «доить» этих предпринимателей, а третьи, кому больше повезло, устроились в милицию. Впрочем, друзья его поделились на три группы не навсегда, легко перетекали из одной в другую: бандиты, поднакопив рэкетирством деньжат, становились предпринимателями; предприниматели, разорившись, вступали в организованные бандитские группировки, но и те, и другие мечтали перейти на работу в милицию. Там была стабильная зарплата. И переходили, когда освобождалось местечко, переходили только по знакомству, к другу. С улицы попасть в милицию было невозможно.
Энергичный Николай Плужников взял небольшой кредит в банке, купил палатку и начал вместе с женой торговать продуктами. Торговля в маленьком городке, где никто не получал зарплату, шла плохо. Николай быстро понял, что в князья ему никогда не выбиться, и стал мечтать о милиции. Когда в Уварово пришел приказ из Москвы организовать отряд милиции особого назначения, бывший десантник Плужников с радостью вступил в него, но палатку не закрыл, оставил жене, чтоб при деле была. Жизнь у них пошла спокойнее, будущее рисовалось не столь тревожным, как прежде, стали они подумывать о детях. Пора.
Но тут Ельцин затеял войну с Дудаевым в Чечне. Омоновцев со всей страны стали посылать в командировку на войну. Дошла очередь до тамбовского ОМОНа. Из Уварово взяли пятерых.
Николай Плужников, как один из самых ловких и сильных бойцов, был включен в отряд. Полгода, почти весь срок командировки, его облетали пули, в каких бы боях он ни участвовал. Но в конце, может быть, в самом последнем бою пуля прошила ему правое плечо, парализовала руку. Бой был скоротечный. Омоновцы отступили, и Николай Плужников оказался в плену.
Тамара узнала об этом, когда омоновцы, друзья Николая, вернулись в Уварово. Узнала, ахнула, обмерла, пришлось вызывать «Скорую». С этого дня она не отходила от телевизора, каждое сообщение из Чечни ожидала с нетерпением, думала, вот-вот расскажут, что муж ее освобожден из плена. Но таких вестей не было. Она часто слышала, что некоторые жены-матери едут в Чечню искать своих пропавших без вести мужей-сыновей. И тоже решилась поехать искать мужа.
В Чечне она поразилась тому, что мужа ее никто не ищет, никому он не нужен. Судьба его никого не волнует. Один полковник сказал ей прямо, что он уверен, что мужу ее давно отрезали голову и зарыли в каком-нибудь овраге, если, конечно, он не принял мусульманство, и не воюет теперь против своих. Бывали и такие случаи. Но Тамара верила, что Коля жив, сидит теперь в подвале или яме, надеется, что его выручат, а никто, кроме нее, не собирается его выручать. Значит, только она может его спасти. И она еще энергичней начала поиски мужа. Тогда другой полковник намекнул ей, что если она готова переспать с бандитом, то тот, возможно, попробует узнать у своих о судьбе ее мужа. На это пойти Тамара была не готова. Но чем безуспешней были ее поиски, чем больше ночей она не спала, чем больше думала о словах полковника, тем чаще в мыслях стала допускать и это, лишь бы спасти мужа.
Однажды, было это в Бамуте, она намекнула одному бородатому, без возраста, чеченцу, который слишком плотоядно рассматривал ее белокурые волосы, что готова отдаться любому зверю, лишь бы узнать, где ее муж, что с ним, лишь бы спасти его. Бородач усмехнулся, переспросил имя ее мужа и сказал, чтоб она подождала его до вечера у одной старушки, может, он узнает к тому времени у своих друзей о судьбе ее мужа.
Вечером, когда стемнело, он пришел к ней, усмехнулся по-прежнему плотоядно, насмешливо и сказал, что муж ее жив, что она сегодня же ночью может увидеть его, а если будет покладистой, то может спасти его. Мол, муж неподалеку от Бамута, двадцать минут езды на машине. Она была согласна на все, лишь бы увидеть мужа. Садилась в машину решительно, но с каждой минутой езды страшней становилось. От страха ноги слабели, дрожать начали, но она бодрилась, не хотела, чтобы боевики видели, что она боится их. Хорошо, что они молчали всю дорогу, а то бы сразу поняли, что она чувствует.
Привезли ее, как она поняла, в какой-то небольшой аульчик под Бамутом. Втолкнули в саклю с низким потолком. В первой большой комнате было несколько человек, в другую комнату дверь была приоткрыта. Там было тихо.
Полевой командир этого отряда Хазбураев, крепкий сытый мужчина, с брюшком, такой же как все бородатый, черный, спросил у нее:
— Значит, за мужем приехала?
— За ним, — подтвердила она робко.
— Сильно любишь, значит, раз в такое пекло сунулась?
— Люблю, — снова подтвердила она.
— А если мы тебя… — Хазбураев провел пальцами по горлу.
— Судьба, знать, такая, — вздохнула тяжко Тамара и затрепетала в душе еще сильнее. Сама погибнет и мужа не спасет.
— Значит, хочешь проверить свою судьбу. Проверь… А что же твой муж от такой любви сбежал воевать чужую землю?
— Он не хотел воевать. Ему не нужна ваша земля. Но у нас негде работать, кроме милиции… Жить на что-то надо. Потом послали сюда. Не бросать же работу… Куда потом пойдешь?
— Я бывал в тех краях, — вставил слово один из боевиков. — Нищета полная.
Хазбураев глянул на него неодобрительно и обратился ко всем.
— Что будем делать?
— Как что? — подхватил молодой веселый боевик с короткой реденькой бородой. — Девка-то хороша. Все равно никто нам за омоновца не заплатит выкупа, раз он нищий. Другого возьмем, побогаче.
Этот паренек, как только она вошла в комнату, не спускал с нее веселых голодных глаз, все пытался, она это заметила, вставить веселое слово в разговор Хазбураева с ней, но не решался перебить старшего.
Она думала, что пойдет с ней командир, бородатый здоровяк. Но он кивнул веселому бойцу, сказал:
— Иди, начинай.
Тамара трепетала, дрожала от стыда, от страха и не обратила внимания на слово «начинай».
Худой, веселый боец взял ее за локоть и повел в соседнюю комнату, где была кровать, весело и деловито бросил ей:
— Раздевайся, потешимся.
Всю ночь один за другим входили к ней в спальню тридцать пять боевиков полевого командира Хазбураева, а когда пошли по второму кругу, очередной боевик довольно быстро вернулся из спальни и развел руками:
— Каюк… Я не некрофил…
Хазбураев невозмутимо почесал себе за ухом, усмехнулся:
— Не думал я, что русские бабы так живучи, считал, до тридцатого не дотянет… Приведите сюда мужа, пусть он оттащит ее в овраг. Там отрежьте ему голову, положите рядышком, если у них такая любовь.
Пошли за Николаем Плужниковым, а Хазбураев заглянул в спальню. Тамару было не узнать. Все тело было в синяках: на щеках и груди овальные следы укусов. Простыня в крови. Что-то вроде жалости шевельнулось на мгновенье у него в душе к глупой женщине. Война дело мужское, дело женщины ждать мужа с войны, встречать его, а русские бабы лезут в самое пекло. Вдруг Хазбураеву показалось, что она слабо шевельнула пальцем руки, потом он явственно услышал стон. Полевой командир вздохнул и вернулся в комнату, куда, как он услышал, ввели пленного Плужникова.
— Она еще жива, — сказал Хазбураев.
— Прирезать, и пусть тащит в овраг, — с готовностью откликнулся веселый боевик, кивая в сторону Плужникова, который не понимал, что идет речь о его жене, и все же чувствовал непонятную тревогу, тоску, боль.
— Не надо. Я передумал… Вырежьте у него все мужское, под корень, и бросьте их в овраге. Выживут, пусть живут дальше. Жаль, нельзя будет узнать, чем кончится их любовь… А нам пора уходить отсюда. Рассветет скоро.
Утром нашли их в овраге, истекающих кровью, вызвали вертолет. Спасли. Через месяц они вместе вернулись в Уварово, но вернулись другими людьми. Оба молчаливые, не улыбчивые, оба сторонились людей. Что пережили, никому не рассказывали. Николай на расспросы только вяло махал рукой и отворачивался. Плужникова хотели по инвалидности уволить из отряда, но он уговорил командира походатайствовать за него, мол, на что он будет жить, да и здоров он, здоров.
Жили они по-прежнему в комнатушке семейного общежития. Но вместо счастья теперь поселилась у них печаль, гнетущая тоска. Без боли не мог он смотреть на почерневшую, осунувшуюся Тамару, свою Тамарочку. Себя винил, только себя за то, что она пережила. Он продолжал служить в ОМОНе, но служил по инерции, стал вялым, равнодушным, с потухшим взглядом, словно в плену из него выдавили жизненную силу, раздражал этим командира отряда.
Месяца через два Николай Плужников, показалось, воскресать стал, глаза оживились, будто у него снова цель появилась, стал энергичней, до изнеможения стал тренироваться, стал разговаривать, вопросы задавать сослуживцам, но все его вопросы были вокруг Чечни, вокруг отряда Хазбураева. И звонил по телефону в Тамбов, в Москву знакомым знакомых все по тому же полевому командиру. В отряде над ним стали подшучивать, говорить, что у него шведский синдром, мол, побывал в плену у Хазбураева и влюбился в него, все хочет знать о своем кумире. А он рвался в Чечню, писал заявление за заявлением.
Нехорошую весть привез однажды командир Уваровского ОМОНа из Тамбова. Вошел в комнату, где Николай Плужников сидел за столом и весело, насмешливо бросил ему:
— Велели мне тебе передать, копец твоему кумиру, пришили Хазбураева!
— Как?! — вскочил, воскликнул Плужников. Воскликнул так, словно услышал весть о смерти своего самого большого друга.
— Жестоко, очень жестоко убили, — ответил командир. — Разрезали на куски и кинули во двор к отцу.
— Наши?
— Видать, свои. Зачем нашим резать его. Почерк не наш.
— Одного убили, или еще кто был с ним из его отряда, — по-прежнему быстро, не скрывая волнения, расспрашивал Плужников.
— Троих вроде бы нашли. Двоих просто пристрелили, а над ним, видать, еще живым потешались долго.
— Имена, тех двоих, известны?
— Забыли мне их паспорта показать, — пошутил командир.
— Ну да, ну да, — серьезно и задумчиво произнес Николай, опускаясь на стул.
Неделю он снова был неразговорчив, хмур, задумчив, потом снова стал звонить в Москву знакомым знакомых из ОМОНа, выспрашивать, кто заменил Хазбураева в его отряде, стал еще энергичней рваться в Чечню. Но ему по-прежнему отказывали, говорили, что свой долг перед Родиной он выполнил достойно. И контрактником в Чечню его не брали, объясняя, что он там хорошо повоевал, хватит, мол, до конца жизни.
Шли дни, месяцы, и однажды в начале августа, в субботу Николай Плужников заглянул на рынок, продукты хотел купить, колбаски, помидорчиков, и вдруг видит, даже вздрогнул от неожиданности, остолбенел, видит знакомое, как показалось ему мгновенно, лицо чеченца, небритое, деловитое и хмуроватое. Чеченец торговал помидорами, стоял перед большим лотком, позади него была «Газель» с брезентовым кузовом.
Никому не догадаться, сколько сил понадобилось Плужникову, чтобы сдержать себя, не броситься к чеченцу, не вырвать у него одним движением горло. Сдержался Николай, постоял немного на месте, успокаивая гулко бьющееся сердце и подрагивающие от страсти ноги. «Не торопись, погоди, — уговаривал себя мысленно Плужников. — Ведь этот чеченец всего лишь один из тридцати пяти. Надо спокойнее, чтоб и другим досталось. Не торопись, иначе загубишь дело жизни». Успокоился, двинулся к лотку чеченца.
Чеченец был не молод. Лет пятидесяти. Рядом с ним у лотка была девушка, должно быть, дочь. Подошел Николай, взял один помидор, подкинул его вверх рукой, поймал, спросил у чеченца бодрым голосом.
— Откуда помидорчики?
— С Кавказа. — Чеченец взглянул на него, помрачнел, но ответил спокойно, не очень дружелюбно.
— Это я вижу. А точнее?
— Из Бамута.
Снова сердце в груди Николая рванулось, ударило в голову, и снова он сдержался, подумал радостно: «Не ошибся я! Видел его в отряде Хазбураева!»
— Дочка? — глянул Николай на чеченку.
— Сноха.
«Сынок, значит, в банде, а батя со снохой деньги зарабатывают, чтоб кормить его».
— О Хазбураеве слышал? — неожиданно для самого себя спросил Плужников.
— Кто о нем не слышал, — неохотно ответил чеченец.
— Как он поживает?
— Никак не поживает.
— А что так?
— Ушел на суд к Аллаху, — хмуро ответил чеченец.
— Помер? Жаль, хороший человек, видать, был?
— Кому как? Аллах разберется.
— Зовут-то тебя как?
— Ахмет…
— Ахмет, значит… хорошее имя, — пробормотал Николай и пошел прочь от лотка, поигрывая в руке помидором. Он просто забыл от волнения, что взял его с лотка чеченца. Шел и думал, что чеченец, видимо, тоже узнал в нем бывшего пленника, потому-то и отвечал ему так хмуро и неохотно. «Где он остановился? — думал Плужников. — В гостинице, должно».
Небольшая одноэтажная гостиница была рядом с рынком. Николай направился к ней, взлетел по деревянным ступеням на крыльцо, увидел в комнате директрису, полную, добродушную, улыбчивую женщину, спросил быстро:
— Любаша, чеченец с «Газелью», с помидорами, у тебя остановился?
— С девкой который?
— Ну да.
— Нет, он в частном секторе… с нашей горничной договорился.
— Какой у нее адресок?
— Тут рядышком, на Базарной… — ответила Любаша и спросила полушепотом, таинственным голосом. — А чо, он террорист?
— Точно, а девка его шахидка. Гостиницу твою взрывать приехали, — быстро ответил Николай серьезным тоном.
— Ври, ври! — засмеялась Любаша. — Гостиница моя завтра сама развалится. Чего ее взрывать.
— Они думают, что у тебя тут народу, как селедки в бочке.
— Ой-ой! — смеялась Любаша. — Два человека всего ночевали сегодня!
В лунную полночь Николай Плужников пришел к дому горничной на Базарную улицу. Огляделся. Прислушался. Тихо, только сердце громко громыхало в груди. Машина чеченца смутно серела в тени от дома во дворе. Николай негромко постучал в дверь, подождал, прислушиваясь. Из дома шаги донеслись, скрип двери. Женский голос.
— Кто там?
— Мне Ахмет нужен на секундочку. Пусть выйдет, — откликнулся Плужников.
— Кто его спрашивает? Что ему сказать?
— Скажи, хороший знакомый. Договориться на завтра надо. Я на секундочку.
— Дня им не хватает, — недовольно пробормотала женщина, удаляясь.
Через минуту, долгую, томительную, донеслись неторопливые мужские шаги. Как только дверь приоткрылась, и показался человек, Николай схватил его молча за грудки, выдернул на улицу, кинул на землю, завернул руки за спину, защелкнул на них наручники, приговаривая сквозь стиснутые зубы:
— Тихо, тихо! Спокойнее!
Ахмет, вероятно, не успел ничего понять. Николай поднял его с земли и поволок со двора. Он опасался, что, либо хозяйка, либо сноха, либо сам чеченец поднимут шум, и у него ничего не получится. Но чеченец молчал, а в доме, видно, не слышали, как Николай скрутил чеченца. Все шло так, как замышлял Плужников. Беспокоило то, что чеченец молчит, покорно идет с ним. Но вспомнилось, что и он не особенно-то кричал, сопротивлялся, когда был в плену. Пуля или нож могли успокоить быстро.
Николай почти волоком протащил Ахмета напрямик по огородам к берегу Вороны. Толкнул к березе, усадил на землю, крепко привязал бельевой веревкой к толстому стволу и сел напротив. Отдышался, поглядывая на чеченца, который свесил голову на грудь, и шептал что-то, должно быть, молился.
— На этот раз твой Аллах на моей стороне. Значит, я исполняю его волю, — сказал Николай Плужников, стараясь говорить, как можно спокойнее. Торопиться было некуда. Самое трудное прошло как надо. Теперь нужно было спокойно, твердо завершить начатое. — Скажи, скольким ты голов отрезал?
Николай ожидал, что Ахмет ответит, что он жалеет, что не сумел, там, в Чечне вовремя отрезать ему голову, но чеченец вздохнул, спокойно и глухо произнес.
— Голов не резал, но на кусочки резать человека пришлось.
— Вот и я сейчас тебя на кусочки резать буду, — твердо, уверенно сказал Николай, вытаскивая охотничий нож.
— Я резал своего кровного врага, а ты меня за что будешь резать? — глухо, хмуро с тоской в голосе спросил Ахмет.
— Вот за это! — Николай быстро спустил вниз свои брюки, показал голую чистую промежность. — Не твоих ли это рук дело? Не ты ли насиловал мою жену? — начал дрожать, распаляться Плужников.
— Когда? — выдохнул Ахмет. Заметно было, что и он начал дрожать.
— Когда я был в плену у вашей банды Хазбураева! Когда моя жена пришла меня спасать… дуреха, ох, дуреха! Лучше бы вы меня пристрелили на месте боя! — воскликнул Николай, сдерживая рвущие горло рыдания. — Вы заманили ее, и всю ночь измывались, насиловали ее, а потом меня оскопили. Может быть, именно ты резал меня? Ты, ты? Говори!? — Николай схватил чеченца за бороду, рванул его голову вверх и приставил нож к горлу. — Сейчас я приведу сюда твою сноху, приведу ребят, — хрипел, задыхался Плужников. — Они будут тут, перед тобой, до утра насиловать ее, как вы мою жену, пока она не сдохнет. А потом я тебя на кусочки порежу, и закопаем мы вас здесь, в лесу, ни одна собака не найдет!
— Я никогда не был в отряде Хазбураева, — еле выговорил Ахмет.
— Лжешь! Я тебя запомнил! — отпустил его бороду Николай.
— Аллах знает, — пробормотал чеченец.
— А где сын твой?
— У Аллаха.
— Наши прикончили? Вместе с Хазбураевым?
— Хазбураев зарезал, — тихо ответил Ахмет.
— Хазбураев?! Почему? — несколько опешил Николай, не веря Ахмету.
— Мой сын милиционером был… Мы с ним, он подростком был еще, в ваших краях коровники строили. Дружил он с вашими ребятами… — Ахмет говорил медленно, тяжело. — Не хотел идти к Хазбураеву… не хотел воевать с русскими. А в милицию пошел. Что он сделал боевикам, не знаю… Они пришли ночью… шестеро… С Хазбураевым. Связали меня, сына. Вшестером… на наших глазах изнасиловали сноху…
— Эту… девочку? — перебил, спросил Николай. Он слушал жадно, продолжал дрожать.
— Да… Сына выволокли во двор… Уши отрезали, нос, потом прикончили…
— Почему тебя не тронули? — верил и не верил чеченцу Плужников.
— Мне они сказали, чтоб я всем передал… так будет с каждым милиционером, с его семьей… Я похоронил сына и ушел с семьей к родне, в горы… Два месяца я караулил Хазбураева. Наконец Аллах помог мне… Трое их было. Тех, двух, я сразу… А Хазбураев должен был знать чья рука привела его к смерти… Я ранил его сперва… Потом я потихоньку отрезал у него уши, нос, каждую минуту я отрубал ему по пальцу… отрезал руки… Когда у него кончилась кровь, я отрубил ему голову… Потом отнес все… к отцу его во двор, чтоб посмотрел он какое исчадие родил…
Николай Плужников, продолжая дрожать, быстро, резко повернулся и пошел прочь от чеченца. Вскоре его нервные шаги затихли в ночной тишине. Ахмет снова опустил голову на грудь, снова стал молиться. Потом поднял голову, начал с тоской осматривать при лунном свете берег реки Вороны, где ему придется остаться навсегда.
Тихо тут. Быстрое течение Вороны еле слышно шелестит камышом. Из недалекой, видать, деревни доносится крик петуха, ленивый лай собаки. Тоскливо, тяжко было оттого, что лежать ему придется на чужбине, в чужой холодной земле. Что будет со снохой? Неужто этот омоновец исполнит свою угрозу? За какие грехи ссудил Аллах ей такую долю? Он-то ладно. Он грешил немало. Ему за дело, видать. А за что ей, невинной овечке? Ахмет дернулся несколько раз, пробуя, нельзя ли освободиться. Крепко, умело привязал его Плужников. Шевельнуться невозможно. Если бы какого-нибудь рыбака, привел сюда Аллах. Можно было бы крикнуть ему, позвать на помощь. Обостренным слухом Ахмет услышал шаги. Один человек идет. Может, рыбак? Ведь омоновец должен привести с собой сноху и ребят. А это шаги быстрые, торопливые, шаги одинокого человека. Крикнуть ему, позвать, но он и так приближается сюда. Человек показался среди деревьев. Ахмет узнал Плужникова. Он был один, в руках у него белый пакет. В нем было что-то тяжелое. «Голова снохи!» — с ужасом подумал чеченец.
Николай Плужников молча подошел, вытащил из пакета газету, расстелил перед Ахметом и стал выкладывать на нее помидоры, куски колбасы, сала, хлеба и две бутылки самогона. Потом достал охотничий нож, одним движением разрезал веревку. Повернул к себе спиной чеченца и стал в полутьме искать ключом замочную скважину у наручников. Никак не мог попасть в нее дрожащими пальцами, и все шептал, шептал:
— Потерпи, Ахмет! Погоди, потерпи, Ахмет, потерпи!
Через час, перед рассветом, когда луна ушла в лес, скрылась за деревьями, и сразу потемнело, несмотря на то, что на востоке небо уже светлело, раздвигалось, они, сидя рядом под березой, прислонившись к стволу, положив друг другу руки на плечи, запели песню, которую знали с детства, со счастливых времен застоя. Они пели о том, как широка их страна родная, как много в ней лесов, полей, гор. Они пели, что никакой больше страны не знают, где бы так вольно и легко дышал человек, что жизнь в этой стране привольна и широка. Песня их неслась через реку в Кавказские горы, пролетала над полем, над деревней.
Две доярки по дороге на ферму долго, с тяжкой томительной тоской прислушивались к песне, принимая ее за волчий вой. Они не догадывались, что это два пьяных мужика, русский и чеченец, пели о своей далекой погибшей стране, о своей уничтоженной Родине. Тревожно было от этого унылого воя, ох как тревожно. Шли они молча. Настя Грачева думала о своем зяте с горькой печалью, с жалостью: никакой он не неудачник, раньше-то мастером был на заводе, людьми командовал. И видать, хорошо, раз хвалили его на собраниях. Это теперь, теперь ему некуда приткнуться. А Райка Чистякова почему-то с тревогой, с болью представляла своего сына в Москве, в чужом холодном городе. Как ему там живется среди жадных злых людей, которые, как волки, за копейку готовы перехватить другу другу горло? Как бы он сам среди этих новых людей не стал таким же?
Сны Ивана
Рассказ
Не все ли равно, про кого говорить?
Заслуживает того каждый из живших на земле.
Иван Бунин
А этот человек, безногий Иван, более чем кто-либо заслуживает разговора о его жизни.
Почти каждый день можно увидеть его в подземном переходе к станции метро «Третьяковская». Он сидит, если так можно выразиться, спиной к стене, к холодным кафельным плиткам мутно-грязного цвета, на деревянной коляске-платформе с колесами от детской коляски. Прохожим, торопливо плывущим мимо него в бесконечном потоке, кажется, что у него нет не только ног, но и живота, что он лишился всей нижней части своего тела по грудь, и похож теперь на живой бюст, снятый с пьедестала и поставленный к стене на тонкую деревянную платформу.
У каждого, кто случайно кинет на него взгляд, невольно возникает в душе жалость, беспокойство, непонятное чувство вины, и прохожий суетливо отводит взгляд, еще торопливей проходит мимо, стараясь поскорее забыть его. Ведь тем, кто ездит в метро, новая жизнь принесла одни заботы, проблемы, нужду, у каждого своя боль, свои горести, и большинство людей, как это ни горько, в тяжкие последние годы привыкло не пускать в свою душу чужую боль. Лишь изредка кто-нибудь приостановится, смущенно, виновато вытащит кошелек, бросит мелочь в его ладонь с длинными тонкими пальцами, и, не оглядываясь, заторопится дальше, со смутным чувством беспокойства в душе благодаря Господа за то, что дает возможность бегать по земле на своих ногах.
А Иван молча прячет мелочь в карман и не поднимает головы, ничего не говорит вслед сердобольному человеку. Он молчалив, не докучает прохожих жалобами на свою судьбу, не просит подать ему ради Христа на пропитание. И самодельного плакатика с жалостливыми словами нет перед ним. Лицо его, худое, тонкое, серое, с продолговатым тонким носом, всегда хладнокровно, бесстрастно. Спокойные глаза, увеличенные очками с большими диоптриями, умны, но смотрят внутрь, давно привыкли к мелькающим мимо ногам по пыльным плитам перехода, шуршащим подошвам и резко щелкающим каблукам в сухую погоду и хлюпающим и мягко чмокающим осенью и зимой.
Сегодня в переходе сыро, грязно. На улице метет. Люди, спустившись по мокрым, заснеженным гранитным ступеням в довольно глубокий теплый переход, смахивают с плеч снег, выбивают его из шапок. От таящего снега на полу мутные разводы, грязные лужи. Как всегда Иван внешне спокоен, невозмутим, но мысли его тревожны. Думает Иван о матери. Утром она с трудом, громко охая и кряхтя, еле сползла с кровати, еле добрела до умывальника, тяжко бормоча на ходу, скорее всего для себя, чем для сына, привычные для него слова, мол, если бы не сын-калека, то давно б уж не встала с постели, померла спокойно, ничего радостного в этой жизни ее не ждет. Она уже третий день не выходит из комнаты, ноги ослабели. Не приведи Господь, думает Иван с тревогой и тоской, ноги у нее совсем откажут. Что тогда делать с матерью? Как он будет ухаживать за ней? Руки у него сильные, но не на что опереться, чтобы поднять ее, перевернуть в постели, перестелить простыню.
Иван не замечает привычное мельканье ног перед его лицом, не слышит мокрое шлепанье обуви по бетонным плитам пола, не слышит редкий звон монет в кепке, не слышит шуршание газеты, которую расстилают у стены рядом с ним, сопение, легкие стоны опускающегося на газету человека. Очнулся он только тогда, когда этот человек, тихонько, дружелюбно толкнул его в плечо, говоря:
— Привет, Иван!
Иван повернул к нему голову, узнал таджика, бомжа, но ничего не ответил, только уголки его губ чуточку приветливо дрогнули.
Но таджику и этого было довольно. Он знал, что Иван не разговорчив. Имя у таджика было длинное, слишком заковыристое для простого языка, и потому его стали звать Юсупом. Он привык к этому имени, и охотно откликался.
— У-у, зябко! – передернул плечами Юсуп, потирая руки, и прижался спиной к стене. На нем было старое грязное пальто с вытертым облезлым овчинным воротником, старая кожаная шапка-ушанка, какую носят деревенские мужики. И пальто, и шапка, и редкие черные волосы на его смуглом до черноты, морщинистом лице тускло блестели капельками от растаявших снежинок. – Худо! Совсем худо! Худой день! Согреться надо, — бодро проговорил Юсуп.
Он шустрым взглядом черных глаз окинул переход со спешащими мимо людьми; нет ли поблизости милиционера. Убедился, что нет, и сунул руку за пазуху, вытащил четвертинку дешевой водки и смятый пластмассовый стакан, который он только что взял со столика у киоска, стоявшего в переулке неподалеку от спуска в переход. Кто-то выпил кофе и оставил его на столике, не выбросил в урну.
Юсуп с хрустом расправил стакан, со сладострастным блеском в нетерпеливых маленьких черных глазах быстро свернул головку четвертинке, плеснул в стакан водки и протянул Ивану. Тот взглянул в сторону светлеющего неподалеку входа в переход навстречу потоку людей, туда, откуда всегда появлялась она: рано еще, — подумал Иван и неспешно взял, неспешно выпил и вернул стакан. Таджик сунул ему карамельку:
— Засоси!
Юсуп снова нетерпеливо булькнул водку в стакан и мигом выпил.
— А-а-а, — радостно выдохнул он. – Сейчас потеплеет.
Юсуп сунул бутылку и стакан назад, за пазуху, и снова прижался спиной к стене, замер, закрыл глаза, в ожидании, когда тепло разольется по всему телу. Тогда еще можно будет немного выпить, уже не для тепла, а для радости жизни.
Иван медленно катает языком во рту карамельку. Тепло быстро растекается по маленькому остатку тела Ивана, туманит глаза, наполняет сердце нежностью к таджику.
Юсуп ростом мал, но крепок, здоров. Но вид старик-стариком, а ему еще и пятидесяти нет. Где-то далеко, в теплой стране, у него была семья: жена, отец-мать, дети. Их кормить надо было, а денег в теплой стране заработать негде. И подался он в холодные края, строить богатую Москву. Уверен был, что каждый месяц будет посылать деньги домой, семье. Он когда-то был в Москве, провел в ней три дня по пути домой из армии, помнил дружелюбных москвичей, помнил шумные улицы, строгий и добродушный Кремль, веселые парки, помнил это и верил, что не пропадет в Москве, сможет поднять семью. Никто не сказал ему, что Москва давно уже не доброжелательна и не добродушна, и веселье ее тревожное и жуткое, как перед смертью. Беззащитного таджика московские мошенники обманули раз, обманули другой, третий, лишили паспорта. Постепенно опустился он на самое дно. Стал бомжем по кличке Юсуп.
Юсуп дремлет, растягивает в улыбке тонкие коричневые губы, видно, семью вспоминает, детей, свои счастливые молодые годы в большой стране, которая защищала маленького человека. Иван тоже прикрыл глаза, чувствуя блаженное состояние от легкого хмеля, теплоту, поднимающуюся из глубины души. Легкий волнообразный шум в ушах от выпитой некачественной водки сливается с непрерывным шорохом и шумом движущегося рядом потока людей, шлепаньем и чмоканьем подошв, и кажется Ивану, что сидит он не в грязном московском переходе, а на горячем большом валуне, на берегу моря.
Явственно видит он свои крепкие загорелые ноги, чувствует икрами ног жгучее тепло от нагретого солнцем камня, играя, шевелит пальцами ног. И как радостно, как чудно было чувствовать тепло ногами, просто шевелить пальцами! Он засмеялся и взглянул сияющими глазами на сидевшую рядом с ним на камне Тамару, свою одноклассницу.
— Ты чего? – спросила она, повернув к нему необыкновенно прекрасное на солнце милое лицо. На щеках ее играли блики от живого шевелящегося моря.
Легкие неспешные волны набегали на берег, хлюпали легонько меж камней с ярко зелеными водорослями, шуршали галькой. Невозможно было смотреть на воду в сторону солнца. Море, поигрывая, слепило глаза искрами. А в противоположной от солнца стороне море было радостно многоцветным: нежно бирюзовым, изумрудным, цвета салата, небесным, голубым, синим.
— Я счастлив, — ответил он просто. – Я счастлив, что ты рядом. Счастлив, что мы сбежали от ребят, и теперь вдвоем. Счастлив, что мы после экзаменов примчались в Крым. Счастлив, что море такое тихое, а солнце такое нежное. Остановись, мгновенье! – вскрикнул он, вскидывая руки. – Ты прекрасно!
— Нет, не остановится, — засмеялась в ответ Тамара счастливым смехом и вздохнула. – Беззаботен только этот миг. В Москве нас ждут новые экзамены, и разведут нас всех дорожки в разные стороны: кого в институт, кого в армию, кого в безработные.
— Но мы-то, мы-то по одной дорожке будем шагать! Ведь, правда, правда?! – схватил он ее за руку.
— Правда, — вздохнула она и прижалась к его плечу горячей щекой.
— Будем шагать вместе вперед, вверх, к солнцу! – страстно воскликнул он и приостановился, умолк, потом спросил с тревогой: – Почему в твоем голосе сомнение? В чем ты не уверена? Может, в себе? Во мне?
— Сколько людей до нас стремилось к солнцу и опалило крылья…
— Тебя волнует такой пустяк? – перебил он Тамару. — И только это тебя беспокоит?
— Разве кто-нибудь знает, что ждет его впереди, что будет с ним в будущем?
— Я знаю, я! – снова страстно воскликнул он. – Вернемся в Москву, я поступлю в институт. Там с первого дня включусь в студенческое движение, стану активистом. Я буду лезть на каждую трибуну, я буду страстно жечь сердца людей, поднимать народ на борьбу с криминалом и коррупционерами. Буду биться, чтоб все воры-олигархи оказались в тюрьме вместе с их паханом Ельциным. Окончу институт, вступлю в партию…
— В коммунистическую?
— Нет-нет, коммунистическая идея хороша, но руководят партией сейчас предатели. Они только на словах за народ. Я вступлю в партию, которой пока нет, но через пять лет она появится. Не может быть, чтоб не объединились люди, которые за свой народ, за свою землю, за Родину готовы отдать жизнь. Такие люди есть! Они не перевелись. Их много, только они разобщены. Появится такая партия, пока я буду учиться в институте, непременно появится. Вот в нее-то я и вступлю…
— А если не появится?
— Если не появится, то я ее создам! Я объединю всех, кто на деле, а не на словах любит наш народ, нашу Родину. Не верю, что в институте не будет моих единомышленников. Как бы нас не развращали, как бы не кормили наркотиками, всех не замажут, не развратят. Вот ты-то не развратилась, и я, ребята наши тоже наркотиков не нюхали, — показал Иван рукой в сторону палаточного лагеря, где остались их друзья.
Одинокая волна шлепнула по валуну, резко щелкнула, и Иван открыл глаза. Нет, это не волна ударила в прибрежный камень, это неуклюжий прохожий выронил из руки на грязный пол свой пластмассовый кейс. Потом быстро подхватил его и стал хмуро разглядывать испачканную крышку. А Иван, мельком взглянул в сторону входа в переход, не видно ли ее, и, не закрывая глаз, вернулся в Крым, к Тамаре. Да, сразу после выпускного вечера друзья-одноклассники летали к морю, чтобы отдохнуть, отвлечься от учебников, набраться сил перед вступительными экзаменами. Да, часто уединялись они с Тамарой на берегу моря, да, был он необыкновенно счастлив в те короткие дни и ночи, но не было того разговора, который примнился ему. Застенчив был, стеснялся сказать Тамаре, что он счастлив рядом с ней, стеснялся поделиться мечтами о будущем. Мечты так и остались мечтами. В институт он не поступил в тот год, принимали в него почти всех студентов за деньги. Осенью взяли в армию. Он верил, что после службы непременно поступит в институт, не тратил время зря, читал, готовился. И вдруг Чечня, новогодняя ночь, нелепый непонятный штурм Грозного…
Иван прикрыл глаза, и мигом перед ним запылали танки, дома, загрохотало, затрещало вокруг. Он застонал и испуганно вскинул веки. Юсуп услышал его стон и с сочувствием спросил:
— Плохо?
Иван вздохнул.
— Будешь еще? – Юсуп сунул руку за пазуху и вытащил четвертинку.
Карамелька рассосалась во рту, но еще чувствуется сладость от нее, потому теплая паленая водка кажется особенно противной, тошнотворной. Но через минуту горечь во рту исчезает, и он снова начинает вплывать в блаженное состояние, и с опаской закрывает глаза, но ни огня, ни грохота разрывов нет. Тихо. Только шорох, влажное шлепанье ног, говор прохожих. Иван прислушивается: нет ли среди этого бесконечного движения звука шагов той, которая ежедневно проходит мимо и каждый раз непременно останавливается возле него, кладет пять рублей в его ладонь, и он иногда чувствует нежнейшее тепло ее пальцев на своей ладони. И это тепло ее милых кончиков пальцев долго, очень долго греет его душу.
Сплошной шум в ушах вдруг переходит в одобрительный рокот народа, аплодисменты. Иван пробирается сквозь громадную толпу, заполнившую Красную площадь, к мавзолею, на трибуне которого стоят несколько человек. И один из них выступает. Говорит быстро, страстно, горячо, взмахивая рукой и резко бросая ее вниз, чтобы выделить особо важную мысль. Народ выдыхает единой грудью, когда его рука падает вниз. «Иван! Иван! – слышит Иван радостные возгласы вокруг себя. – Наконец-то пришел Иван!» Иван все ближе и ближе пробирается к мавзолею, и вдруг узнает в ораторе себя. Да, это он стоит на трибуне и призывает народ к действию.
«Сколько можно терпеть дармоедов и воров на нашей шее?» – яростно кричит он в толпу.
И народ единой грудью выдыхает:
«Хватит! Натерпелись!»
«Они ненасытны, — кричит Иван. – Никогда не насытятся народной кровушкой! Пора освободиться от кровопийц!»
«Пора!» – единодушно выдыхает народ.
«Так в чем же дело! – кричит-призывает Иван. – Вперёд!»
Мигом слетел он по гранитным ступеням трибуны на площадь и бросился к воротам Спасской башни.
«Освободим! Урра!» – ринулся народ за Иваном сквозь Спасскую башню, затопил собою Ивановскую площадь, соборы.
И вот уже этот самый народ в зале суда. На скамье подсудимых многочисленные премьер-министры и министры, олигархи-проходимцы и прочие миллионеры-мошенники. Большая скамья получилась. И главный обвинитель от народа опять он, Иван. И опять он страстно клеймит подсудимых-кровопиц, на этот раз он перечисляет многие факты их преступлений перед народом и страной. В зале тихо, только страстный, гневный голос его звучит, требуя самого сурового наказания мучителям народа. Иван возбужден до дрожи, и возбуждается все сильнее и сильнее… Вдруг кто-то сбоку легонько дергает его за плечо, слышится встревоженный голос:
— Иван, Иван! Ты что дрожишь? Заболел? Плохо?
Иван вскидывает голову, видит черное лицо Юсупа и сразу перестает дрожать.
— Заснул, — бормочет тихо Иван и смотрит в кепку, которую он положил перед собой на картонный лист.
Там две бумажные купюры и горсть монет, среди которых он разглядел три монеты по пять рублей. Возможно, одна из них ее. «Проспал, прошла!» — с горечью думает Иван. Он берет из кепки одну бумажку и пятирублевую монету, но задерживает руку над кепкой, кладет монету назад, «вдруг именно ее положила она», потом отсчитывает пятнадцать рублей и протягивает Юсупу вместе с бумажкой:
— Пивка возьмешь себе?
— У меня еще осталось, — Юсуп суетливо сунул руку себе за пазуху. – Добьем?
— Не надо, — отказался Иван. – Я в аптеку пойду. Мать заболела.
— Я тебя провожу, — стал подниматься Юсуп. – А то заболтался я с тобой. Работать надо.
Иван ссыпал мелочь из кепки в карман, предварительно вынув из него старые перчатки. Натянул поглубже кепку на голову, перчатки на руки, и они пошли к выходу. Иван отталкивался сильными руками от мокрого пола, резиновые колеса от детской коляски мягко постукивали на стыках плит. Прохожие расступались, освобождали ему проезд.
На улице смеркалось. При свете фонарей метель, казалось, разыгралась еще сильнее.
Киселев
Рассказ
Женщину звали Эммой. Авдееву она казалась такой же манерной, как и ее имя. Он часто видел Эмму с подругами на лестничной клетке у окна. Прислоняясь бедром к высокому подоконнику, она, как казалось Авдееву, жеманно тянула сигарету и поигрывала отставленной ножкой в узких брючках, когда мимо проходили мужчины. Авдеев смотрел на Эмму и ее подруг насмешливо. Он надеялся этим исправить их. Авдееву не нравилось, когда женщины курили. Вырос он в деревне, и только второй месяц был горожанином.
И вот эта женщина пришла к нему в комнату и спросила:
— Вас можно на минутку?
Авдеев оставил недобитым гвоздь в паркетной клепке, повернулся к Эмме и ответил, стоя на одном колене:
— Можно!
Потом поднялся, решив, что неудобно стоять перед женщиной на коленях без причины, тем более перед этой женщиной. Про себя он недоумевал, зачем вдруг он понадобился Эмме. Авдеев ей не был нужен, ей нужен был плотник, но как раз Авдеев-то и был плотником-паркетчиком.
Выслушав Эмму, он сказал:
— Не могу! Нет времени!
— Жаль, — качнула головой Эмма.
Авдееву тоже было жаль. Он не отказался бы узнать, какова Эмма дома. Но, кроме паркета, она хотела отремонтировать оконную створку и сделать полочки для банок, а он этого никогда не делал.
Она хотела уйти, но Авдеев вспомнил ее у окна с жеманной сигаретой и подрыгивающей ножкой, вспомнил про Киселева и сказал:
— Погодите, я сейчас приведу специалиста! — И убежал.
В соседней комнате Киселева не было. Молоток его и добойник лежали в коробочке с гвоздями на начатой пачке паркета. Ножовка на подоконнике.
Киселев был в кабинете начальника мастерской, где Помидор с Бородой делали панели и встроенные шкафы. Помидор — это Жилин. Лицо у него всегда красное от вина. А Борода… Тут и объяснять нечего. Все трое курили. Киселев сидел на подоконнике и, как всегда, скалил зубы, болтал что-то.
— Киселев, там тебя Эмма ищет! — перебил его Авдеев.
— Что за Эмма?
— Это я у тебя должен спрашивать… — сказал Авдеев. —Может быть, одна из тех, твоих?
— Разве он их всех упомнит? — засмеялся Помидор.
Помидор веселый мужик, а Борода молчун. Иногда и он пробует шутить, но у него всегда получается невпопад.
— Молодая? — спросил Киселев.
— Ты иди скорей! Она в моей комнате ждет!
— Интересно! — пробормотал с улыбкой Киселев и походкой бывалого человека двинулся к двери.
— Половой разбойник! — странно подхихикивая, произнес Борода.
Авдеев остался в кабинете, сел на место Киселева на подоконник. Тот вернулся скоро и еще в дверях замотал головой.
— Баба — прелесть!.. Идем? — обратился он к Авдееву.
— Боишься, один не справишься? — засмеялся Помидор.
— Сколько ты спросил? — Авдееву деньги нужны. Только из армии человек.
— Пятьдесят баксов! — ответил Киселев. — Там и за двадцать работать можно, — добавил он потом.
— Ну, ты рванул!
— У нее «бабки» есть! Видел, как одета?
— А ты не боишься с ним идти? — спросил Помидор у Авдеева. — Он тебя без гроша оставит!
Помидор напомнил одну из историй Киселева. Авдеев знал ее. Киселев сам рассказывал, как однажды его наколола молодая вдовушка. Он работал у нее два вечера, потом, когда закончил работу, уломал ее переспать с ним. После всего хорошего вдовушка заявила, что они в расчете, и выпроводила его, не заплатив.
Множество таких историй о Киселеве ходило по РСУ. В них охотно верили, но не потому, что рассказывал о похождениях сам Киселев, а скорее потому, что во всех историях он оказывался в дураках. А людям почему-то радостней слушать не то, как ты обвел всех вокруг пальца, а как сам попал впросак.
Киселев ростом невысок, суховат, в движениях быстр, но несуетлив, выдержан. Глаза его веселы, лицо всегда насмешливо, но насмешливость эта, чувствуется, не от ехидства, не от желания уколоть, а, наоборот, от стремления вызвать улыбку. Ходит он, держа руки в широких карманах спецовки. Где бы он ни работал, всюду у него знакомые, всюду у него друзья. Через неделю после того, как РСУ переехало ремонтировать это здание НИИ, Киселев начал перебрасываться шутками почти с каждым встречным. И все ему улыбались, все отвечали. Авдеев никогда не видел его молчащим. Разговаривал он и тогда, когда один настилал паркет в комнате.
— Зря ты не пошел, дурачок! — говорил он согнувшемуся гвоздю. — Ты бы клепку держал, польза бы от тебя была, а так вытащу я тебя сейчас и выброшу, будешь ржаветь на помойке. Думаешь, для тебя это лучше?.. Ну, как знаешь! — Он вытаскивал и выбрасывал гвоздь.
Авдеев сразу отнесся к Киселеву настороженно. Решил, что Киселев насмешник, болтун: от такого подальше, но потом привык.
Отправились Киселев с Авдеевым к Эмме часов в пять. Квартира ее была на третьем этаже. Открыла им старушка.
— Вы плотники, — обрадовалась она, увидев торчащую из портфеля ручку топора, и засуетилась, пропуская их в коридор.
— А где Эмма? — спросил Киселев.
— Эммочка на работе… Она звонила, предупреждала! Спасибо ей, деточке, а я и не чаяла… Только уж больно дорого! Пятьдесят! Больно дорого!
— Сейчас все дорого! — с достоинством ответил Киселев.
— Это да, да! — сокрушалась старушка. — Куда ни кинь, все дорого…
— Показывай, бабуля, работу!
Старушка провела их в комнату. «Неужели тут Эмма живет?» — осматривал Авдеев комнату.
Старый самодельный, но крепкий еще стол под клеенкой, на нем допотопный телевизор с небольшим экраном, светло-желтый шифоньер с потемневшим зеркалом в дверце, железная кровать, аккуратно застеленная, на стене ковер с оленями у лесного ручья, на полу в два ряда дешевые половички. И никаких признаков проживания молодой женщины. И спать ей негде, раскладушку, что ли, ставить?
— Окно вот не закрывается, — говорила между тем старушка. — Дождь прямо на пол льет. Паркет от воды повыскакивал! Того и гляди ногу сломаешь! — Старушка сдвинула в сторону половик у окна, обнажила выскочившие клепки.
— Это мы сделаем, бабуль! Это мы враз, — осматривал окно Киселев. — Бабуль, а зачем тебе нужно, чтобы большая створка открывалась? Хочешь, я тебе закрою ее навечно, ни один черт не откроет! Тебе фрамуги хватит!
— Нет, не надо! Пусть открывается… Сделай уж как было…
— Смотри, бабуль, тебе жить… Ну-ка, подними-ка топориком, — сказал он Авдееву. Тот поддел створку топором и поднял сколько мог вверх. Киселев вбил в образовавшийся зазор между петлями гвоздь наполовину и обогнул оставшуюся часть гвоздя вокруг штыря петли. Створка поднялась выше и стала закрываться.
— Во, бабуль! Принимай работу… Двумя пальцами можешь закрывать!
— Спасибо, сынок! Спасибо!
Плотники присели над выскочившими из пола клепками паркета. Старушка все время была около них, и Авдеев никак не мог поделиться своей догадкой с Киселевым. Догадкой насчет того, что Эмма никакого отношения к старушке не имеет.
А тот болтает себе и болтает.
— Без деда живешь, бабуль? Одна?
— Одна, сынок! Одна!
— Скучно, видать, одной?
— Скучно, скучно, — охотно соглашалась старушка. То ли она была вообще покладистая, то ли старалась угодить плотникам, надеясь, что они скостят плату за работу.
— Был бы дед какой-никакой, хоть алкаш, и то веселей… Я вот люблю поддать, жена ругается, но терпит, не гонит…
— А ты поменьше бы пил-та! Молодой какой, а пьешь…
— Подносят, бабуль! Откажешься — человек обидится. Ты ведь тоже бутылочку приготовила, наверное, а?
— Приготовила, приготовила! Как Эммочка позвонила, так я сразу в магазин побежала…
Авдееву было стыдно и за Киселева и за себя. «Пятьдесят баксов со старухи дерет, да еще бутылку выжал, гад!» Авдеев клял себя за то, что пошел с Киселевым.
— Ну вот, опять пьяный приду, — сказал Киселев.
Старушка на это промолчала.
— А Эмма тебе кто, соседка? — спросил Киселев.
— Соседка, соседка!
— Хорошая баба, ладная!
— Добрая она, заботливая, — поддакнула старушка. — Когда я хвораю, она всегда в магазин ходит…
— А у тебя, бабуль, дочки нет?
— Была у меня дочка, да еще маленькой померла… В голод… Муж-то с войны не пришел. Тяжело было!
— А что же ты замуж не вышла?
— Не брали меня. Невидная я была… Да и брать-то некому. Мужиков-то поубивало.
Плотники отремонтировали паркет и перешли на кухню делать полочки для банок. На кухне у старушки тоже была скудная обстановка. Поцарапанный холодильник, стол с протертой по углам клеенкой, тумбочка. В углу за тумбочкой небольшой горкой лежали штук восемь маленьких арбузов.
— Чей-то ты такие крохотулечки купила, — указал на них Киселев. — Они еще не созрели добром!
— Это мне племянники привезли, из деревни. Сорт такой…
Когда Киселев с Авдеевым стали крепить полочки к стене, старушка засуетилась, выставила бутылку на стол и начала собирать ужин. Водку Киселев закусывал арбузом и удивленно похваливал:
— Смотри ты, крошечный арбузик, а сладкий какой, аж сам тает!
— Сорт такой… Племяннички выращивают…
— Я возьму парочку детишкам. Уж больно они хороши. Ты, бабуль, не против, а?
— Бери, бери! — снова засуетилась старушка, выбрала два арбуза покрупней и подала Киселеву.
Тот положил их рядом с собой на стол и потянулся к бутылке. «Вот нахал!» — думал Авдеев, все больше удивляясь низости Киселева.
— Бабуль, может, хлопнешь с нами грамм сто?
— Вы пейте, пейте… куда мне… — Старушка встала и вышла.
«За деньгами, наверно, — догадался Авдеев. — Ограбили бабку… Она сама, видать, перебивается, а мы… Тут всей работе-то красная цена пятьсот рублей!» Но Киселеву он не успел сказать об этом. Старушка вернулась быстро и протянула им три пятисотрублевые бумажки, развернутые веером.
— А это что? — переспросил Киселев, как будто ничего не понимая.
— Вам… за труды… — растерялась старушка.
— Мы в расчете. Бутылка-то, наверно, побольше пятидесяти рублей стоит?
— Поболе…
— Ну вот! Мы за пятьдесят рублей и подряжались!
— А Эммочка пятьдесят… этих самых… американских называла…
— Она ошиблась. Я ей сказал за пятьдесят сделаем, а она, видно, решила, что за пятьдесят долларов. Все в порядке, бабуля! Спасибо за арбузы… Нам пора!
Утром Авдеев на работе переодевался один. Из открытой двери соседней комнаты, где была раздевалка столяров и плиточников, доносился голос Киселева. Потом послышался хохот. «Снова что-то заливает!» — начал прислушиваться Авдеев.
— Я Авдееву шепчу, — рассказывал Киселев, — «бабки» на карман — и гони! Я с ней добалабонился… Авдеев замялся перед Эммочкой, так и так, мол, говорит, спасибо за ужин, я тороплюсь, меня девка ждет — и к двери! А я ей, мол, мне торопиться некуда, посидим давай, побалдеем… Она расцвела, коньячишко на стол. Только расселись, слышу, кто-то в двери ключом шебаршит. Эммочка как вскинется! Муж! — Киселева прервал хохот. Когда отсмеялись, тот продолжил: — Какой муж? — шепчу, а самого трясучка за колени взяла. Ну, думаю, влип! И с софы! А тут муж входит — лоб огромный! Глянул на софу, глянул на стол — и ко мне…
И снова хохот на весь дом.
Помидор сквозь смех спросил:
— Эммочка здесь работает? Покажешь?
— Нет, — ответил Киселев. — Она к подруге приходилa. Ну и увидела нас! И пригласила!
Авдеев переодевался, улыбаясь, и подумал: «Ну, трепло! И они верят его сказкам!» Но когда он вошел в комнату столяров и взглянул на Киселева, опешил от неожиданности. Щека его была исцарапана, под глазом синяк.
— Кто это тебя так, а?
— Что же ты друга одного бросил, — хохотнул Помидор. — Видишь, как его отделали!
Авдеев не знал, чему верить. Уходили-то они вместе и в автобус садились вместе. Откуда же синяк и царапина? Потом догадался и, когда они остались одни, спросил:
— Это тебя так жена угостила, да?
— Она… Поздно, говорит, пришел. Не поверила, что мы у старушки халтуру делали. Съездила по щеке, а ногти длиннющие…
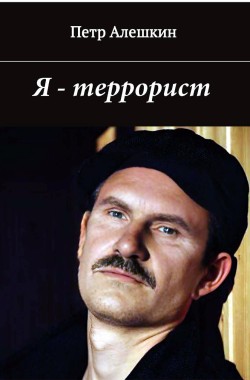





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

