Читать онлайн "Спор"
Глава: "Глава 1"
Спор
- Чем Вам не угодило слово «судьба», или «любовь», например, - Эдуард Осипович подрагивающей от нервного тика рукой пытался заправить дужку очков за ухо, - а прочтя, м-да, прочитав, мои «Объятия», Вы вообще, словно с цепи сорвались. Как же мне пользоваться словами, если Вы наложили на них непреодолимое критическое вето.
Очки он так и не смог надеть от волнения. Положил их перед собой на только что отрецензированную вслух рукопись рассказа, его собратом по перу литературоведом Полонским.
- Дорогой мой, Эдуард, - начал рецензент издалека, - никто не запрещает вам пользоваться словами. Я лишь пытался сказать вам, что: (опять-таки, вернёмся к нашим баранам), слово «судьба», так же как и слово «любовь», несёт в себе очень большую смысловую нагрузку. Эти слова и без того объёмны, тяжелы и многослойно интерпретируемы. А вы пытаетесь их употребить в произведении требующем тонкости и изящества. Ну, скажите мне на милость, как я должен относиться к фразе: «судьба его была предрешена, впереди Артура ждала любовь». Мало того, что эти два булыжника стоят в одном предложении, тут же приделано имя героя, которое должно появляться только в самых крайних случаях и самых ответственных местах.
- Я решительно вас не понимаю, Полонский, вам всё не в тему, - Эдуард Осипович продолжал теребить свои очки.
Но рецензент не унимался:
- А что это за висящее отвлечённое существительное в названии? Что обозначают ваши «Объятия»? Судя по настойчивой краткости этого слова, ваши герои на протяжении всего рассказа не в силах выпустить друг друга из рук. И весь рассказ они должны сидеть, обнявшись, а они у вас «скромно поглядывают друг на друга исподлобья», как бараны, опять-таки.
Повисла тяжёлая пауза. Эдуард Осипович начал теребить пуговицу на пиджаке, делая вид, что сосредоточенно смотрит на циферблат настенных часов.
- Я всё равно не перестану писать, - сказал он с нотками металла в голосе.
- Дорогой мой, Эдуард Осипович, я не запрещаю вам писать, да пишите, хоть упишитесь весь. Для меня одно мучение читать ваши абракадабры. Поэтому, либо вы начинаете писать «кажется» без мягкого знака и не употребляете более этот словесный фастфуд: «зябко куталась в платок», «страстные поцелуи», «горячие ладошки», «влюблённый взгляд», «прошёл год» и прочую несносную дребедень, либо избавьте меня от вашего творчества. Вот что значит в вашем понимании «прошёл год»?
- Ну, прошёл и прошёл, что такого. Нужно же как-то обозначать время, - Эдуард превратился всем телом в знак вопроса.
- Это не сценарий захудалого фильма и не экран телевизора, где можно крупными буквами вывесить эту фразу, в надежде, что её заметит внимательный зритель и не потеряет нить повествования. Это рассказ с ямой неизвестности в целый год, где ваши, извиняюсь за выражение, - герои, даже «чайку не попили», а уже «женятся».
- Ну, помилуйте, Полонский, если бы я описывал целый год, это уже был бы не рассказ!»
- В этом-то всё и дело, мой дорогой пишущий собрат, в умении описать год в одном небольшом абзаце. Так что ваяйте фантастику, этой варварской тётке всё равно какие словосочетания вы используете, - чем не выход. А в реальную жизнь лучше не суйтесь, испортите ещё что-нибудь. Ведь неизвестно, как слово ваше отзовётся.
- Что это вы имеете ввиду? - Эдуард Осипович снова взялся теребить очки, лежащие перед ним.
- Как что, как что! Возьмите Федор Михалыча! Один раз написал про топор и старушку, и всю последующую историю литературы превратил в подражание полицейским романам!
- Вы и в самом деле считаете, - под напряжёнными пальцами Эдуарда Осиповича оправа очков изогнулась и с громким чмоком выплюнула один окуляр на стол, - «Преступление и наказание» - полицейским романом?
- И не только я, - ответил с нескрываемой гордостью Полонский.
- Ну, знаете, ваши претензии, переходят все границы, ещё скажите, что Достоевский - не писатель!
- Нет, не писатель, - с улыбкой ответил Полонский.
Эдуард Осипович толстыми колбовидными пальцами пытался вставить линзу очков обратно, но из-за волнения и непомерной наглости Полонского, стекляшка скользила на подушечках пальцев и уже который раз с раздражающим стуком вываливалась на стол:
- Вы хоть представляете, что вы несёте?
- Да нет, уважаемый Эдуард, это вы несёте. Вы тащите вы за собой, мой дорогой, вечно начинающий писатель, непомерный груз чужой непросвещенной мысли. Оттого и произведения ваши мелки и подражательны.
- Хорошо, допустим, - взял себя в руки Эдуард, хоть у него и кипело всё внутри, но он, волевым усилием, постарался унять дрожь и всё нарастающее негодование, выраженное в нервном тике теперь уже на правом глазу.
- Кто же тогда, по-вашему, достоин исторической и литературной правды? - Спросил он с всё ещё заметным придыханием.
- А уж это, мой дражайший, вы уж сами без меня определите. Начните же, наконец, читать, а то всё пишите, да пишите! Что я вас учить должен? Я не хочу быть виноват в ваших удачах или неудачах. Что найдёте всё Ваше!
- Экий вы, Полонский, прегадливый человечишко, и так вам не так, и так вам не эдак! Разбередили обидой состояние и в кусты. Нет, чтобы помочь человеку, раз знаете. По глазам вижу, знаете, а всё себе хотите оставить, единолично владеть. Тьфу, на вас! Смотреть противно!
- Радовались бы, что я вас ругаю. А то, слащавые прихвостни из литобъединения захвалили совсем вашу быстропишущую персону. Ну, ни дать, ни взять новоиспечённый Гоголь. Никакого движения вперёд!
- Ага! Значит: Гоголь вам нравится?
- Ну, вы сказанули Эдуард Осипович, как может, не нравится Гоголь! Кстати сказать, я давно заметил, что тем, кто души не чает в Достоевском - не нравиться Гоголь, и наоборот. Такое странное раздвоение. Оно и дальше производит деление, например, политическое: коммунист - значит достоевщина, гоголь - значит либерал. А вы кто, коммунист или…?
- Я смотрю, глубоко копаете, Полонский, так и до «врагов народа» дойти можно.
- Для меня, Эдик, - Полонский наклонился к самому уху собеседника и громко прошептал, - все кто пишет ахинею и её печатает, где ни попадя - «враг народа».
Эдуард Осипович снова принялся за сломанные очки.
- Вот взять вас, - продолжил Полонский, - судя по всему, находитесь вы по другую сторону баррикад от меня. Фёдор Михалыча предпочитаете, депрессивный взгляд на жизнь пропагандируете, иронию не ставите ни в грош, самолюбие в литобъединении тешите. Вы ведь туда за этим каждый день с новым стишком в толстой тетрадке ходите? Улыбки дам и всё такое. Жидкие аплодисменты, восхищённый взгляд, какой-нибудь бабушки-молодушки? За этим ходите, Эдуард Осипович, кажется, я с вами на языке «твари дрожащей» разговариваю? Что вы молчите?
Полонский с вопросом на лице спокойно смотрел на раскрасневшееся лицо и дергающееся веко Эдуарда. Его оппонент сжал в руке очки так, что и второе стеклышко со стеклянным эхом, выжатое силой злости и негодования из остатков оправы, юркнуло под стол.
- А ваши, извиняюсь за выражение, вирши, - Полонский сел в раскидистое кресло и нагло положил ногу на ногу, - глагольные рифмы, подростковые темы, давно устаревшее «небо» с «хлебом». Если вы станете записывать хореем каждый свой выход в магазин за продуктами, поэзия превратиться в торговую лавку. Хотя какая там поэзия? Её отродясь у вас не бывало.
- Вон! - Закричал Эдуард Осипович, - Вон из моего дома! Негодяй!
От его крика зазвенело ещё одно стёкло в настенных часах и передёрнувшиеся вдруг гири, словно от сотрясенного воздуха, привели в действие механизм курантов.
- Бум, бум, бум, - не к месту забавно, отсчитывали удары стройные напольные часы.
Полонский встал, и с видимым спокойствием направился к выходу.
В тесном коридорчике не нашёл выключателя на привычном месте. Долго нащупывал в темноте свою пару, трогая невидимыми руками образы обуви. Потом покряхтывая, и чертыхаясь про себя, пытался засунуть пятки: сначала одну, потом вторую, в тесные лунки ботинок с загнувшимися некстати задниками (помогал пальцем). Разгадав секрет открывания замка, и дослушав набрякшую тишину до конца - вышел. Вздохнул свободно на лестничной площадке, и тихо, до щелчка, прикрыл за собой дверь.
На улице уже царствовали сумерки. Пустынная чаша двора, только в самом дальнем своём углу перекатывала каплю забродивших подростков. Отчётливо цокала всеми струнами акустическая гитара, блуждали в темноте беспечными светлячками огоньки сигарет.
Полонский пересёк быстрым шагом ослепший двор наискосок, и не оглядываясь, чтобы сбросить с себя неприятное ощущение только что покинутой квартиры, заспешил к перекрёстку, где празднично подмигивал проезжающим редким авто своим средним глазом светофор. Мысли всё ещё прятались за глыбами предложений не успевших вернуться в «Эдические Объятия», и опустошённая непримиримым спором голова шумела летним приятным ветерком.
К остановке с весёлым электрическим жужжанием издалека катились рядком уютные окна троллейбуса, пришлось последние метров сто пробежать почти вприпрыжку, и дернувшиеся было к закрытию двери-гармошки, лязгнули назад - впустили.
Люминесцентные лампы салона, высветили совсем немного пассажиров. Пара, стоящая на задней площадке, очарованная мерным покачиванием движения, забыла руки друг на друге. Задремавший, лицом в сумку с рулончиками билетов, мужчина-кондуктор без лица но, в форменной одежде, оживший при его появлении. И бодрая, озирающаяся по сторонам, старушка с безразмерным чемоданом на колёсиках, из которого торчали кустом голые ветки древесной рассады.
Полонский вновь перевёл взгляд на молодую пару, вспомнились слова из «Объятий» Эдуарда Осиповича: «…они стояли так близко друг к другу, что тела их в районе живота, касались ремешками…».
- Урод в районе головы, - буркнул Полонский под нос, - теперь неделю не отделаешься от этого плебейского стиля.
Он прекрасно знал, что Эдуард через некоторое время, остынет, опомнится от своей непримиримой литературности, и обязательно позвонит ему, станет извиняться. Они снова помирятся и даже на следующий день выпьют мировую. Так было уже много, много раз. И опять, превозмогая себя, своё бессловесное я, Полонский будет рецензировать его бесчувственные тексты, и пропускать мимо ушей: «Что Бродскому случайно повезло стать лауреатом. Бунин - баловень судьбы и богатей - чревовещатель нежной и бесполезной прозы, а Набокова вообще читать невозможно».
«В самом деле, откуда берутся, эти Эдуарды Осиповичи», - Полонский выковыривал мысли из завалов слов в своей голове устроенных недавним собеседником, - «все они обязательно участники и члены, много печатаются, состоят в союзе писателей, книги на свои деньги издают. Хвастаются друг перед другом твёрдыми и мягкими корками, новенькими, только что вышедшими со станка авторскими изданиями. Лес переводят. Пишут, словно и не было до них никакой литературы. И суждения свои чревовещательные имеют об этой самой литературе. Им учиться нужно, а они пишут, как оглашенные. Понимают ли самолюбивые господа, что делают? Как они вообще попадают в писатели? Да, и есть ли для всех такая тайная ниша на свете?»
Если бы ему хватило времени, то он ответил бы сам себе на эти каверзные вопросы, но троллейбус, распахнул все двери на конечной остановке, и пришлось помогать бабуле, вытаскивать неприподъёмный чемодан с рассадой.
Потом, рецензент-Полонский, из самых добрых побуждений тащил будущие насаждения до ближайших домов, в желтые квадратики окон. Маленькие колёсики, то и дело подпрыгивали на пупырчатом в мелкий камешек асфальте, и старушка едва поспевая за ним, приговаривала ласково:
- Потерпите яблоньки, потерпите…сейчас напою вас,…сейчас.
Переступив порог своей ванной комнаты, рыцарь слова собирался смыть остатки филологических баталий перед сном, и уже прохладная вода обволокла натёртые ручкой чемодана ладони, как раздался телефонный звонок.
- Вот всё у вас так, Эдуард Осипович, не вовремя, хоть бы раз на минуту раньше позвонили. Да, алло, алло…я,… . Да простил, …да Достоевский писатель… . Нет, Эдуард с вашими виршами я согласиться не могу. В который раз вам повторяю: все что зарифмовано, но можно сказать прозой - это просто стихотворение. А то, что зарифмовано, но пересказать прозой нельзя - это поэзия…. Нет и ещё раз нет, не уговаривайте меня принять желаемое за действительное.
Да,…доехал хорошо,…всё договорились. Да, …ровно в семь. Пока,… до встречи.
Напоследок в ещё живой трубке, которую Полонский держал мокрой рукой, услышал голос курантов в квартире Эдуарда:
- Бум, бум, бум, - протяжно и с достоинством говорили часы, отсчитывая навсегда уходящие мгновения. Те малые толики времени, которые сначала необходимо увидеть, почувствовать, ощутить всем своим существом, и только потом переносить на бумагу, сохраняя для себя. Но тут же их сменил повседневный и привычный телефонный гудок.
01.02.2023. Б.В.
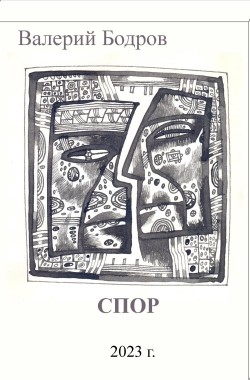





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

