Читать онлайн "Выживут только гении"
Глава: "Выживут только гении"
Андрей Столяров
ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ГЕНИИ
Какие авторы имеют шансы на будущее?
Уже лет двадцать, если не больше, в литературной среде слышны душераздирающие стенания о том, что книга гибнет, а вместе с ней гибнет и вся культура, что современный человек читает все меньше и меньше, что мир в результате погружается в варварство и что это подлинная трагедия нашей эпохи.
Факты неоспоримы.
Тиражи бумажных книг действительно резко упали, их вытесняют электронные книги, которые и удобнее, и гораздо дешевле. Количество читателей тоже неумолимо сокращается: многие предпочитают аудиовизуал, который эффектней и легче для восприятия.
Все именно так.
Однако является ли это трагедией?
Или, может быть, тут нечто иное?
Может быть, культура вовсе не умирает, но претерпевает, как это уже бывало в истории, глобальную трансформацию, обретая на новом технологическом базисе такие же новые, необычные характеристики?
Посмотрим, что происходит на самом деле.
Империя текста
Прежде всего обратим внимание на следующий факт. Текстовая культура, в том числе и собственно книга, никогда не имела в истории человечества широкого распространения. В течение долгих тысячелетий она была принадлежностью очень узких специализированных элит – религиозных, научных, управленческих, творческих.
Вспомним, что в течение всего европейского Средневековья абсолютное большинство людей не умело ни читать, ни писать. Причем не только народ, крестьяне, ремесленники, но и многие представители высших сословий: епископы вместо подписи ставили крест, рыцари книжное образование вообще презирали, неграмотными были даже некоторые короли. Массовую культуру Средних веков составлял вовсе не текст, а совсем другие сегменты искусства: церковная скульптура, церковная архитектура, церковная живопись, церковная музыка. В совокупности – тогдашний аудиовизуал.
Ситуация изменилась лишь с наступлением европейской модернизации. Переход к индустриальной эпохе, охвативший собой весь XIX век, потребовал хотя бы начального образования от множества людей, вовлеченных в этот процесс. Впервые в истории появились широкие слои населения, владеющие чтением и письмом.
Причем та же модернизация, связанная с внедрением массового производства, резко удешевила как сам способ печатания, так и средства доставки печатной продукции – появились и типографии, и железные дороги, и рейсовые суда. Газеты и книги стали доступны возникающему среднему классу, что вызвало соответствующие изменения социальной среды. Газеты начали синхронизацию массового сознания и привели к появлению общества – совокупности образованных, думающих людей, способных квалифицированно обсуждать возникающие проблемы, а книги, в свою очередь, через представление персонажей начали формировать образы и стереотипы социального поведения: герой, злодей, романтичный юноша, невинная девушка, добропорядочный буржуа…
Литературоцентричной в эту эпоху была не только Россия. Во Франции весьма значительными тиражами расходились романы Дюма, Бальзака, Эжена Сю. Вся Германия зачитывалась Гете и Шиллером. А в провинциальной Англии на почтах выстраивались длинные очереди – читатели жаждали скорей получить следующую главу очередного романа Диккенса, печатавшегося с продолжениями.
К концу XIX столетия произошел глобальный переворот. Литература перестала быть уделом элит, превратившись в доминирующую культуру Нового, а затем и Новейшего времени. Она стала не просто чтением книг, но – философией, политикой, социологией индустриальной эпохи. Литература овладела умами. Она вытеснила из массового сознания недавних господ – архитектуру, скульптуру, живопись, музыку, теперь уже их обрекая на статус сугубо элитарных искусств.
Писательство в этот период превратилось в профессию, а писатели стали уважаемыми и влиятельными людьми. К ним прислушивались политики. Власти награждали их орденами и почетными званиями. Еще бы! Тиражи печатной продукции росли со сказочной быстротой. Если во времена Пушкина книги, за редчайшими исключениями, издавались сотнями экземпляров, то во времена Достоевского – уже тысячами, во времена Льва Толстого – десятками тысяч. А дальше счет пошел на сотни тысяч и миллионы: цифры, которые еще недавно трудно было вообразить. Возникла колоссальная аудитория, внимающая печатному слову. Писатели превратились в кумиров, пророчествующих о настоящем и будущем. Никто не мог сравниться с ними по популярности. На всю Францию, да собственно на весь мир, прозвучало «Я обвиняю!» Эмиля Золя, связанное с приговором по делу Дрейфуса. И также на всю Россию, на весь мир, прозвучало «Не могу молчать» Льва Толстого, осуждающего многочисленные и фактически бессудные казни того времени. Книга Барбары Такман «Августовские пушки» о начале Первой мировой войны непосредственно повлияла на решения, принимавшиеся президентом США Джоном Кеннеди во время Карибского кризиса. Книга «Архипелаг ГУЛАГ» – на президента Рейгана с его программой «Звездных войн», направленной против СССР. Тот же «Архипелаг ГУЛАГ» сыграл не последнюю роль в критическом отношении советских людей и к советской власти, и к своей недавней истории.
Книги начали представлять собой учебники жизни: они объясняли, как следует и как не следует жить, они высвечивали суть происходящих событий, они либо поддерживали, либо отрицали ценности, которыми руководствовалось тогдашнее общество. Печатное слово стало той силой, которая создавала реальность, оно формировало ее, оно ее изменяло, и, говоря языком одной из самых известных книг, «все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков».
Подводя итог, можно сказать, что всего за два столетия, срок исторически мизерный, возникла Великая империя текста, пронизывающая собой всю культуру, все человеческое бытие, и, в отличие от земных империй, не признающая никаких границ.
Казалось, что теперь так будет всегда.
Что-то вроде предсказания Фрэнсиса Фукуямы о том, что история завершилась.
Правда, эти представления не учитывали один важный момент.
Всякая империя, сколь бы могущественной она ни была, сама взращивает в себе зерна своей гибели.
Госпожа фишка
В начале XXI века стало понятно, что современная культура находится в ситуации жестокого кризиса.
Причем это не стандартный гносеологический кризис, связанный со сменой исторических фаз, с преодолением исчерпанного настоящего.
Нет, здесь нечто иное.
Настоящей трагедией современной культуры явилась переизбыточность само
Причины этого вполне очевидны. За последние сто лет в развитых странах ощутимо и даже, пожалуй, принципиально вырос уровень жизни. Доминирующей социальной стратой стал средний класс, получивший возможность покупать книги, билеты на зрелища, недорогие предметы искусства. Образовался соответствующий рынок, причем очень обширный, и конец ХХ века стал звездным часом литературы. Востребованность популярных авторов достигла фантастических величин: Барбара Картленд – общий тираж почти миллиард экземпляров, Джоан Роулинг – более 500 миллионов, Стивен Кинг – 350 миллионов, Сидни Шелдон – более 300 миллионов.
Цифры, следует признать – впечатляющие.
Конечно, возникает вопрос: насколько перечисленных авторов можно считать писателями? Это ведь скорее коммерческие литераторы, добившиеся успеха. Однако в данном случае это значения не имеет: литература, искусство вообще, продемонстрировало через них свою высокую прибыльность. Соответственно взлетели и гонорары. Во второй половине ХХ века даже автор не слишком известный мог быть вполне состоятельным человеком – с доходом выше среднего уровня. А сияющие звезды литературы покупали себе вычурные дома, приобретали поместья, основывали фонды, жертвовали сотни тысяч и миллионы долларов на благотворительность.
Существенную роль здесь сыграло и то, что литература как род деятельности относится к сектору «масштабируемой экономики». Врач, например, не может одномоментно лечить сто пациентов, он должен заниматься каждым из них персонально. Это не масштабируемая экономика. Она разворачивается последовательно. А вот писатель не создает отдельную книгу для каждого человека, он пишет лишь одну книгу, зато как бы «сразу для всех» и, если ему повезет, книга обретает тысячи или миллионы читателей.
Отсюда – кажущаяся легкость литературных денег. Наваял начинающий автор бестселлер – причем быстро и без особых усилий – тут же превратился в миллионера. Одной книгой можно было обеспечить себя на всю жизнь. Не сравнить с профессиями хирурга или психиатра, которые зарабатывают в итоге не меньше, но длительным и тяжелым трудом. Разумеется, наваять бестселлер может далеко не каждый, но ведь масс-медиа превозносят лишь тех, кому это, пусть чудом, но удалось. Чарующие голоса сирен заглушают все остальное. Они поют только об избранных, при том что званых, привлеченных сладкими песнопениями, несть числа.
Результат – вавилонский хаос.
Толпы и толпы людей, поддавшихся искушению.
Естественно, всплывает вопрос: как выделиться из этого душного пелетона? Как заставить капризную публику обратить на тебя внимание?
Выход был найден почти сразу же.
Главным маркером, жирным красным карандашом, который указывает на автора, становится фишка.
Проще всего объяснить это на примере изобразительного искусства. Еще в начале ХХ века французский и американский художник Марсель Дюшан демонстрирует на выставке писсуар – фишка, грандиозный скандал, художественная революция, которую позже определят как поп-арт. «Фонтан», как было названо это «произведение», признается одним из величайших творений своей эпохи. Американский художник Энди Уорхол, следуя тем же путем, машинным способом создает изображения консервированных супов: «Рисово-томатный суп», «Тридцать две банки супа», «Сто банок супа» – опять же фишка, скандал, хитроумный Энди тоже становится классиком современной живописи.
Это распространяется как чума: зачем мучиться со своим талантом, которого, может быть, вовсе и нет, зачем годы учебы, десятилетия борьбы за признание, если можно просто придумать фишку и – победить. Красота – в глазах смотрящего, провозглашают эксперты. Искусствоведы пишут статьи о сенсорном пересотворении мира: бытовые элементы цивилизации обретают фактурную чувственность. Осуществляется их эстетическая легитимация. Все начинает приравниваться ко всему.
И вот: автор создает композицию из подгнившей банановой кожуры, и вот: автор представляет картину, где на полотне наклеены трупики мух, и вот: автор рисует носом или другими частями тела, и вот: автор голый бегает по галерее на четвереньках, лает собакой, кусает посетителей за лодыжки…
Фишка вытесняет собою все. Придумал фишку – о тебе написала пресса. Написала пресса – заметили в своих обзорах критики. Заметили критики – выставили в галерее. Выставили в галерее – бюргеры начали покупать твои картины. Ведь бюргеру – что? Если эксперт в костюме от Армани тычет холеными пальцами в полотно и объясняет, что это гений, то бюргер верит, что это гений, и покупает «пейзаж», написанный даже не красками, не губной помадой, даже не мылом, а – кошачьим дерьмом.
То же самое можно сказать о литературе.
Почему прозвучал довольно унылый (на мой взгляд, разумеется) роман «Тропик Рака»: американские солдаты, вступившие в августе 1944 года в Париж, специально разыскивали эту книгу, чтобы прочесть? Да потому что – фишка, эротика, смелая по тем временам, литературный скандал, книга запрещена для издания в Англии и США.
Почему выстрелила блеклая, скучноватая (разумеется, на мой взгляд) «Лолита»? Да потому что – фишка, эстетизированная педофилия, невероятный скандал, без которого еще неизвестно, стал ли бы Владимир Набоков всемирно признанным классиком.
То же самое происходит и в настоящем. Двое довольно посредственных, на мой взгляд, российских писателей, Виктор Ерофеев и Владимир Сорокин, стали известными лишь потому, что напичкали свои книги самой отвратительной физиологией. От некоторых страниц просто тошнит. Фишка? Фишка! Никакого особенного таланта в их произведениях нет, обоим до Миллера и Набокова, как до Луны, зато фишка работает: оба на слуху в современной российской литературе.
Это и есть признак кризиса.
Культура предстает сейчас не в виде образных смыслов и форм, требующих такого же культурного восприятия, а в виде фишек – разноцветного конфетти, мусора, сыплющегося на зрителя и читателя.
Тусовка в законе
Фишка не единственный метод самопрезентации автора в современной культурной среде. За последние годы именно в российской литературе сформировался еще один механизм, который можно определить как клановый или в просторечье – тусовка.
Заметим, что феномен тусовки имеет глубинный биологический смысл. В стаде павианов, наиболее близких древнему человеку по социальной организации, молодой самец, чтобы повысить свой социальный статус, должен победить самца более высокого ранга. В одиночку он этого сделать не в состоянии – создается клан, объединяющий других молодых самцов. Цели подобного объединения исключительно прагматические: карьера, продвижение вверх, борьба за пищевой и репродуктивный ресурс.
Вспомним также «свинью» – боевое построение рыцарской конницы, прошибающее фронт противника.
Литературная тусовка строится по тем же принципам. Главный организационный ее критерий можно сформулировать так: свой – это не тот, кто умеет писать, а тот умеет писать, кто – свой. Чужих, пусть даже талантливых авторов, тусовка не замечает, зато автор, не слишком способный, но «из своих» обретает в ней все права.
Аксиология литературного трайбализма проста: свой всегда и заведомо лучше чужих.
Далее на тусовку обычно навешивается яркий ярлык: концептуализм, метареализм, маньеризм, фундаментализм. Никакой внятной связи с текстами тусовочных авторов такой ярлык, как правило, не имеет, зато на него хорошо клюет критика, обозревающая литературу. Ведь писать о ярлыке проще, чем анализировать книгу. Проще взять готовый дефинитивный набор, чем создавать его самому. Ярлык в данном случае исполняет ту же функцию, что и ритуальные татуировки первобытных племен – выделить своих, обозначить и оправдать собственную непохожесть на остальных.
Результаты деятельности тусовок особенно хорошо заметны в сфере литературных премий. Если в жюри есть свои, то и премию получает тоже свой. Разве что победит другой «творческий клан». Как объяснил мне член жюри одной престижной московской премии: «Ну да, голосуем за своих. А что такого?». Или как был удивлен, по его словам, один из провинциальных критиков, случайно, видимо, попавший в жюри другой престижной премии: своему ставят предельно высокий балл, а всем остальным просто – ноль.
При этом качество книги никакого значения не имеет: она может быть деревянной, банальной, занудливой, художественно убогой, автор книги может совершенно не чувствовать языка – все это меркнет, если он входит во влиятельный литературный прайд. Что естественно: ведь в тусовке литература не цель, а исключительно карьерный ресурс.
Интересное замечание, дополняющее данный тезис, сделал в свое время Жан Бодрийяр. Классик философии постмодерна как-то заметил, что к середине ХХ века изменилась вся технология писательского бытия. Раньше автор сначала создавал книгу и если она оказывалась талантливой, то за счет этого обретал известность. Сейчас автор сначала утверждается тем или иным способом в медийной среде, нарабатывает, если получается, популярность, а уже после подверстывает к этому свои книги.
Фишки и премии – это как раз и есть «тем или иным способом».
Жирный красный маркер, указывающий на автора.
Кстати, тот же Бодрийяр определял подобные феномены как симулякры – явления, которые лишь имитируют реальность, но не являются таковой.
И был прав.
Современный автор действительно становится симулякром. Он становится медийным фантомом, существующим в зыбкой, изменчивой коммуникационной среде, где продуцировать событийный шум важней, чем творить, и где казаться писателем значительно важней, чем им быть.
В советское время существовала так называемая «секретарская литература»: книги влиятельных литературных чиновников, которые, благодаря статусу своему, обеспечивали себе и тиражи, и награды, и гонорары, и благожелательные отзывы критиков. Правда читать эти книги было физически невозможно: челюсти сводило от скуки. Сейчас появилась «премиальная литература» примерно такого же качества.
Секретарскую литературу уже никто не помнит. Но ведь аналогично: кто может вспомнить премиальные книги последних 10 – 15 лет? Можно быть уверенным: 95% их тоже никто никогда не откроет.
Мне представляется даже, что некоторые российские авторы втайне радуются, что книг ныне никто не читает. По крайней мере так не слишком заметна их (авторов) творческая несостоятельность.
Вот откуда идет ощущение беллетристической пустоты.
«Барабан может заглушить оркестр, но не может его заменить».
А теперь представим себе слегка продвинутого россиянина, образованного, умного, любящего и стремящегося читать. Вот он узнает, что некая книга получила престижную литературную премию, покупает данную книгу, открывает ее и буквально на первых же страницах впадает в столбняк.
Выясняется, что читать книгу нельзя.
И не потому что она чрезмерно усложнена – что, заметим, считается почему-то признаком «высокой литературы». И не потому что книга написана каким-нибудь специфическим языком – что, опять же заметим, тоже почему-то считается литературным достоинством.
Нет, книга попросту несъедобна.
Это опилки, напиленные из сухого бревна.
Тогда россиянин покупает другую книгу, например ту, которую безудержно хвалит критика. Открывает и опять впадает в столбняк.
То же самое: книгу невозможно читать.
Наконец он полагается на аннотацию, написанную издательством, где беззастенчиво провозглашается, что это выдающееся, чуть ли не гениальное произведение… впервые в мире… захватывающее… яркое… поражающее новациями и содержательной глубиной…
И как вы думаете, что там, внутри?
В общем, повторив этот опыт семь – десять раз, любой нормальный человек, повторяю, образованный, умный, скажет в сердцах: «Да ну их к черту! Если это современная литература, то такая литература мне не нужна». После чего включит музыку или фильм.
А мы еще спрашиваем – почему современные россияне не склонны читать?
Да потому что вместо нормальной литературы им все время предлагают отстой.
Смерть килобайтникам!
Суммировать сказанное можно простой аналогией.
Когда-то, еще в период зарождения жизни, в биосфере Земли разразился громадный циановый кризис. Появились сине-зеленые водоросли (цианеи), способные к фотосинтезу с выделением свободного кислорода. Естественных врагов у них не было и потому цианеи быстро заполонили собой практически все моря, океаны, сделали атмосферу Земли кислородной и тут же начали массово гибнуть, поскольку кислород для них самих был ядовит.
Фактически они задохнулись в собственных экскрементах.
То же самое произошло и с российской книжной культурой.
Как только запреты на издание книг были сняты, издательства начали бешено зарабатывать деньги, выделяя в качестве отходов своей жизнедеятельности всякого рода макулатуру. За пару десятилетий они заполнили ею всё и теперь начали задыхаться в собственных экскрементах. Книжный рынок оказался отравленным. Выяснилось, что приличную книгу почти невозможно найти среди безбрежного океана халтуры. Нет грамотной навигации. Нет эстетической джи-пи-эс, указывающей на райские острова. Нет даже примерной лоции, которая ориентировала бы читателя. Экспертные функции не выполняет сейчас ни критика, почти сплошь затусованная, ни разнообразные фишки, ни клановые премиальные механизмы.
Однако вспомним, что циановый кризис стал, как ни странно, драйвером биологического развития: возникли аэробные организмы, то есть способные усваивать кислород, сформировалась современная биосфера, что в конечном счете привело к появлению человека.
Всплывает интересный вопрос: какие «литературные организмы» могут появиться в результате нынешнего книжного кризиса?
А для ответа обратим внимание на следующий факт. Агентство Associated Press уже сейчас ежегодно печатает и распространяет несколько десятков тысяч материалов, написанных не людьми. Их пишут программы (журналистские боты), причем делают это нисколько не хуже, чем люди. Более того, журботы сейчас энергично вытесняют журналистов-людей из многих специализированных сфер: финансовые обзоры, спортивные известия, происшествия, криминал. Такие же программы ставят себе и другие агентства. Что, впрочем, естественно. Бот имеет колоссальные преимущества перед человеком, поскольку когда он генерирует текст, то охватывает громадный массив смежного материала: например, в ситуации гола он сразу же скажет, сколько метров было от игрока до ворот, с какой скоростью летел мяч, откуда дул и помешал ли удару ветер, сравнит со сходными ситуациями в других матчах. В принципе журналист-человек тоже может все это учесть, но ему потребуется для этого весьма ощутимое время. А журбот выдает такую статью практически мгновенно.
И вот еще один факт, относящийся уже к беллетристике.
В 2016 году роман, написанный искусственным интеллектом (литботом) с характерным названием «День, когда компьютер напишет роман», вышел в финал японского литературного конкурса имени Хоси Синъити. Правда, человеческий вклад в эту книгу был еще достаточно ощутим: сюжет романа и его персонажей задали программисты, а литбот лишь текстуально изложил данную разработку.
И все же факт показательный.
Становится очевидным, что в ближайшее десятилетие на рынок выйдут литботы, способные «генерить», например, фантастические романы нисколько не хуже второстепенных, тем более третьестепенных авторов. А скорее всего – даже лучше. Не так уж трудно алгоритмизировать банальные сюжеты, картонных персонажей, стандартный язык. Вы хотите читать про войну галактик? Вот вам галактическая опупея на восемь томов. Вы хотите читать про вампиров или пришельцев? Вот сериалы –каждый из двенадцати книг. Хотите, чтобы там была еще и эротика? Вот вам густая эротика. Хотите, чтобы на обложке стояло 12+, пожалуйста: эротика нажатием клавиши убирается и вместо нее встраивается романтика.
Все это очень просто.
Литбот может создать произведение практически на любой вкус.
Преимущества генерации очевидны. Ведь даже самый плодовитый автор второго-третьего ряда сможет набубырить за год не более двух-трех коммерческих «кирпичей». А литбот в состоянии выдавать по такому «кирпичу» хоть два раза в день. К тому же литбот, в отличие от живого автора, не будет капризничать, требовать того-сего, гонораров, переноса сроков, всяких авторских прав… И финансовые показатели станут гораздо лучше.
Вот она, золотая рыбка книгоиздания!
Причем это вовсе не означает смерти литературы.
Но это означает смерть всех тех неисчислимых сонмищ халтурщиков, которые процветают сейчас. Когда-то в одной из статей я назвал их авторами-килобайтниками, поскольку пишут они не словами и фразами, а сразу – целыми килобайтами.
Так вот, килобайтники будут никому не нужны.
Зато цена творческой литературы, той, которую никакому боту не сгенерить, несомненно, вырастет.
Уникальный продукт всегда стоит дороже.
Не самый плохой вариант
Итак, гигантская трансформация техносоциальной культуры (индустриальная революция XIX – XX веков) привела к образованию Империи текста, которая вытеснила на периферию прежде господствовавший аудиовизуал, сделав его принадлежностью узких социальных элит.
Гигантская трансформация той же техносоциальной культуры (компьютерная революция конца ХХ – начала XXI века) возродила Империю аудиовизуала, вытеснив на периферию уже собственно текст.
Это не означает, что текстовая культура исчезла, просто она перестала быть доминирующей.
И это не трагедия, как многие полагают, а закономерный эволюционный процесс, который уже в ближайшее время, принципиальным образом изменит творческую среду.
Вымрут коммерческие авторы, поставщики бесконечных жанровых сериалов, их функции возьмут на себя литературные боты.
Останутся в литературе лишь те, кто способен создавать уникальные тексты.
Говоря проще, выживут только гении.
И это, на мой взгляд, не самый плохой вариант.
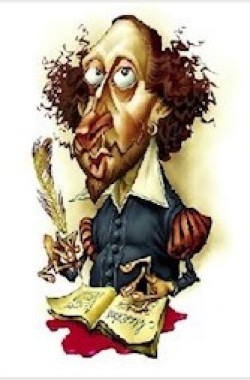





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

