Читать онлайн "Кольчуга, дочь Лесной Чаши"
Глава: "Кольчуга, дочь Лесной Чаши"
Брюнья знала, что чуть-чуть ближе к краям морей их народ жил на широкую ногу, завоевывая берега и торгуя привезенными на драккарах персиками, но сама она оказалась рождена в глубине пихт, укрывавших под ветвями извилины рек. Бабушки, видавшие моряков, описывали простыни парусов и лапы весел, зазывной свист с корабельного носа, юбки женщин, встречавших мужей, и пальцы богов, служащие указкой, чтобы обойти пики скальных вершин, торчащих у портов. В ее же маленьком мире редко давали имена воинов и капитанов, однако каждая человеческая единица, все-таки, имела свое неотложное значение. Так отца нарекли Болливи́д, от слов «болли» – чашка и «вид» – лес, и стал он, подобно своему прадеду, умелым фермером. Поэтому называлась она Брюнья Болливиддотир, в народе ясно – Кольчуга, дочь Лесной Чаши. Мать разродилась ей в оружейной, пока отец пас на лугах скот.
Тихая деревня почти не устраивала празднеств, и вместо смеха соседской ребятни, хоть у нее нашлась компания, и голосов вечно занятых родителей беседы с ней вели кудахтанье кур, удары мастера в кузнице да пожилой лепет, вязавший тесемки к девичьим платьям и мальчуганским нарядам. Укрывалась в коротком ряде домиков, петляя длинными русыми волосами, отдававшими рыжиной, между рыбных прилавков, бобово-редисных огородов и болот, скидывающих в корзинки ягоды. Часто припухшему лицу приходилось нырять в ведра: до рассвета, под наказом спящей матери, следовало отдраить бочонок для дойной коровы, дабы та оставалась целехонька и жива. Даёнку не подоишь – помрет. Брюнья драила ведра, как где-то драили завоеватели крепкость палуб, а в мутном отражении металла за длинным узким носом мерещились иные земли, миры, позвякивающие пением валькирий над иглами лесов.
Она не годна была дорогам через воды до чужих песка и гальки, даже города, из которых иногда добирались заезжие лошади, мало привлекали ум. Брюнья привязалась к своим краям, камешки, устилавшие тропинку до отцовского крыльца, казались роднее любых бардов, кликующих на обширных площадях, и в них виделись не рассказанные никем легенды, будто некогда по ее землям вышагивали тяжелыми стопами воины и князья, заложившие здешний уютный деревенский быт. Рассудок ее стрелял в непонятках, почему же охотники, подстреливавшие ястребов, не голосили о нимфах, скрывавшихся под лопатами кустов и листьев, а дети не мечтали пролезть в болотную глубь, чтобы выискать закопанную в сундуках и брошенную тем самым князем летопись. О белых лицах и силах богинь, что привели его сюда, о плетении кос, в какие прятали локоны его солдаты, об остроте раскаленных солнцем мечей и девах, за чьими поцелуями бежали они в глушь.
Сельские дети были точь-в-точь ее отцу, непривередливые к сказкам и опостылевшей работе. Брюнья слышала, как в соседских окнах затягивали колыбельные хозяйки, пока поднимался в печи хлеб, но в их доме всегда играла одна и та же музыка, свиная, отскакивающая от стен хрюканьем, разрывавшего носы скотины, а мать аккомпанировала стуком ложек и лязгом противне́й. Они хрюкали в такт сбитому мужичку, с подола которого, стоило ему вильнуть бедрами под самобытный духовой оркестр, валились крошки. Запятнанный потом и сеном, он подвывал и гудяще басил: «Ведра взя-ли, по-та-щи-ли!», «Поля се-ем!», «Рожь ко-сим!». Отец ее не был мечтой детских сказок, на ночь читать вовсе не хотел. Брюнья видела его столь редко, что могла не узнать в толпе: он пропадал в полях и огородах, резал баранов, рыхлил почву, замахиваясь закрепчавшими издревле руками, а по вечерам точно также замахивал кружку-другую в трактире недалекого переулка. Она бы не назвала отца пропойцем, стесняясь, унизив родителей, тем самым унизить себя, но нос его краснел не ко времени прихода холодов. Поговаривали, через раз его дубленку замечали на заборах одиноких вдов, – Брюнья верила правдивым слухам, только никогда не посмела бы поднять эту тему с мамой.

Ей, конечно, было неведанно, как они встретились и вместе сошлись, а мама о дне свадьбы безразлично умалчивала, отмахиваясь полотенцем. Чтобы то не стре́льнуло в глаза, девочка и молчала – меньше вопросов, меньше бед. Жизнь их сложилась тривиальней, чем сочиняли князья в легендах Брюньи: мать, по юной молодости бывшая практически обитательницей публичного дома, случайно прибилась к его завсегдатаю, забеременев. Дочь простого плотника, она растеряла первое имя с ранней смертью семьи, а в борделе, воспользовавшись свободой, собрала себе новое. «Аст» – любовь, «дёгг» – роса, Астдё́гг – Любовная Роса. Пошло и неочевидно, потому-то Болливид, заглянувший в постороннее село проездом, увез девку к себе. Не за добрую душу, увы, за службу: он барана режет, она барана варит, кастрюлями оплачивая себе кров. Вот повелось из года в год, так и жили, с него – еда, с нее – полный стол.
От нерадивой жизни лицо ее не налилось полнотой. Худощавая, даже скелетная женщина судьбу и ниточку жизни в себе держала на одних обязанностях: стирка и готовка, коровье вымя, метла. От тупости бывшей проститутки не замечая невзгод и тягот, – да, пускай любовь была ей неизвестна, и тело не принимало добротную округлость стареющей домохозяйки, Астдёгг в заботе и не нуждалась, не вникая, по сути, что это. В грубом быту прачки она находила счастье, для большей радости погуливая влево, в бараки одиноких рыбаков.
Брюнья, выросшая без родительского прошлого, хранила к маме уважение. От того с колыбельных игрушек пошла в нее. Хребет вытянулся дрожащий, суховатый, скрипучий, и лишь крепкость и припухлость отца, словно броней, прикрывали жилы. Крупный, кругловатый выпяченный подбородок тоже перенял зерновую отцовскую породу по наследству, однако та смешалась с маминой остротой: жирок, натянутый на жестко вставшие кости, обвисал, придавая лицу Брюньи одутловатость. Брови лежали без изгиба, как положенные над глазами перья ястреба. Подвешенные на почтении, отношения с Астдёгг тянулись бельевой веревкой, связывающей их от ужина до ужина. Наивным ребенком, она ценила, что кто-то ставил перед ней обед, но все еще ждала от мамы заботы, знавшая, как холят и лелеят других девочек, – пиши Брюнья легенду, обязательно бы рассказала, что героине и мужа, и друзей, и занятие по душе выбрала мама, от большой любви и участливости. Пока же о подобном приходились робкие мечты, потому как Астдёгг, проста на принципы, повторялась: «Детям главное расти, росту главное – еда. Жрачка сварена, и хватит». Прибавляя, впрочем: «Сначала работу сделаешь, потом иди на четыре стороны». Она ведь и сама отпахивала себе защищенное от морозов и дождей место.
Денег в доме не водилось, спасало хозяйство. Так, скребли на полушубки да тапки. Раньше Брюнье удавалась урвать медяк на бусы, блестящие камешки с ниткой, которые на досуге, когда везло на свободный час, она могла собрать, а позже и оно, милое скромное увлечение, прекратилось. Мама хворала. Топил бы кто печь, покуда сама не умеет, та держалась за отца, а от эмоций, понабравшихся у рыбаков, закипала, не в силе с ними справиться: не звал замуж никакой моряк, Астдёгг печалилась, не чувствуя себя востребованной, и от униженности с каждым днем бледнела больше. Муж не вел с ней разговоров ни о бурях за окном, ни о болезнях, однако лекари-травницы тоже чего-то стоили, кровно нажитых. Он выкладывал.
Детям в укромных огородах Брюнья сочиняла сказки, коли не вышло плести браслеты-бусинки – это было дешевле. Разговоры их от мала до велика сходились на улове и здоровье скота, может, иногда кто байки про колдунов травил да нежить всяческую. На телегу не вспрыгнешь, не укатишься, привязанный к лошадям и колесам, падающим в дорожные выбоины. В селе мифов достаточно, а мест, где бы их отыскать, по пальцам пересчитываешь. Старые понтоны на разливе широкой спокойной реки, кое-как слепленные доски, полуразваленная заброшенная ферма, кусты на ягодных лугах, яблоки, бившие в садах и зарослях по голове. Бабка запрещала, мол, сюда-то не лезь, не ходи! Утащит моссакеринген под болотную кочку – сто богатырей за руки не вытянет, попляшешь к валькириям на пир. Болотница, по-простому. А на пирсе, там, трухля под ногами проваливается и проказный дух, ветте, обернулся в лягушачью шкуру, чтоб грызть древесину и сапог твой однажды проглотить. За круги костров в ночи не вылезай. Видишь, во-он, ветки растопырились, как на дыбы хвостами кошки встают? Это ногти, когти вёльвы-ведьмы, отросшие, растянутые, слоящиеся, – вспорет горло и утащит под клубни своих корней. Держи круг, пусть огненный свет на коленки падает и жжет штанины – всяко лучше, чем прожечь судьбу, хаживая в мертвецах у колдуньи. Страхи Брюнья песнь за песней слышала с детства, и все они повторялись от поколения до поколения. То бы не волновало, дружи с ней кто, кроме домашних кур, но сказки ей пришлось складывать самой, увлекая за собой расположение девочек.
В Брюнью не кидали камни и мальчишки в дразнилках не высовывали перед ней языки, однако за спиной непризнанно шептались, что больно пылкое у ее мамаши имя, а вылезла тут с десятка два назад и вовсе из ниоткуда, как черт из-под колодца: «Кто семью-то видел? Дочь кого, плотника аль портовой шлюхи? Свинья не родит бобра, свинья народит поросенка: паскудная деваха от плоти и крови своей такую же вырастит, потому держись, сынок, подальше от дочки фермера. Нам с твоими вшами еще б от сифилитиков перезаражаться». Пришлось идти на уловки, дети не всегда и не везде слушают своих предков. Брюнья не гордилась ни красотой, ни умом, ни папиным хозяйством, однако кое-что у себя припрятала – веру в почивших князей и сыновей их. Фантазия брала от скуки. В возрасте, недалеком отроду, с ней нянчилась старая соседка, научившая читать народные повести по узорам, вышитым в коврах. Не имея за душой бабушек и дедушек, развлекших детство словами и заботой, она маялась от тоски, и маялся и с ней заоконный снег, в трепетном шуршании которого Брюнье слышались шаги воина, подоспевшего к крыльцу. На щите, как на блюдце, нес он охапку ромашек, что позднее венком возвышались на ее макушке. Однако с узколобых деревенских голов спадали любые венки. В селе мира не видали, ребятня не любила летописи ни вести, ни читывать, – что чертами и повадками отдалялось от болотных духов, было им дивно и незнамо. Зато заслушивалась: от такой же скучающей тоски во спасение сгодилась бы и фермерская дочь со своими враками о жирных золотистых косах, спущенных эйнхериями, воинами-полубогами, с облаков, чем материн нудеж.
Дело ясное, ей не верили, несмотря на увлеченность Брюньи. Ведомая характером придирчивым, взявшим за душу и привередливым, она выкраивала сказки до последней точности, о достоверности заботясь больше, чем о певучести. Следы богов, конечно, подобно кабаньим в грязи не отыщешь, а залежи кольчуг да вековых тряпок в сундуках, где моль проела дырки в стенках – хоть отбавляй в любом доме. Ползая по стариковским чердакам и погребам, между схороненных овощей и засоленной рыбы, она старательно записывала блики, трещинки и затяжки на найденных вещах. В основном вела списки, бывало, зарисовывала, от восторга мимоходом нацепляя на себя саму и одевая в то представленных ею вёльв. Дара к придумкам, как нянек-бабушек, Брюнья не имела, поскольку легенды и ум отталкивала от убеждения: того, что не показывалось когда-то глазам, не существовало. Мечты тянулись к небу, что укрывало землю летами, в какие ей не довелось выйти на свет. В них Один протягивал бороду за место дорожки луны и спорил с братом Тор, только на застолье размеры кружек, мятины одежд, засиженных в креслах, пошипывание пива и резьбу мечных рукоятей, сжимаемых в кулаках девами, вообразить она даже не могла. Вот и искала, хоть какой-то антураж, пригодный, дабы героев разодеть и правдоподобно сочинить.
Культуру любовно в Брюнью не заложили. Их народ был образован, но очень закрыт. Многочисленные города раскидывались по берегам, в подходах у морей пестрело население, ярмарки – прикаченными под штурвалами фруктами и одежами. Люди вели летописи, от ребенка к ребенку передавая нажитую письменность, мотивы саг и колыбельных, закладывали книжные дома, красками марали подушки пальцев и полотна, рисуя чужеродные лачуги и шпили, бликующие по ту сторону вод. Вдали от береговой линии самобытность складывалась намного скупее: в словосочетании «культурный код» деревенским слышалось лишь слово «котлу» – котел или «кол» – уголь. Брюнья не мечтала покинуть дом, к тому же, города издревле стали пристанищем для учительской вотчины: уезжать брал смысл, когда близ берега ждал тебя мастер, приютивший бы под своей крышей и заложивший в голову науку. Ее широкие ладони с валунами-костяшками заточились под рукояти ведер, а ровные плечи, коли ни сгинать под тягой к женственности, – под коромысло, однако в развитом теле не развивался талант. Зарисовки Брюньи были блеклыми, как сероватые фартуки матери, которая никогда не шила дочке платьев, а сказки скупы на образы, как рассудок отца, не продавшего корову ей на науку.
В селе едва ли хоть что-то видели, кроме дышащего на столах под открытым небом хлеба, поэтому детям, катавшим человечков из мучных шариков, она привнесла новизну. Поначалу ребятня засиживалась с ней на каменных ступенях или в речных кустах, но потом в ее узкой компании случился разлад. Дети по обыкновению, и городские, и деревенские, сыплют вопросами: куда, да как, да откуда, а за кого б замуж пошла девушка твоя, коли не за князя, почивши тот на побоищном лугу? Брюнья к сюжету была жестка. Столь же прямые, неизогнутые, ястребиные перья губ поджимались в щелку и давали по подбородку сетку морщин со складкой над его началом. Крылья носа, неказисто прилипшие к тонкой длине, словно банный лист, раздувались и расплющивались двумя жирными пятнышками по щекам, стоило до слуха долететь чьим-нибудь полувыспрашиваниям-полусоветам. За уникальность Брюнья держалась, как за шест, каким отталкиваются о дно пруда, уткнувшись стопами в лодку. Смысл для нее всегда таился в идее, до которой не способны оказывались додумать другие, а потому просящих о бо́льших приключениях и разветвлениях судьбы героев она считала за сброд хлюпиков, пускавших в лужах пузыри. Леденела мимикой и грудью, на быстро выплюнутом выдохе превращая ту в плоскую непробиваемую доску, взглядом, смеялась над потугами править доподлинность легенд и засушивала уши до состояния вяленной рыбы, уже не живой и не трепыхающейся в воздушном пространстве общения – невосприимчивой, то есть. В принципиальности дети чуяли старческий душок и разбегались, зажав воротниками рубах носогубный треугольник, но в противу человеческим словам она ценила рукописи. Лягушачье квахтанье, будто кукушечье, разбавлявшее тишину, было неизбежным спутником одинокой души и требовало смирения.
Темным вечером, когда клубни овощей освещались ручными садовыми фонарями, великаньей тяжестью придавливающими почву, запоздно Брюнья дождалась отца. Болливид переступил прихожую, преклонившись под балкой двери, и скоро стало на поклон подходить к нему. Надежда те́плилась лучиной в печке. Выставив на стол посудины и сама руками опираясь о массив столешницы, дождалась, когда тот отужинает, чтобы на пьяную сытость задать уже свой вопрос, дрожащий на нервной ноте, однако не детский. В городе, до которого от них сменялась в дорожных трактирах тройка лошадей, стояли книжные дома: деревенским своим медяком не потянуть рукописи, а там, покуда в карманах залеживали у людей монеты на персики, ее бы приняли в общество, оплачивая по страницам и гостиный двор, и кружку пива. Задачка зиждилась лишь в пути, Брюнье бы мешочек золотых на сапоги, запихиваемые в стремя, на первый хлеб и ожидание, в котором ведающие народный язык люди сошьют ниткой листы.
Болливид смеханул в бороду, нечесаную, скомкованную, как вся ее жизнь. То значило краткое – «Удумала, ишь». Сунув обратно подвыпавший из кармана вдовий платок, прихваченный где-то по пути, широким жестом отодвинул к середке стола компот и тупо уставился на дочь: «Я сказочников отродясь не видал», как и женщин, в добавок. Туповатый, безграмотный, с малолетства любил он серп и дородных баб, покачивающихся у барных стоек. Глаза его не отличали ткань одеяла по теплу, которым должно укрывать ребенка, руки, вырожденные под пахотьбу, не вытачивали из бревен игрушек, а сердце не мечтало о хозяйственных корзинах, проданных по цене лошади. Женщины да дети – все одно, что кочаны капусты, привязанные к грядкам. Первых он не разбирал ни на лицо, ни на фигуру, как неразборны колосья на лугу, ни на кольца. Капуста, извалянная в земле и грязевых лужах, по случаю переполитая колодезной водой или дождями, так и так к пище пригодна, – покромсай в салат, будет тебе счастье, а кольца обручальные у всех одинаково круглые, свою жену с чужой перепутаешь – не захвораешь. Вторых Болливид роднил со свиньями. «Дети бесполезные», часто слышала Брюнья от отца, к животным с лаской не хаживавшего тоже: «Жалко зерно, в бадью пастям насыпал со слюнями мешать, что выбросил. Со скотины хоть мясо отвариваешь, с ребятенка так проку нет. Тем даже скот не накормишь, вовсе бестолковый». В приданое Брюнья ждала гордости, за подобие сошлась бы похвала, но потомок личной прачки не приходился потомком ему. С матерью отец разглагольствовал на «принеси-подай», зубами звенел сурово и холодно, а под ворчание в уму, без эмоций и не озвучивая, засыпал: «Да как оно так вышло-то? По воле богов у меня ребенок получился, будто затевал кто за спиной моей план, подлый и изворотливый. Повезло богам с девахой, что та за жратвой забоится да стирать умеет, не опрокинул я их замысел. Оставил, слово серьезно оно было».
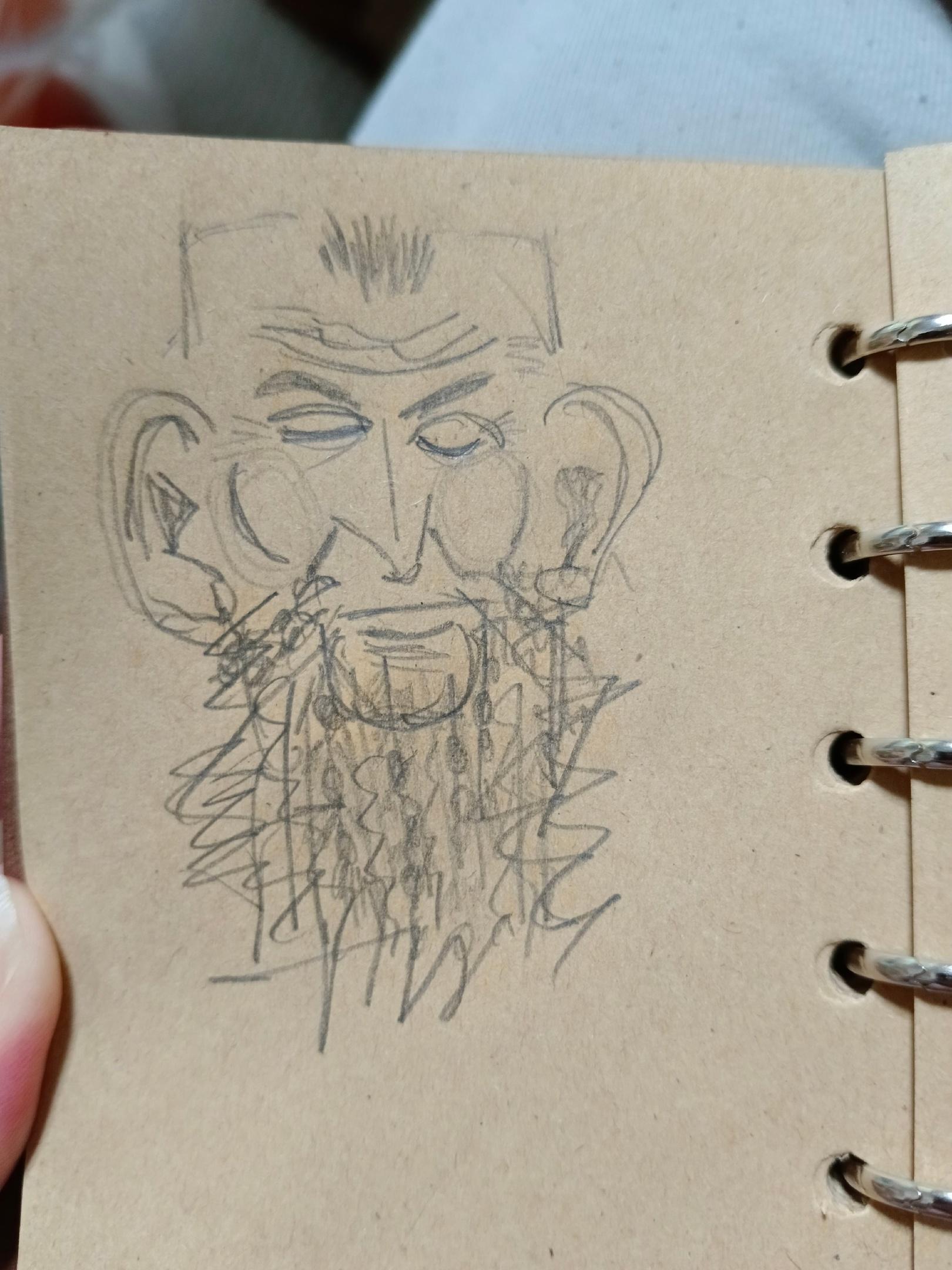
Образ Болливида
От того следом дырявый год пришлось ей мести соседские полы и полоть огороды, чтобы насобирать себе поек. Город был пыльный, почти чумной от шума и дороговизны, но и среди пещер во стылых фьордах зияли провалами окон захудалые ночлежки. В коридорах и комнатах витал не покинувший ее отцовский дух, обраняя перегоревшим пивом сон: внизу селился трактир, оживавший ночью. Бочонки, скалящиеся рыбными хвостами, как улыбались клыками дикие звери, простаивали дома, однако морской дух из Брюньи не то чтобы не вышел до конца, только усугубился: распихивая по нуждам деньги, она чувствовала себя заглатывающей воздух рыбехой, очумело и трясуче натягивая их на еду, но не сапоги – на ноги.
Ханжеством считалось бы сказать, что в деревнях не рождались гении: чудесного писателя порой на свет вытаскивали и свинопасы, но баснописцы и поэты, втянутые в свое дело по духу, всегда млели от культуры и полета мысли, по складу характера напросто не способные не любить искусство, а то предполагало новизну. Покатые и жесткие уклоны, сточенные до ширины сандалии серпантины и широкие равнины полей, скважины и колодцы, бегущие в глубину самых темных дум, птичьи крылья, примотанные к плечам, – все это было полетом мысли: монотонно-исторической, ограниченной и оборванной, распластавшейся по округе и завитой в кудри образов святых мечт и иносказаний. Любой писатель, ощущавший подпрыгивающую крышку над подкипающим внутри талантом, строил образы, лишь бы угодить любви к искусству, и зачастую их красота над подлинностью забирала верх. Смысл словесной живописи ждали в чувствах, покуда были творцы, во главу угла возводящие эмоции и раздаривающие те читателю, читатель утрачивал одиночество и душевную покинутость. Потому не боялись поэты кривить языком, как писцы легенд – посмеиваться и переправлять ушедший быт.
Сказочник и рукописец не от рода людского и не существо – это искренняя и отважная любовь к языку, какой он вдыхал с колыбели и на каком мечтал. Поэтому Брюнье, не заметившей, что ее исчерченный скалами и горами мир, омываемый морями, с волнами приносившими чужие наречия и кости иных божеств, проросший лесами, где скрытые народы под эгидой своих нимф обдували иглистую листву, чтобы та покачивалась над лютиками и под слоями сугробов, населенный пловцами и капитанами, давно не дикими и видевшими неведанное, устланный колдунами, наяву, как во снах, перешептывающихся с ее любимыми почившими князьями, не стелилась дорога к народному взгляду, обивающему пороги книжных домов. Брюнья подкладывала исторические летописи в свои идеи, как хворостом заботятся за костром, чтобы не дать затухнуть. В село не носили карт, а мать с отцом не приучили смотреть далеко и прямо или взбираться на самое высокое древо, дабы оглядеть жизнь: она верила, что многоголосый, расцвеченный переливами красок мир с неясной по правде никому историей был ее скудной деревней, от заката до рассвета поколения знавшей одних болотниц. Идеи ей в достатке хватало, чтобы чувствовать себя вёльвой-сказочницей, оттого язык не бросил топора, грубости и сухости, что отцовская брань.
Дети, сбежавшие на лавки пустословных бабок, напоследок накликали ей прозвище – Бронья, поменяв в имени единый звук. Раз не крутит от судьбы героя узел кишок на каждой кочке, поди от клички завернет саму. Все к добру: скучен баснописец, чьи легенда да лицо не лучше пресноты похлебки. «Коли не желала ты слушать мир свой, слушай же тебя в барах пара забулдыг», — чеканила старая гадалка, забредшая в трактир.
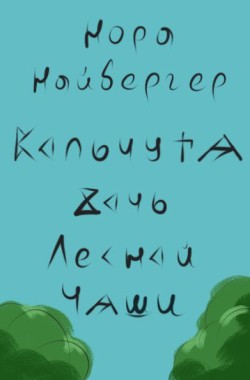





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

