Читать онлайн "Приключения в русской Пасифике"
Глава: "Глава 1"
Глава 1. На свободу!
Поезд уже тронулся, а подполковник Малинин, следуя за вагоном по низкому перрону и постепенно ускоряя шаг, все еще умолял меня, стоящего в тамбуре перед открытой дверью, остаться. Черт возьми, какая честь для молодого лейтенанта, что провожать его пришел сам командир полка! Накануне он почти не оставлял меня, убеждая продолжить службу в армии, сулил поступление в академию не позже, чем через два года, и блестящую карьеру. Я понимал его, потому что в полку было много молодых лейтенантов, но большинство мечтало о том, как бы свалить со службы. Увы, сделать это раньше срока было очень сложно. Оказавшись в маленьком гарнизонном поселке без надежды на перемены или перевод в другое место, они часто начинали пить и пропускать службу, за что их не увольняли, а только наказывали. Моя ситуация была совершенно другой – по окончании института с военной кафедрой, став одновременно инженером-химиком и лейтенантом-артиллеристом, я добровольно решил отслужить положенный срок, чтобы дальше быть свободным. Оказавшись в мотострелковом полку, который располагался на окраине поселка на самом юге Приморского края, я не расстроился. Меня окружала уникальная природа, а служить было интересно. Может потому, что в моем роду было много военных, а может, просто привлекал новый опыт. Зарплата была хорошая, обмундирование казенное, плюс раз в месяц продуктовый паек, на который можно было прожить не то что одному человеку, а целой семье. В поселке был дом офицеров, и молодые бабы тоже были, так что можно было не скучать. Относительная кратковременность пребывания в армии давала мне определенную независимость по отношению к вышестоящим командирам, которые иногда зарывались, забывая о том, что перед ними не подневольный молодой офицер.
Начав совсем неопытным командиром минометного взвода, немного опекаемый офицерами постарше, через год я неожиданно был назначен командиром батарея из шести гаубиц в связи с созданием в полку артиллерийского дивизиона. Не знаю, не спрашивал, за какие заслуги. Может, потому что, выехав на учения, остановил машины возле горящего грузовика, полного ящиков с танковыми снарядами, и со своими солдатами разгрузил его. Возможно, потому что мой взвод хорошо отстрелялся на учениях по прорыву дивизией на узком участке фронта, когда я не спал трое суток, зная, что за этими учениями наблюдает сам министр обороны. А может, потому что не побоялся вступить в конфликт с заместителем командира полка, маленьким лысым энергичным майором по кличке Фигаро, неразумный приказ которого я нарушил, но первым подал рапорт командиру полка на его грубость и заставил извиниться. Но скорее всего, просто никого другого не нашлось – не хватало кадровых офицеров. Назначенный из другой части командир вновь созданного дивизиона, высокий, породистый, с благородной сединой майор лет сорока, принял меня за кадрового офицера. Значит, я вписался в армейскую среду.
Малинин называл себя ярославским хохлом, но всей его хитрости не хватало, чтобы убедить меня. Во-первых, в армии и поселке меня ничего не держало – я даже внес деньги за «потерянный», а точнее оставленный себе казенный бинокль – настолько я к нему привык. Обе бывшие подруги были пристроены. Одна, с такими налитыми формами, что казалось, коснись и соком брызнет, собиралась выйти замуж за влюбленного солдатика из медсанбата, где она работала медсестрой – когда мы проводили последнюю ночь, то слышали как он, видимо, удрав из казармы, настойчиво ходил под ее окнами и даже стучал. На прощание одарила комплиментом, что после меня больше не сможет жить без мужчины. Вторая, самая любимая с первого взгляда на ее идеальные ноги, на замужество со мной давно не рассчитывала и жила с немолодым капитаном из нашего полка, который вскоре заменялся в Одесский округ и забирал ее с собой. Я это точно знал, потому что навещал ее ночью, когда капитан дежурил в части. Во-вторых, Малинин не знал, что во время отпуска после первого года службы я побывал в конторе во Владивостоке и забил для себя место гидрохимика на научно-поисковом рыболовном флоте. Я мечтал о море и хотел собственными глазами увидеть, как вдали появляются берега Америки. Когда я еще только ехал к месту службы, поезд остановился, не доехав всего час из-за какой-то неисправности на путях. Было начало октября, стояла солнечная, теплая и безветренная погода, какая бывает в других местах России только во время бабьего лета, а на юге Приморья часто стоит весь октябрь. Пассажиры выходили и прогуливались возле вагонов. С одной стороны от железной дороги ярко желтели сопки, а с другой голубел Амурский залив, за которым слабо виднелся Владивосток. Вдали по заливу медленно шло какое-то суденышко, на котором мне вдруг нестерпимо захотелось оказаться.
Однако мечта о море появилась гораздо раньше. Когда мне было три с половиной года, отец сделал для меня деревянный кораблик, похожий на прогулочный катер, и покрасил его в белый цвет. Несколько раз мы ходили на Волгу, и я водил его по воде за веревочку. Однажды перед возвращением домой отец решил просушить кораблик и стал крутить его за эту веревочку над головой. Веревочка вдруг оборвалась, кораблик улетел далеко в реку и медленно поплыл вниз по течению. Видя, что отец не собирается лезть за ним в воду, я спросил «А куда он плывет?» Отец ответил, что в Каспийское море, и я почему-то понял, что море – это что-то очень большое, гораздо больше, чем Волга и уже ни о чем не спрашивал, а лишь сожалел о потерянном кораблике. Забавно, но мне до сих пор жаль той потери. Потом я сам строил и пускал кораблики, рассматривал разные суда в книжках и интернете и читал о них и морских путешествиях. В первый раз я увидел море из окна поезда где-то под Ростовом. Оно было огромное, бескрайнее и, как мне показалось, стояло стеной. Это было Азовское море – одно из самых маленьких и мелких в мире.
Оказавшись во Владивостоке, я без проблем устроился работать гидрохимиком и бесплатно жить прямо на «Нерке», траулере, на который меня определили в первый рейс. Флот нашей конторы базировался в бухте Золотой Рог. Он состоял из несколько десятков малых, средних и больших рыболовных научно-поисковых судов, которые плавали по всему Тихому океану. Они обслуживали научно-исследовательский институт, расположенный в самом центре города рядом с гаванью. Их задачей, попросту говоря, было искать рыбу и исследовать условия ее обитания для дальнейшего промысла. Между рейсами гидрохимики собирались в химической лаборатории института и готовили оборудование, реактивы и дистиллированную воду для следующих рейсов. Рядом с лабораторией находился богатый океанографический музей с множеством редких и удивительных экспонатов подводного мира Тихого океана, которые я рассматривал с огромным интересом и мечтал увидеть вживую. К счастью, мои мечты во многом сбылись.
Экипаж собрался на борту в назначенный день отхода, в понедельник, но капитан не спешил. Оказалось, что он следовал морской традиции не выходить в море по понедельникам. Я почувствовал, как в 11 вечера заработал двигатель, а в одну минуту первого, как только наступил вторник, мы в темноте отвалили от причала. Думаю, что торговые суда редко могут позволить себе такую роскошь, потому что они должны быть в графике и вовремя прибывать к причалу порта назначения для погрузки или разгрузки – иначе большой штраф. Но мы могли подождать с отходом, поскольку впереди было несколько месяцев работы в море, и плюс-минус один день не имел значения.
Утро вторника, май месяц, тепло. Дует легкий встречный ветер, покрикивают чайки, нос нашего траулера рассекает небольшие волны, а корма оставляет за собой блестящий на солнце бурный пенистый след. Душу прямо распирает оттого, что удалось осуществить задуманное. Идем по Японскому морю по направлению Берингова моря – там наш район исследований. Мобильной связи уже нет. Постепенно усиливается ветер, на волнах появились барашки, судно начинает качать, а меня – мутить и подташнивать. Наступило время обеда. Прохожу в кают-компанию, сажусь за стол, впихиваю в себя борщ, макароны по-флотски, компот и вдруг чувствую почти непреодолимое желание блевануть. Боже, дай силы не опозориться! Какой же я буду моряк с морской болезнью? Наверное, будут немного сочувствовать, но в основном – смеяться и даже презирать. Это был критический момент, но неимоверным усилием воли я переборол себя и меня не вырвало! После этого, к моему огромному облегчению, тошнота начала проходить, и через пару часов я почти прикачался. Смешно, но это был один из самых счастливых моментов моей жизни, словно мне выдали документ, что я настоящий моряк. Впереди ждали шторма с многометровыми волнами, с такой бешеной качкой, что о сне даже мечтать не приходилось, но я больше никогда не ощущал никаких признаков морской болезни. А ведь меня незадолго до того укачало до рвоты за пару часов на заднем сидении междугородного автобуса – дорога была неровная, а автобус старый.
Глава 2. Наш траулер
Наш небольшой траулер часто качался, но не опрокидывался – как ванька-встанька, потому что глубоко сидел в воде. Несмотря на достаточно мощный двигатель, он не мог идти быстрее 12 узлов. Мощность была нужна, чтобы вытаскивать тяжелый трал, полный рыбы. Трал – это большая сеть в форме мешка, которой занималась бригада рыбаков во главе с тралмейстером. Трал тащили как по дну моря, так и на нужной глубине. Были еще и другие небольшие тралы-сачки для ловли планктона, которым питается рыба. Экипаж 30 человек. Условия не комфорт – гальюн общий, душ раз в неделю. У меня была небольшая лаборатория и каюта на двоих с гидрологом Сашкой, моим ровесником.
В кают-компании самым активным и громким был старший помощник капитана, старпом Афанасий по прозвищу Афоня, немного старше меня, с которым я подружился. В свободное время я часто приходил к нему на мостик, узнавал метеосводки, местоположение, смотрел, как работают приборы и иногда стоял у штурвала. Когда я отрастил небольшую бороду, надеясь выглядеть морским волком, он по-дружески заявил «Сбрей немедленно, с ней ты выглядишь на все тридцать!». Старшего механика, тоже молодого, все называли по морской традиции дедом, без имени. Второй помощник капитана и второй механик, совсем молодые ребята, вели себя очень скромно и в основном молчали. Морозильное отделение для хранения рыбы обслуживал рефрижераторный механик, или просто реф, самый незаметный из комсостава. Обычно тоже не особо выделяющийся пожилой тралмейстер, так сказать, главный рыбак, которого называли просто трал, как только начиналось промысловое траление, становился главным героем в кают-компании, громко обсуждая, как и сколько взяли рыбы.
Начальником научной группы и рейса был научный работник института, высокий молодой парень из Петропавловска-Камчатского, очень энергичный и одновременно немного озабоченный, наверное, потому что это был его первый рейс в такой роли. Он не терпел как формального обращения к себе по имени и отчеству, так и фамильярного. Уже в первый день в кают-компании он осадил капитана, немногословного мужчину средних лет, который обратился к нему «Саша» и потребовал называть его Александр. «Наука», включая начальника рейса, жила в скромных условиях, по два человека в маленькой каюте, несмотря на то, что относилась к командному составу. Так сказать, комсостав второго сорта. Основой научной группы были ихтиологи – специалисты, изучающие рыб. Самым старшим был интеллигентный Зенон Николаевич с небольшой седеющей бородкой, немного моложе – Виктор, высокий, худой и немного нескладный мужчина в очках, всегда готовый поделиться своими знаниями, и красивая девушка Света, медсестра по образованию. В нее я влюбился почти сразу. Кстати, Света единственная из научной группы жила одна в двухместной каюте, двери которой были прямо напротив нашей с Сашкой каюты.
Во время длинных переходов я заходил на камбуз пообщаться с коком Михалычем. Он на море не жаловался, и считал своим долгом приготовить что-нибудь горячее даже в сильный шторм. Для этого он просил капитана хотя бы часа на полтора поменять курс и идти по ветру, уходя от волны. Кстати, при этом и экипаж мог немного поспать, ведь койки стояли поперек, и при сильной бортовой качке, когда каждые несколько секунд то на ногах, то на голове стоишь, и это неизвестно когда кончится, спать невозможно. Михалыч ухитрялся из нашего ограниченного списка продуктов приготовить иногда что-нибудь такое, что удивляло всю команду – он знал секреты добавки специй, многие из которых покупал на берегу за свой счет. Особенно я тащился от того, как он выпекал хлеб, который я привык покупать в магазине и не задумывался, что хлеб можно делать своими руками. Прикольно было видеть, как Михалыч замешивает тесто, заливает его в формы и через некоторое время отправляет их в печь. Хлеб получался воздушный, ароматный и вкусный, особенно пока горячий.
Команда на судах типа нашего часто меняется, поэтому на "Нерке" был только один постоянный член экипажа – светло-рыжий корабельный кот Персик, совсем не страдавший морской болезнью. Его несколько лет назад кто-то принес котенком на "Нерку", которая стала ему домом. По понятным причинам Персик больше всего любил кока, спал у него в ногах и часто проводил время на камбузе (подозреваю, что он также будет любить и следующего кока). Кок считал его своим другом и полезным членом экипажа, не уставая повторять, что без Персика мыши испортили бы ему все продукты. Действительно, мыши и крысы на судне замечены не были, а чья это заслуга – Персика или противокрысиных щитков на швартовых канатах в порту, никто точно не знал. Во всяком случае, Персик, похоже, не доверял этим щиткам и часто сидел на стоянке в порту рядом с вахтенным матросом у сходней и словно следил, чтобы ни одна мышь не проскочила.
Ввиду отсутствия грызунов Персик охотился на сухопутных птиц, которые иногда садились отдохнуть на "Нерку". Однажды я застал его на палубе готовым к прыжку, неотрывно смотрящим на рябенькую бело-серую птичку с длинным клювом, которая сидела на фальшборте. А вдруг он в прыжке перелетел бы через фальшборт прямо в море, неважно, с птичкой или без? Пришлось взять охотника в охапку и унести подальше. Он, правда, не вырывался. Я вернулся к птичке: она меня очень боялась, даже обделалась, но, обессилев, не могла даже сдвинуться с места. Я поставил ее повыше, чтобы кот не достал. Отдохнув, через час она улетела.
Глава 3. Северная Пасифика
Тихий океан в Северном полушарии – Северная Пасифика, простирается между Азией и Америкой и чем севернее, тем сильнее они сближаются – до тех пор, пока океан не перейдет в узкий Берингов пролив между российской Чукоткой и американской Аляской. Вот на этой окраине Тихого океана и находится Берингово море, южную часть которого от остального океана отделяет длинная дуга вулканических Алеутских и Командорских островов. Северная часть Берингова моря много месяцев покрыта льдами. Несмотря на довольно суровые условия, природа сделала его одним из самых рыбных на Земле. А кто не слышал про огромных камчатских крабов? Еще Берингово море населяет множество животных – китов, тюленей, сивучей, котиков, моржей и других. Мы проведем там все лето, и скорее всего, нас в основном ждет хорошая погода, однако, как мне сказал Афоня, осенью туда лучше не попадать из-за постоянных и очень злых штормов.
После небольшой остановки на Сахалине мы пошли на север вдоль тысячекилометровой гряды Курильских островов с десятками вулканов. Я с волнением первооткрывателя смотрел на их остроконечные заснеженные вершины. Однако вскоре нас ждало первое приключение – усиливался ветер, по прогнозу с юга надвигался сильный шторм, а Персик заметно нервничал. Мы укрылись за небольшим гористым островом, но даже там волны достигали девяти метров в высоту, на которых нос "Нерки" то высоко взлетал, то резко падал, поднимая столбы брызг и окатывая палубу. Так как траулер держался против ветра, я на свой страх и риск вышел наружу, прячась за надстройкой, и высунул голову. Ощущение было такое, словно мне ее чуть не оторвало.
Не успели пройти Курилы, как случился «международный» скандал. С мостика заметили поплавок снасти, которую капитан приказал выловить из воды. На одном из крючков оказалась мертвая двухметровая акула с холодными глазами голубого цвета. Снасть была снабжена радиобуем, и пока мы рассматривали добычу, появилось японское судно и стало требовать вернуть снасть. Это произошло в наших водах, поэтому капитан посчитал японцев браконьерами, а их «удочку» – своим призом. Японцы долго кружили вокруг нас, но капитан был непреклонен, и они ушли с пустыми руками. Когда-то северные Курильские острова принадлежали Японии, вот японцам и хочется, как раньше, ловить здесь рыбу.
Достигнув Камчатки, мы первым делом зашли в бухту Русская. Раньше она носила таинственное название Ахомтен, данное ему ительменами, коренными жителями Камчатки. Это один из фьордов Камчатки (да, фиорды есть не только в Норвегии!) – длинный залив с крутыми горными берегами. Благодаря длине более 6 миль, достаточной ширине и большой глубине здесь могут укрываться от шторма даже крупные суда. У входа в бухту нас встречали "охранники" – лежащие на прибрежных камнях огромные северные морские львы – сивучи, на самом деле дружелюбные и любопытные к людям, но, говорят, ужасно пахнущие. В эту бухту часто заходят черно-белые красавицы касатки – так называемые киты-убийцы. Здесь также живет много птиц – бакланы, чайки, кайры, утки, гагары, доверчивые глупыши и яркие экзотические пуффины, прозванные морскими попугаями. Несмотря на середину мая, горные склоны были покрыты снегом почти до самой воды.
В бухту Русскую десятилетиями заходят рыболовные суда, чтобы набрать свежей пресной воды. Она здесь бесплатная, не то, что в порту. "Нерка" причалила в конце бухты к какому-то заброшенному ржавому пароходу или барже возле устья маленькой речки, которая течет откуда-то с гор, говорят, что из озера. По пути ее подпитывают тающие снега. Ее вода мягкая и необыкновенно вкусная. Она славится среди моряков тем, что в отличие от портовой воды месяцами сохраняет свежесть в судовых цистернах. Я проверил воду на чистоту, обнаружил, что она не хуже дистиллированной и на всякий случай пополнил свои запасы. Пока наш траулер набирал воду, мы загорали на горячем майском солнце, боролись в снегу, делали фотки и прогулялись по берегу до небольшого водопада.
Одной из целей нашей экспедиции было выяснить, что происходит с селедкой. В XIX веке в США почти полностью истребили миллионные стада бизонов. То же самое произошло уже в 20 веке в Беринговом море с огромными стадами селедки, которые оценивались в миллионы тонн. Она водится нескольких заливах у побережья Камчатки, где в бухте Ложных Вестей лет шестьдесят назад, как рассказали местные, видели слой мертвой селедки полметра толщиной – рыба просто не смогла вернуться в открытое море при отливе из-за своего скопления, а в некоторых бухтах вода казалась вообще серебристой от множества рыб. Вот сколько было там сельди! Однако к концу 60-х годов прошлого века ее почти полностью выловили и на берегу остались лишь пустые рыбозаводы и поселки. Потом, чтобы хоть частично восстановить, сельдь запретили ловить на десятки лет. Рыбы – это последние дикие животные на Земле, на которых массово охотится человечество и этот случай – яркий пример того, они страдают от человека даже в глубоком бескрайнем море.
Наконец-то мы вошли в Берингово море и начали работать. "Нерка" медленно тащит трал, по мере его наполнения нагрузка растет, и траулер все сильнее дрожит от напряжения. Не успел трал с рыбой показаться на поверхности, а сотни возбужденных и пронзительно кричащих чаек уже тут как тут. После того, как улов серебристым потоком выливается на палубу, к работе приступают ихтиологи. Они долго разбирают рыбу, измеряют, взвешивают, фотографируют и изучают внутренности. С разрешения ихтиологов подходят другие члены экипажа и ищут что-нибудь вкусное, в первую очередь лосося. Кроме горбуши и кеты, попадается лосось, который вряд ли купишь в магазине – кижуч или серебряный лосось, ярко-красная в брачном наряде нерка, чавыча – король лососей длиной до полутора метров и весом до 60 кг, и сима – японский лосось. После всех появляется Михалыч с большим ведром в сопровождении Персика. Персик предпочитал небольшую рыбку, а большой побаивался, особенно после того как Света взяла увесистого пучеглазого бычка с головой размером почти с человеческую, раскрыла ему пасть и по приколу пощелкала ею перед Персиком, обратив его в паническое бегство.
Самой желанной добычей были огромные камчатские крабы. Также команда уважала камбалу – вкусную нежирную плоскую рыбу с глазами на одной стороне головы, и ее большого родственника палтуса до двух метров длиной. В отличие от камбалы, глаза у него расположены по обе стороны головы – как у всех нормальных рыб, а мясо не костистое, жирное и нежное. Еще одна ценная рыба – угольная, если крупная, больше 10 кг весом, так мощно и долго билась на палубе, что матросам приходилось забивать ее палками. Хоть сама она черная как уголь, но мясо белое, нежное, слегка жирное и без костей – деликатес, украшавший наш стол. Креветки ловились в таком количестве, что их просто засыпали в бочку на палубе, запускали в нее пар, и через десять минут ешь, сколько хочешь. Если тралили в толще воды, то чаще всего попадались минтай, треска и к радости наших ихтиологов – селедка, которая, несмотря на все перенесенные невзгоды и благодаря запрету на лов, жила и размножалась. Что касается чаек, то они знали, что получат свое – все ненужные остатки улова выбрасывались за борт.
В прилове, то есть в несъедобной или малоценной части улова попадались скаты длиной до метра. Виктор охотно рассказывал, какие из них безопасны, а какие лучше не трогать – иначе получишь такой удар электрическим током, что домашние 220 вольт покажутся пустяком. Но самым опасным приловом оказался северный морской лев, или сивуч. Однажды он выпал из трала на палубу вместе с рыбой. Это был огромный агрессивный трехметровый самец. Он явно не замечал, что можно вернуться в свою стихию через специально открытую дверцу фальшборта и с диким ревом, угрожая острыми зубами, как настоящий лев бросался на любого, кто пытался гнать его на выход. К счастью, никто не пострадал. После долгой борьбы сивуч начал уставать и, оттесненный к выходу, к огромному облегчению команды наконец-то плюхнулся за борт.
Все открытия на земле и на море давно сделаны, однако в морских глубинах до сих пор хранится много тайн. Это – «аква инкогнито». Туда можно спускаться на подводных аппаратах, запускать сети на большие глубины, но этот мир слишком велик для изучения такими способами. Он почти такой же малодоступный для человека, как космос. Как-то Зенон Николаевич, разбирая улов, сказал мне, что каждый раз надеется найти какую-нибудь неизвестную науке рыбу и что это не напрасные надежды. Три года назад его коллеги обнаружили в этом районе Берингова моря на глубине более 800 метров новый вид липаровых рыб (морские слизни). На вид рыба как рыба, с большими черными глазами, черным хвостом и плавниками, но со студенистым телом бордового оттенка без скелета и чешуи. Зенон Николаевич рассказал, в Беринговом море самки этих рыб ухитряются откладывать свою икру в жабры камчатского краба, где она защищена от поедания рыбами и хорошо промывается, а однажды даже показал мне эту икру под панцирем пойманного краба.
Я все время с удовольствием наблюдал за Светой – особенно когда она наклонялась к улову на палубе и выставляла туго обтянутый штанами зад. Мне казалось, что она с интересом относится ко мне. Однажды после некоторого колебания я надел новый спортивный костюм и отправился в ее каюту, благо идти было недалеко. На мой стук она ответила, что открыто. Когда я зашел, она лежала на койке, укрывшись одеялом. Приветливо улыбнувшись, она пригласила меня проходить и встала. На ней был короткий халатик. Я подошел, взял ее за руку, притянул к себе, обнял и, преодолевая легкое сопротивление, поцеловал в губы. Между нами завязалась мягкая молчаливая борьба, во время которой мои руки обласкали все ее тело. Увы, это горячее тело и его дразнящий запах, а главное, то, что я дико изголодался по любви, сделали свое дело – перевозбужденный и не в силах сдержаться, я со стоном кончил прямо в штаны и со стыдом поспешил вернуться в свою каюту. Сашка, увидев мое покрасневшее лицо, сказал: «Тебе хорошо, трахаешь …». Я не стал его разочаровывать.
Немного позже Света сама пригласила меня к себе поговорить: «Ты младше меня на пять лет … и не уговаривай, я знаю, что делаю, это бесперспективно для меня, поэтому давай закончим, я больше не хочу!». Мои аргументы, что возраст не имеет значения, на Свету не произвели никакого впечатления. Я говорил вполне искренне, но она, видимо, считала, что это относится к сексу, а не к серьезным отношениям. На этом все и закончились. По иронии судьбы, через год сразу после выхода в один долгожданный загранрейс ко мне в лабораторию неожиданно пришла двадцатилетняя красавица-буфетчица и предложила заниматься с ней сексом. Она выбрала не капитана, не старпома, который потом сох по ней весь рейс, а меня, у которого даже не было отдельной каюты, а я ей отказал, потому что только что женился и в доказательство показал свадебные фотографии. Она была очень огорчена, а я потом любовался ею весь рейс. Я просто не мог поступить иначе, ибо совесть так велела. Когда через пять месяцев мы вернулись во Владивосток, встречавшая меня жена и буфетчица буквально уперлись друг в друга взглядами. Первая сразу решила, что это моя любовница, а вторая, наверное, пыталась понять, ради кого я от нее отказался. Жена так и осталась при своем убеждении и потом даже сказала, что благодарна сопернице за то, что та поддерживала мое здоровье. Знай печальное будущее своего брака, я бы тогда исправил ошибку. До сих пор чувствую себя виноватым перед этой девушкой и самим собою.
Одноглазый, с покатым лбом, похожий на пирата, Сашка на станциях – остановках для отбора проб воды работал на небольшой палубной лебедке у левого борта. Свешиваясь через фальшборт, он цеплял на трос белые цилиндры, батометры, и по очереди лебедкой опускал их на глубину. Опустив гирлянду, Сашка пускал вниз по тросу грузик, батометры переворачивались под водой и запирали в себе воду с нужной глубины. При подъеме гирлянды он поочередно снимал батометры и ставил их на специальный стенд возле фальшборта. Потом приходил я, отбирал из них воду через краники в бутылочки и уносил на анализ в свою лабораторию. Однако мы толком не могли поспать, так как станции были каждые четыре часа много дней подряд даже в шторм. Такую жизнь мы долго не выдержали и договорились выходить на вахту по очереди. Когда Сашка спал, я занимался лебедкой, батометрами и отбором проб. Потом я спал несколько часов, а он управлял лебедкой и отбирал пробы. Когда я просыпался, меня ждало множество наполненных бутылочек для анализа. Сашка не умел делать анализы, но мне было не в тягость, потому что я сделал их тысячи и шутил, что мог бы научить этому даже обезьяну.
Капитан, как обычно в таких рейсах, получил задание по добыче рыбы. Для ее переработки ему иногда не хватало рабочих рук, и вот однажды, после большого улова он потребовал, чтобы «наука», кроме начальника, шла работать в разделочный цех. Однако получил отказ: «наука» ответила, что они – комсостав, им за «рыбу» не платят и у них достаточно своей работы. Такой вот крутой челлендж. Кэп тихо бесился, видя, что наука предпочитает сачковать, а не пахать на рыбе, но ничего не мог поделать. После этого атмосфера на судне накалилась. За столом в кают-компании царила напряженная тишина. Какое-то время общение между кэпом и начальником рейса происходило только через старпома. Но, как говорится, с подводной лодки никуда не денешься и всем пришлось работать дальше. По моим наблюдениям после долгого автономного плавания в тесном коллективе на маленьком судне люди устают друг от друга и становятся раздражительны, а порой просто начинают ненавидеть друг друга. Наверное, поэтому кэп требовал, а ведь мог бы и попросить.
Через два месяца работы в Беринговом море произошел несчастный случай. На одной из вахт машинное отделение перестало отвечать мостику. Когда спустились, то обнаружили пожилого вахтенного моториста лежащим без сознания. Света, единственная с медицинским образованием на судне, сделала, что могла – давала ему нюхать ватку с нашатырным спиртом и самоотверженно делала искусственное дыхание, даже «рот в рот» до тех пор, пока он не пошел трупными пятнами. Специального мешка или контейнера на судне не оказалось, поэтому на следующий день боцман с матросами делали на палубе гроб из досок. Потом гроб с телом поместили в морозильную камеру. Решено было идти в Петропавловск-Камчатский.
В Петропавловске наша "Нерка" встала на якорь в Авачинской бухте. Ее посещали корабли знаменитых кругосветных экспедиций Кука и Лаперуза. Здесь на берегу похоронен Клерк, капитан "Дискавери", возглавивший экспедицию после трагической гибели капитана Кука на Гавайях и умерший в 38 лет после попытки преодолеть льды за Беринговым проливом. В этой огромной закрытой гавани, второй по величине в мире, может укрыться целый флот. Она очень живописна: у входа стоят скалы «Три брата», а над городом и окружающими горами возвышаются заснеженные конусы вулканов с вершинами выше облаков. Кроме сдачи тела в морг нужно было пополнить кое-какие запасы и людям разрешили побыть на берегу два дня, поэтому почти вся наша давно не ступавшая на берег команда на шлюпке убыла в город, где расслаблялась до самого отхода. Я тоже посидел с командой в одном из ресторанов. Света демонстративно не обращала на меня внимания и неприступно сидела подальше в окружении наших моряков, которые наперебой ухаживали за ней. В тот же вечер я вернулся на «Нерку». Перед этим благодаря интернету я быстро познакомился с городом, побродил по его центру и побывал в гостях у начальника нашего рейса Александра, который жил в панельной пятиэтажке, каких в городе еще много. Его жена рассказала, что они живут под постоянным страхом землетрясения и при малейших толчках немедленно выбегают с детьми и документами на улицу. Их дом был укреплен против землетрясений обшивкой из металла – чтобы не рассыпался.
В Петропавловске я обнаружил несколько памятников, посвященных обороне города во время Крымской войны. Величие памятника в самом центре Лондона, посвященного этой войне, демонстрирует, какое значение англичане придают той победе над Россией. Основные события происходили в Крыму, но кроме них шли морские сражения на пяти морях и в Тихом океане. Раз уж Петропавловск и Авачинская бухта стали частью нашего рейса, я, как недавний офицер, хочу поделиться своим взглядом на оборону Петропавловска. Наверное, это была последняя битва морских парусных кораблей, достойная увлекательного приключенческого фильма. Однако если вы не любите историю и морские сражения, то пропустите следующую главу и читайте дальше, как оригинально мы уходили из Авачинской бухты.
Глава 4. Отпор
Кто бы мог подумать, что крохотный городок, который незадолго до Крымской войны имел гарнизон 231 человек и 12 пушек сумеет отразить нападение англо-французской эскадры? С момента назначения в 1850 году камчатский военный губернатор Василий Степанович Завойко много делал для развития Камчатки, построил в Петропавловске десятки зданий и готовил порт к обороне. При нем население города выросло в четыре раза. Он поощрял выращивание овощей, чтобы бороться с цингой и иметь больше продуктов кроме присылаемых морским путем за тысячи миль, которые приходили только летом, потому что осенью – шторма, а затем лед покрывал гавань порта почти до мая. Несмотря на прохладное лето, картошка, морковь, капуста, репа и редька росли хорошо благодаря влажному океанскому климату и горам, защищавшим от арктической стужи. Его жена Юлия, аристократка, баронесса Врангель сама без гувернантки воспитывала и обучала своих детей, устраивала спектакли, катания на лодках и нартах и вечеринки с оркестром. Они назывались «балы у губернатора», куда дамы зимой приезжали на нартах, запряженных собаками, а летом ввиду отсутствия экипажей приходили пешком.
Фрегат "Аврора" хитроумно ускользнул от англо-французской эскадры в Перу, где они вместе стояли в порту Кальяо, не зная, что война началась более месяца назад – со связью тогда было плохо. О войне союзников известил прибывший британский военный пароход "Вираго", когда от "Авроры" уже больше недели как след простыл. Известие о начале войны немного обогнало "Аврору" в Петропавловске, куда она пришла в июле 1854 года с больной командой после тяжелейшего перехода в девять тысяч миль и осталась там по просьбе Завойко. Авроровцев встретили как родных. Две трети команды отправили лечиться от цинги на горячие источники в Паратунку, из которых 19 человек все-таки умерли, но остальные через три недели в основном поправились. Вскоре к "Авроре" присоединился военный транспорт "Двина" с солдатами из Сибири и пушками. Корабли встали на якорь во внутренней гавани за песчаной косой, направив орудия левых бортов в сторону Авачинской бухты. Орудия с правых бортов отправили на береговые батареи, которые усилили матросы с "Авроры". В результате количество береговых орудий увеличилось до 40, а защитников – до 1000 человек.
Англо-французская союзная эскадра из шести боевых кораблей встала на якорь в Авачинской бухте 30 августа 1854 года, на следующий день после разведывательного рейда парохода "Вираго" ("Мегера" по-русски) под американским флагом для маскировки. Одно только известие о появлении эскадры сжало сердце Юлии Завойко и парализовало все ее силы из-за страха за мужа и девятерых детей. Эскадра действительно выглядела устрашающе, ведь она примерно втрое превосходила защитников Петропавловска по судам, людям и пушкам. Однако ее преимущество было не столь велико, как казалось, поскольку для высадки десанта можно было использовать только часть людей, а пушки – только по одному борту парусников, потому что они часто не могли маневрировать из-за отсутствия ветра. В случае штиля их перемещал "Вираго". Петропавловский порт был хорошо защищен природой – внутренняя гавань была отгорожена длинной песчаной косой и скалистым полуостровом – Сигнальной сопкой. Узкий вход между ними был заперт заграждением из бревен, соединенных металлическими цепями. Сигнальная сопка переходила через низкий перешеек в высокую Никольскую сопку, за которой была низина с большим Култушным озером.
Первая атака началась 31 августа, но прекратилась после нескольких залпов из-за внезапной и загадочной гибели 64-летнего командующего союзной эскадрой адмирала Дэвида Прайса. Было ли это самоубийство, случайное ранение собственным пистолетом, или результат обстрела его флагмана, в любом случае она повлияла на боевой дух союзников, и на следующий день русские сумели отразить их недостаточно решительные атаки на порт. Однако положение оставалось критическим и Завойко, чтобы не отдать корабли, приказал сжечь "Аврору" и "Двину", если их пушки израсходуют весь порох. 2 сентября "Вираго" отправился на противоположный берег Авачинской бухты, чтобы похоронить адмирала Прайса. Там британцы встретили несколько американских моряков, занимавшихся заготовкой дров, которые сообщили подробности о русской обороне. Они считали, что Петропавловск можно взять через Никольскую сопку и в обход мимо Култушного озера, и рассказали про тропу, по которой можно доставить легкую артиллерию на вершину сопки. Британцам идея понравилась, поскольку и пушки русских кораблей, и большинство батарей становились бессильны. Хотя французы предлагали повторить атаку с моря, был принят британский вариант.
Ранним безветренным утром 5 сентября напряженно дымящий "Вираго" подвел к Никольской сопке британский и французский флагманские фрегаты «Президент» и «Форт», пришвартованные с боков, и пустые десантные шлюпки, буксируемые за кормой. Невысокая палуба "Вираго", скрытая между огромными фрегатами, была переполнена десантниками. Расставленные пароходом фрегаты своими пушками подавили две русские батареи, после чего высадилось 950 десантников. Часть десанта вышла на узкую дорогу между Никольской сопкой и озером, но получив отпор картечью от озерной батареи, которую приняла за укрепленный форт, отступила и присоединилась к атаке на сопку. Заняв ее, десантники начали спускаться и вступили в перестрелку с озерной батареей и резервными отрядами русских стрелков. Десант, высаженный на низком перешейке, из винтовок обстрелял "Аврору" и "Двину". По команде Завойко отряды русских стрелков и моряков ожесточенно контратаковали вверх по склону. Среди кустов противники не могли оценить численность друг друга и, хотя русских было не более 300, их натиск был решительнее. Выстрел солдата-сибиряка, убивший командира британских морских пехотинцев Паркера, стал переломным. Потеряв ключевого командира и многих офицеров, выбитых меткими сибиряками, десантники потеряли управление и под натиском русского штыкового боя стали отступать.
Французский бриг обстреливал наступавших русских шрапнелью, облегчая отступление своих по пологим склонам сопки, однако часть десантников оказалась у 40-метрового обрыва. Одни были сброшены с него в рукопашной штыковой схватке, другие прыгали сами и покалечились или погибли. 16 камчадалов, обычно убивающих бобра в голову, чтобы не портить мех, сверху из-за камней расстреливали десантников, столпившихся на берегу для посадки на шлюпки. Пушки фрегатов открыли огонь по русским стрелкам, но безуспешно. Англичане даже потеряли знамя, которое стало лучшим призом среди других трофеев, включая семь офицерских шпаг и десятки винтовок. Союзникам, которые старались забрать не только раненых, но и убитых, пришлось оставить 38 погибших, в том числе Паркера. Переполненная окровавленными ранеными и убитыми, палуба "Вираго" стала похожа на скотобойню. Фрегаты ушли, пользуясь появившимся ветром, а "Вираго" вслед за ними отбуксировал большую часть десантных шлюпок с людьми. За сражением с высокой горы за Култушным озером наблюдали жители Петропавловска.
Вряд ли американцы обманывали союзников, да и ушли они вместе. Просто американцы не были военными, а проверить их информацию было невозможно, хотя и надо было, ведь Соединенные Штаты в этой войне помогали России снабжением ее тихоокеанских земель. Причины неудачи союзников другие. Как ни соблазнительно было обстрелять "Аврору" из гаубиц с вершины Никольской сопки, нужно было вместо подъема на сопку подавить ими озерную батарею, взять город и расстрелять "Аврору" со стороны ее беззащитного правого борта. Вместо этого 200 французских моряков долго искали тропу, чтобы втащить гаубицы на сопку, а потом приняли красные британские мундиры за красные рубахи русских матросов и начали стрелять в них. За вершиной сопки десант лишился поддержки своей корабельной артиллерии, а дальнобойные винтовки союзников в ближнем бою не дали преимущества против гладкоствольных кремневых и пистонных ружей русских. К тому же русские на суше оказались более сильными бойцами, чем англичане и французы. В общем, зря британцы не поддержали предложение французов повторить атаку с моря – ведь у русских было всего по 37 зарядов на пушку, о чем союзники, конечно, не знали. Кстати, я так и не нашел, удалось ли союзникам использовать свои гаубицы на Никольской сопке – но во всяком случае, русским они их не отдали.
Союзники потеряли около 350 человек убитыми и ранеными, а русские – 115, с обеих сторон было по несколько пленных. Союзники не нанесли Петропавловску существенных разрушений, хотя кругом валялось множество ядер и неразорвавшихся бомб. "Аврора" изрядно пострадала – французский бриг через узкий перешеек насквозь прострелил ядром ее грот-мачту и сильно повредил оснастку. Из-за тяжелых людских потерь, повреждений кораблей, нехватки продовольствия, истощения боеприпасов, большого количества раненых и приближающейся зимы союзная эскадра 7 сентября покинула Авачинскую бухту. Неожиданная неудача была воспринята в Британии и Франции с изумлением и раздражением. Действительно, на фоне побед в Крыму и на Черном море это был исключительный случай – поражение англо-французской эскадры. Однако эта неудача была не последней.
Когда десять парусных кораблей и четыре парохода союзной эскадры пришли взять реванш в мае следующего года, она застала пустой Петропавловск, эвакуированный Завойко по приказу свыше. Уходили срочно, погрузив на суда все что можно, включая выкопанные из глубокого снега пушки, и вручную пропилив во льду выход из внутренней гавани в незамерзающую Авачинскую бухту. Юлия с детьми остались, в конце апреля у нее родилась дочь. Неприятель сжег спрятанное в маленькой бухте судно, на котором они хотели уйти. Жили на маленьком хуторе рядом с долго и грозно извергавшимся Авачинским вулканом. Только через четыре месяца они смогли уйти на американском транспорте. Погромив Петропавловск, союзная эскадра не преследовала суда Завойко. Три других британских корабля обнаружили их и после короткой перестрелки заперли в заливе Де-Кастри напротив Сахалина, отправив один корабль за подкреплением. Русская эскадра в тумане выскользнула мимо них в Татарский пролив, а затем в Амур. Англичане считали, что Татарский пролив – это длинный залив, а Сахалин – полуостров, поэтому напрасно искали исчезнувшего противника. Это стало еще одной неудачей британцев. За Тихоокеанскую кампанию 1854-55 годов личный состав Королевской морской пехоты вообще не получил ни одной награды.
Василий Степанович Завойко в 10 лет поступил в Черноморское штурманское училище в Николаеве, а в 12 ушел в первое плавание, где получил суровую закалку, особенно от морской болезни. Когда укачавшийся Василий не вышел на вахту, капитан продержал его привязанного на площадке наверху мачты до тех пор, пока рвота не прошла, и он не захотел есть. Подкормили, а для закрепления снова привязали под волны на носу брига. Завойко дважды совершил кругосветное плавание, заслужил высшие ордена Российской империи и звание адмирала флота. Его любящая жена родила пять сыновей и шесть дочерей в самый тяжелый 16-летний дальневосточный период их жизни. Потом долгие годы они жили в своем имении в селе Великая Мечетня на Южном Буге почти за 200 километров от моря, о котором напоминал их дом, устроенный по-корабельному – с трапами и окнами-иллюминаторами. При коммунистах их могилы разорили, забыв о том, что они сделали для села – одна двухэтажная школа чего стоит! В Петропавловске-Камчатском стоит памятник Завойко, стоял и во Владивостоке, но был снесен большевиками, причем так неуклюже, что пьедестал остался с обрубками ног, прямо к которым и приварили статую большевика Лазо.
Один из памятников на склонах Никольской сопки посвящен батарее под командованием 24-летнего лейтенанта фрегата "Аврора" князя Александра Максутова. Его батарея на низком перешейке между Сигнальной и Никольской сопками почему-то не была защищена даже земляным валом, поэтому понесла большие потери и была прозвана "Смертельной". В последний год моей службы в армии мне тоже было 24 года, и мы оба стали лейтенантами в 22. Моя батарея на морских учениях также стояла на открытом морском берегу возле Славянки и стреляла прямой наводкой по мишеням кораблей, которые на длинных тросах тащили буксиры. Однако батарее Максутова противостояли не маленькие фанерные мишени, а огромный французский фрегат "Форт", открывший огонь из своих 30 орудий против пяти Максутова. Тем не менее, «Форту» потребовалось не менее получаса, чтобы заставить замолчать эту "легкую" цель. Максутов сражался, сколько мог, и продолжал сам вести огонь из последнего уцелевшего орудия. Он серьезно повредил "Форт" и потопил десантную шлюпку, но в неравной артиллерийской дуэли на короткой дистанции был тяжело ранен под ликующие крики с вражеского фрегата. Это был его первый и последний бой – Александр Максутов, с оторванной рукой, контузией и травмированной при падении спиной, вскоре умер от воспаления легких: ослабленный, он сильно простудился в лазарете из-за сырости, вызванной проливными дождями. Могила Максутова, ставшего в 2010 году почетным гражданином Петропавловска-Камчатского, была утеряна в советское время.
Это сражение не было лишено благородства – русские с молитвами и воинскими почестями похоронили рядом своих и врагов и лечили пленных. В первый день союзники пленили бот с кирпичом, безоружными матросами, квартирмейстером и его женой с детьми. Вскоре французский адмирал Огюст Фебврье-Деспуант, заменивший убитого Прайса на посту командующего эскадрой, вернул семью и письменно заверил Завойко в своем глубоком уважении. Старый адмирал ласкал детей, угощал их конфетами и уступил рыданиям женщины, выпросившей своего мужа-квартирмейстера и брата – молоденького матроса. Семеро матросов остались в плену. По словам пленного пассажира судна Российско-Американской компании "Ситка", которое союзники захватили, покидая Авачинскую бухту, Фебврье-Деспуант говорил, что Завойко «… защищался храбро и со знанием дела, я сожалею, что не мог пожать руки его; я не ожидал встретить такого сильного сопротивления в ничтожном местечке». Когда ранее в Кальяо молодые русские, английские и французские офицеры, веселые и доброжелательные, вместе проводили время, им, наверное, было бы трудно поверить, что они враги, могут пролить кровь друг друга и погибнуть. Любая война несет смерти и разрушения, и оборона Петропавловска оставила вдов и сирот. Мне искренне жаль жертв с обеих сторон, как Юлии Завойко, которая с горечью писала в своих воспоминаниях о погибших вражеских офицерах: "… Паркер оставил после себя жену и пять человек детей… Жестокая судьба! Двое других офицеров были юноши, едва вышедшие из детских лет. Несчастные их матери, не суждено вам обнять дорогих сыновей; спят они вечным сном на чужбине!"
Глава 5. На север!
Но вернемся в наше время. Моряки, которые добрались на шлюпке из Петропавловска поздно вечером перед самым отходом, все как один были смертельно пьяны. Только капитан на мостике и дед в машинном отделении были трезвыми. Я вызвался помочь на палубе. Когда изрядно выпивший боцман через меня получил от капитана приказ поднять якорь, он, с трудом преодолевая собственную качку, проследовал на нос траулера, после чего я услышал шум брашпиля и поднимаемой им якорной цепи. Когда шум прекратился и боцман махнул рукой – мол, готово, "Нерка" пошла прочь от огней Петропавловска к выходу из Авачинской бухты. Мы успешно покинули гавань в темноте, но утром оказалось, что боцман крепко спит, прильнув к брашпилю, а 12 метров цепи вместе с якорем остались за бортом – уставший боцман их просто не осилил. К счастью, Авачинская бухта достаточно глубокая, иначе наш «висячий» якорь мог бы зацепиться за грунт, развернуть и столкнуть нас с каким-нибудь другим судном.
Мы возвратились в район, откуда ушли после гибели моториста, а затем постепенно стали смещаться все дальше на север. Миновав высокий скалистый остров Иоанна Богослова, мы вошли в длинную и глубокую бухту святого Павла с крутыми горными склонами. Наша "Нерка" шла вдоль самого берега, пару раз напугав медведей, пустившихся наутек, и бросила якорь в самом конце бухты. Вскоре стало ясно, для чего мы сюда пришли: здесь скопилось много горбуши, которая готовилась подняться по небольшой речке на нерест. Вот она и стала добычей наших рыбаков ради красной икры. Впрочем, несколько тонн выловленной рыбы тоже не выбросили, а обработали и отправили в морозильные камеры, несмотря на то, что из-за истощения ее мясо было уже не ярко-оранжевым, а бледно-розовым. В тот день все члены экипажа получили, включая науку, по литровой банке красной икры – такой подгон. Наверное, начальство поделилось, чтобы никто не настучал. Кстати, после этого конфликт капитана с научной группой закончился.
Даже ихтиологи толком не объяснили мне, почему горбуша, как и многие другие лососи, возвращается для нереста из моря в ту же самую реку, где она сама появилась на свет из икринок, чтобы дать потомство и погибнуть после единственного нереста в жизни – так устроила природа. Сойдя на берег, я пошел вверх по речке, из которой наша команда пополняла запас пресной воды, и увидел, как нерестится горбуша. Когда-то нерестящийся лосось наводнял реки, но я наблюдал куда более скромную картину. Недалеко от устья реки самки откладывали икру на мелководье, а самцы покрывали их молокой. Там уже лежали мертвые рыбы, и чайки в первую очередь выклевывали им глаза. Наверное, если бы не наше браконьерство, то я увидел бы гораздо больше нерестящейся рыбы.
Потом я вышел на большой зеленый луг с видом на другой берег бухты и остров Иоанна Богослова перед ее входом. Склоны того берега до самой воды были покрыты снегом, как и скалы острова, но на моем берегу, которому гораздо больше доставалось солнца, снега не было вообще. Воздух был пропитан запахами цветов, трав, хвои и мяты. Эти запахи особенно сильно ощущались после долгого пребывания в море. Я собрал большую охапку черемши и принес ее Михалычу, так что в следующие дни команда ела свежий летний салат. Все были очень рады, потому что соскучились по зелени. Долой цингу! Не удивительно, что в Петропавловске-Камчатском поставили единственный в мире памятник черемше – местные жители благодарны ей как спасительнице. Кстати, ее квасили в бочках еще во времена Завойко.
За бухтой святого Павла полуостров Камчатка заканчивается. Плотность населения Камчатки очень маленькая, а северная часть почти не заселена. Здесь живут только немногочисленные коряки – коренные оленеводы-кочевники. Настоящими хозяевами большей части территории полуострова являются около 20 тысяч бурых медведей, которых мы и видели на берегу прямо с борта нашего траулера. Дальше на север – Чукотка, Берингов пролив и Северный Ледовитый океан. Краем уха услышал в кают-компании, что капитан нашел какой-то повод идти на север ради более высоких коэффициентов к зарплате за работу в суровом климате – чем севернее, тем они выше – двойка в районах Чукотки. Самой дальней точкой нашего путешествия стал чукотский порт Анадырь, где мы стояли на рейде. Получается, здесь у меня зарплата гораздо больше. Круто! По пути нам попадались уже не медведи, а моржи на льдинах и иногда – серые киты, которые выдавали себя фонтанами. Местному населению разрешено охотится на тех и других, потому что это их многовековой образ жизни. Те, кто бывал на Чукотке, рассказывали, что в поселках лежат белые китовые скелеты.
Глава 6. Возвращение
На обратном пути мы поработали в Охотском море, которое отделено от Тихого океана Курильскими островами. Когда-то оно называлось Тунгусским, Ламским и Камчатским. В него впадает огромная река Амур. Была уже осень, ветреная и прохладная. Кстати, здесь коэффициент к зарплате тоже не хилый – 1,7. Это море само по себе очень холодное из-за длинной, морозной зимы, а его северная часть надолго замерзает, и нередки случаи, когда во льды вмерзают рыболовные суда и их приходится освобождать ледоколами. Несмотря ни на что, оно рыбное, и мы вытаскивали полные тралы минтая. Однако как выяснили ихтиологи, почти весь минтай был заражен паразитами. Ихтиологи показали мне внутренности рыбы – они и вправду кишели какими-то червячками. Так ничего и не взяли, выбросив весь улов за борт.
В один холодный ветреный день "Нерка" начала обмерзать от брызг волн, в основном на носу. На судне был объявлен аврал. Все матросы и «наука» утеплившись, чем было (к зиме-то мы не готовились!) и, надев оранжевые робы и спасательные жилеты (тоже грели немного), обкалывали лед и выбрасывали его за борт. Обледенение очень опасно, особенно для таких небольших судов, как наше, и их немало затонуло вместе с экипажами, перевернувшись из-за смещения центра тяжести вверх. Если обледенение происходит в основном не от брызг, а от ледяного дождя, то лед нарастает сверху. Если он образуется больше на одном из бортов, судно начинает крениться и, раскачиваясь, черпать воду и еще сильнее обледеневать по этому борту, а тут уже и до катастрофы недалеко. Мы справились, потому что лед нарастал не очень быстро, а через несколько часов ветер стих, потеплело, и опасность окончательно миновала.
Возвращаясь, в одном из портов Хабаровского края мы взяли на борт очень милую девушку по имени Оля из другой экспедиции, чтобы доставить во Владивосток. Ее подселили к Свете. Она отправилась в свой первый рейс, не подозревая, что будет все время страдать от морской болезни, поэтому этот рейс стал для нее последним – она списалась на берег. Мы сразу подружились – прогуливались по палубе, фотографировались, подолгу сидели в моей лаборатории, и Оля рассказывала свою историю. Хотя качка была совсем слабая, ее постоянно тошнило, и она несколько раз выбегала, а возвращаясь, объясняла: «Блемонто». Помня, как сам чуть не укачался, я очень сочувствовал ей. Вечером мы разошлись по каютам, а на следующее утро Афоня с гордостью объявил мне: «Хорошая девушка. Я с ней переспал». Я сделал вид, что поверил.
Нам оставалось всего несколько часов хода до Владивостока. Стояла теплая солнечная погода с небольшим ветром. Справа по курсу, между нами и берегом мы видели три траулера. Внезапно раздался громкий взрыв и вскоре ближайший к нам траулер начал крениться на нос. Одни люди просто прыгали за борт, стараясь отплыть подальше, другие сбрасывали белые бочонки спасательных плотов, которые надувались на воде, и прыгали вслед. Вскоре нос судна ушел под воду, и траулер быстро затонул кормой вверх, как «Титаник» в знаменитом фильме. Нам удалось выловить двоих человек. Один был в спасательном жилете, но без сознания и неестественно вывернутыми руками. Оживить его не удалось. Второй был жив и рассказал, что произошло.
Трал выбрали с небольшим уловом, но с большой рогатой миной, видимо, ждавшей своего часа со времен войны. Траулер был бортовой, то есть трал вытаскивался на палубу через правый борт. Мина покачивалась на волнах недалеко от борта траулера. Пока решали, отпустить и обрезать весь трал или его конец, волна набросила мину на корпус судна, и она взорвалась. Взрыв разворотил правый борт ближе к носу траулера, изнутри вырвал крышку люка трюма на палубе, поубивал людей на мостике и выбросил за борт несколько человек. Из-за огромной пробоины траулер начал быстро крениться на нос и тонуть. Все происходило так быстро, что шлюпки спустить не было никакой возможности, поэтому кто-то просто прыгал за борт, а кто-то сбрасывал надувные плоты.
Хорошо, что не вышли в понедельник, а то мина могла бы достаться и нам. Я представил, что лежу на койке в каюте, бездельничаю – смотреть на уловы уже надоело. Сашки нет, где-то бродит. Вдруг наш траулер сотряс взрыв такой силы, что я чуть не вылетел из койки, а с полок и со стола попадали вещи. Двигатель остановился, и стало почти тихо, слышен только какой-то отдаленный звук падающей воды. Хватаю спасжилет, бегу по проходу вперед, открываю дверь на палубу, вижу развороченную дыру вместо крышки на люке трюма и слышу, как в трюме водопадом мощно хлещет вода. Возле двери на палубе неподвижно лежит рыбак в оранжевой робе лицом вниз. Траулер начал крениться на нос. Бегу обратно, взлетаю по трапу на верхнюю палубу к спасательным шлюпкам позади мостика и вижу, как Афоня дрожащими руками раскрепляет белый бочонок спасательного плота и сбрасывает его за борт. «Кэп погиб! Надень жилет и прыгай!» – орет он мне. «Где Оля?» - кричу я ему. Он безнадежно машет рукой и прыгает к надувшемуся плоту. Очень высоко, но тут не до страха и я тоже прыгаю. Вынырнув, хватаюсь за леер плота, Афоня тянет меня и переваливает внутрь. Видим, что траулер все быстрее кренится на нос и скрывается под водой кормой вверх, напоследок показывая обросшее дно и неподвижный гребной винт. Да, хорошо, что не вышли в понедельник!
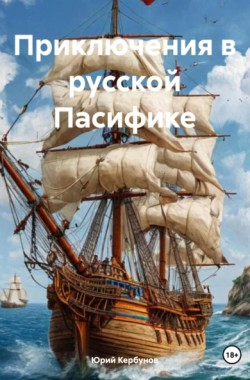





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

