Читать онлайн "Мой питомец"
Глава: "Первая и единственная глава"
– Привет, я дома.
Дежурное приветствие, которое я произношу в пустоту, а быть может, не произношу вовсе.
Я снимаю ботинки и ставлю их прямо напротив полок с другой обувью.
Слышно, как босые ноги шлепают далеко позади меня, и эти тяжелые шаги сопровождает натужное, гайморитное дыхание.
Оно всегда ждет меня дома.
Я вспоминаю, что сегодня двадцать третье число. Номер дня в календаре оканчивается на нечетную цифру, вернее сказать, на тройку, потому что для тройки у меня есть особый порядок.
Я наклоняюсь, трогаю ботинки и поправляю их, чтобы они стояли точно перпендикулярно к полкам, потом разгибаюсь и снова склоняюсь, несмотря на боль в забитой пояснице. Делаю это три раза, после чего отряхиваю руки и оборачиваюсь.
Оно всегда молчит, но по безгубой улыбке, спрятанной среди темных волос, я понимаю, что Оно радо моему возвращению. Иначе не может быть: существование моего необычного питомца зависит только от меня и от объема моих мыслей, отданных ему во владение.
Шаркающей походкой Оно приближается ко мне и неловко топчется рядом, вытягивая бледную, по-лебединому изогнутую шею из шерстяного ворота. Сняв куртку, я стою в свитере: мы всегда одеты одинаково. Только кофейная пряжа, обнимающая Его дистрофичное тело, покрыта пылью и паутиной. На локтях сереют заплатки, которых нет у меня.
– Ты был прав, – бросаю мимоходом, скрупулезно сворачивая шарф. Кладу его на комод и сверху, разгладив собравшуюся окантовку, опускаю вязаную шапку: эти вещи неизменно лежат друг на друге. – День прошел хорошо. Нет, лучше всяких похвал! Мои синопсисы утвердили, так что будем готовиться к конференции…
Я делюсь предстоящими планами, а Оно покорно слушает, незаметное и неловкое, покачивается, как лист на ветру. Если вы когда-нибудь видели палочника или других созданий из отряда «Привиденьевые», то сочтете моего друга похожим на кого-то из них: его фигура вытянутая и напоминает сгоревшую спичку, поскольку смоль замызганных волос, небрежно прикрывающих пустоту лица, напоминает ее воспламенившийся конец; руки тонкие и ломкие, облагороженные чахоточной бледностью, а чахотку, как вы знаете, давным-давно считали романтической болезнью. Вот и он, как незадачливый романтик, постоянно растирает мосластые локти от неощутимого холода, что пробирает его изнутри. Суставов у него заметно больше, чем у меня: иначе не объяснить, как его руки и ноги умудряются сгибаться в подобия геометрических фигур. Его голова небольшая в сравнении с телом и прячется за завесой мглистой тенеты. Я не противлюсь его робости, там все равно не на что смотреть – бусинки глаз, может, рудиментарные, и безмолвная, но исполненная понимания пустота.
Воистину хороший слушатель.
Оно появилось из тревоги. Сколько себя помню, я всегда была человеком, для которого ответственность и чувство долженствования были превыше всего. Парадоксально, но, в отличие от многих других адептов обсессивного идеала, я росла в атмосфере принятия: мною не руководили родительские требования, мои знания стояли выше оценок, выставляемых в тетрадных бюллетенях, развитию моих способностей всячески потакали. Однако было во мне что-то, заставляющее меня стремиться к совершенству. Какой-то врожденный импульс, который был чем-то вроде блуждающего нерва и плавал в сером веществе моего мозга, взбрыкивая, как вышвырнутый на сушу головастик. Комплекс, недуг, особенность – определить это можно по-разному, но, пожалуй, за соблюдением нейтральности буду называть это первичной манией.
Некоторые дети с ранних лет склонны к игре с огнем, и чаще всего пиромания взрослеет вместе с ними, проходя полный цикл от рождения до увядания. То же самое с фобиями: детская душа представляет собой идеальный сосуд для страха, ведь у нее нет защитного барьера из скепсиса и цинизма, позволивших бы прогнать пугающий объект через мясорубку рациональности. Пока внутри моих сверстников давали ростки невнятные влечения к столь же невнятным вещам или фобии, отвращающие их от чего-то, мной руководила неоформленная идиллическая страсть, источник которой мне удалось разыскать в первые годы школьной поры.
Если младенца поставить на пьедестал, утяжелить короной его мягкую голову, а в ладошку вложить скипетр, то он зашатается и упадет, ибо груз всеобщего восторгания окажется для него неподъемным. Первичная мания появилась из привитого мне в детстве чувства исключительности: во что бы то ни стало я хотела доказать свою правоту, даже если на то не было никаких причин. Нельзя винить в этом родительскую любовь – как Создатели, воплотившие лучшее из своей вечности в глиняном человечке, родители видели во мне, крошечном существе, огромную вселенную, и этим космогоническим фальсификатом в то время ограничивалось их мировоззрение.
Последствия младенческой монархии дали о себе знать в школьные годы. Когда я понимала, что знаю правильный ответ, то тут же вскидывала руку, и, если сосед по парте делал то же самое, я нередко пыталась пресечь, как я думала, посягательство на мой триумф: толкала его, сама тянулась выше или попросту заламывала его руку. Безобидные проказы балансировали на грани с деспотичным желанием. Выливались эти казусы в звонки родителям и попытки навязать мне чувство общности, альтруизма. Наверное, маленькая я была образцовым антонимом коммунистическому мышлению, ведь еще до поступления в школу, находясь в подготовительной группе учреждения с емким названием «Ориентир», я сгоняла детей со своего, как мне казалось, стула, который на деле был вкладом моей семьи в общий капитал. Примечательно, что именно так я познакомилась со своей первой подругой, с которой общалась, негласно соперничая, вплоть до третьего или четвертого класса, когда она по независимым от меня причинам решилась перевестись.
Но это отступление. Истина заключается в том, что всех невероятно доконала моя тяга к высшему баллу во всем.
«Я никогда не ругала ее за оценки», – оправдывалась моя мать, когда я, как ей было сказано, разрыдалась на уроке из-за пустяковой двойки за поведение, которую мне в итоге так и не поставили.
И она говорила правду. Никто не знал, почему я веду себя так, как веду, да я и сама не знала. У меня не было повода плакать из-за оценок, мое обучение могло проходить в размеренном темпе, никто бы и слова не сказал. Но внутри меня рос азарт, свойственный лудоману или тореадору, бросившему вызов крупному быку. Мне хотелось быть обязанной. Хотелось превознестись, оторваться от заурядной почвы, и только достижения, пусть даже маленькие, окрыляли меня.
Одним днем после очередного разговора с родителями, в ходе которого они вновь сказали, что мне необязательно лезть из кожи вон ради оценок, что они любят меня за сам факт моего существования, я услышала тихий скрежет. Сначала мне показалось, что исходит он из самого моего черепа, но на деле же что-то беспомощно ворочалось под кроватью. Заглянув под нее, среди клубков пыли и хлебных крошек, которых я намела с избытком, я обнаружила бледный комок. Можно было подумать, что это лежало скопление грязи или подсохшая булочка – моя детская вредная привычка состояла в том, что я иногда складировала недоеденные сласти в укромных местах, – но это было не так.
В тот день Тревога наконец разродилась, и я нащупала то, чему не могла дать названия.
Ее плод.
Прошло немного времени, и из твердой, тесной оболочки, похожей на хитин, появился на свет нежный, полупрозрачный паук, объятый светом ничуть не хуже, чем его величественный придаток – обманчивая многокрылая святость. И тогда тьма, оформившаяся в десятки крючковатых лап, приняла членистоногий зародыш и спрятала внутри себя.
Слабое, растерянное естество пищало, щелкая жвалами, и мглистые образины подкроватного пространства хотели растерзать его, растащить на лакомые куски, сорвав с клювика самый громкий и отчаянный визг.
Я спасла это неотесанное, безобразное создание, потому что тогда во мне впервые заговорила жалость. Еще держа в памяти сюжеты, рисованные кистью темноты, те самые портреты, от которых кровь взрывалась в висках, а горло ссыхалось и заполнялось кислым привкусом, я самоотверженно влезла в логово воображенных ужасов и выгребла из него тот ужас, что был поменьше.
Сейчас, анализируя свое детство через призму прожитых лет, я понимаю, что в нем имели место чувства отверженности и непонятости, которые не могло скомпенсировать безукоризненное принятие. Меня постоянно ставили другим в пример, из-за чего я попросту боялась ударить в грязь лицом и потерять титул, коим меня наградили слишком рано. Так появилась Тревога, а затем из нее вышло Оно – мое обсессивно-компульсивное расстройство.
Сначала Оно шатко держалось на ногах, и его непропорционально длинные, суставчатые конечности расползались в стороны, как у новорожденного олененка. Это казалось мне забавным, и я с упоением прикармливала его: ритуалы были для меня новшеством; забавой, с помощью которой я могла упорядочить свою рутину.
Оно никогда не разговаривало со мной, и дело было даже не в отсутствии рта: время от времени его дыра проявлялась на шелковой маске лица, скалилась и затягивалась вновь. Мой питомец не был безмолвен, как рыба, но и не тараторил без умолку, как волнистый попугайчик. Аудиотека звуков, издаваемых Им, ограничивалась урчанием, пощелкиванием, задушенным писком и бульканьем. Но Оно, вне всяких сомнений, обладало сознанием и умело думать уже с первого дня своего рождения. Его голос не проникал во внешний мир, а курсировал в запруде моей памяти, бороздил пенистую поверхность, разрубая пушистые волны и оставляя позади пузырящийся след.
«Предположим, существует Вселенная. Она так велика, что твой разум не может представить ее масштабы хотя бы приблизительно»
Именно тогда внутри меня возникла тайна, не обладающая разгадкой и чрез года приближающая меня к экзистенциальному кризису.
«Представь Вселенную, о которой говорят по телевизору»
Тогда я сидела напротив вещающего короба со скрещенными ногами и выколупывала мороженое из бумажного стаканчика.
«Там ничего нет. Просто темно»
«И холодно. Темно и холодно на многие-многие тысячи километров вокруг. А есть наша планета, Земля. В этом пространстве она не больше игольного ушка. На ней живешь ты и твои родители. Но что случится, когда все закончится?»
«Я немного не догоняю»
«Когда вас не станет, Вселенная продолжит существовать, представляешь? Не изменится ровным счетом ничего»
«Погоди… Как это «не станет»? А куда я денусь? У меня же есть мысли, воспоминания. Не может же это просто… исчезнуть. Я же все чувствую, так? Но как я почувствую, что меня не существует?»
Оно перекатилось с бока на спину и полезло к моему мороженому.
«Никто не знает»
«Ну не растворюсь же я? Моя память? Как это… не быть? Просто темнота? Вселенная?»
Я помучила себя этими мыслями, а потом залилась слезами, представив бесконечную Вселенную, в которой нет моих родителей. Когда мама вернулась домой, я подбежала к ней и крепко обняла, уткнувшись зареванным лицом ей в живот. Она еще не знала, что в моем разуме клубком свернулось фатальное чувство неопределенности, которое шевелится во мне даже сейчас, когда я вспоминаю о невыразимом и потому мерзком ощущении «полного отсутствия».
Когда я задаю вопрос, беспокоивший меня в детстве, моим друзьям в настоящем, они отвечают, что «все будет как до рождения», то есть не будет ничего. Я же убеждена, что это не так: до рождения мы не обладаем багажом, делающим нас «нами»; приходим в мир пустыми и безмолвными, как мой питомец. В течение жизни мы обрастаем предметностью: артефактами мировоззрения, привязанностями, мыслями, успехами, мечтами. Но куда денется все это потом? Куда исчезнет мое «Я»? Не будет же мозг, согласно некоторым теориям, просто плавать среди звезд, болтая хвостом из нервных окончаний? Неужели… все пропадет?
А как буду чувствовать себя Я? Не могу же я ничего не почувствовать, когда это случится!
Человеческий мозг может осмыслить и проанализировать самые безумные гипотезы. Мы, связанные единой пуповиной истории, совершили великие открытия, буквально создали науку и размножили ее, разрушили ландшафт нашей планеты и придумали, как излечить его, но мы по-прежнему не можем осмыслить смерть. Смерть – естественный процесс, но она противоречит природе нашего разума, стремящегося к вечности.
В детстве я думала не о тех вещах, о которых следовало бы думать ребенку. Ранние попытки постичь непостижимое, придавшие моим мыслям сложную структуру, сделали из меня ту, кем я являюсь, и позволили моей находке превратиться из «питомца» в «друга», мою внутреннюю тень.
Много лет минуло с той поры. Теперь Оно всегда носит ту же одежду, что и я. Не знаю, что более смехотворно: свитера, которые велики даже мне, висящие на тощей фигуре, как лохмотья – на пугале, или сам факт, что воплощение моей мании стремится мне подражать. Как бы мне ни казалось, Оно не сильнее меня. Скорее, Оно похоже на меня, с той лишь разницей, что облик его есть гипертрофированное сочетание человеческих и монструозных черт прямиком из моих кошмаров. Впрочем, не могу заверить вас в том, что Оно имеет четко определенную форму: она зависит от обсессии, которую мой разум выбирает из разрозненной картотеки переживаний.
Например, я очень часто сверяюсь со временем, особенно когда это касается страха опоздать, а поселился он во мне еще в подготовительном классе, когда не прозвенел механический будильник и моя бабушка, охая и ахая, побежала со мной школу, как если бы приключилось не опоздание, а взаправдашний Армагеддон.
Тогда по всей поверхности хлипкого тела назревают бубоны часов: циферблаты вспухают под мышками, вспучиваются на груди, тикают и потому зудят под ребрами.
Отдельная компульсия – время. В зависимости от дня я выключаю телефон и ложусь спать только тогда, когда вижу на экране, например, 00:21/21 октября/21% или 01:22/26 октября/24%. Комбинации могут быть совершенно разными, главное, чтобы все эти три показателя были либо четными, либо нечетными. Но особое благоговение и успокоение я испытываю, когда вижу на экране три одинаковых числа, вроде 2:22/22 октября/22%. В такие моменты внутри моего мозга словно происходит маленький ядерный взрыв, взрыв удовольствия.
Пока я собираюсь и судорожно хватаю вещи, Оно, с огромными часами на месте пустого лица – обветшалая версия Биг-Бена, стучит стилетом синеватого пальца по одному из циферблатов, и этот стук зудом раздается у меня в голове.
– Мне нужно быть на месте к часу. Если я сяду на электричку, которая идет в 12:07, то успею с запасом, – мои виски всегда болят.
«А ты уверена, что успеешь?»
– Мне идти пятнадцать минут, это точно.
«А если ты ошибаешься? Пять минут могут стать решающими. Помнишь, как ты опоздала на минуту из-за гололеда? Электричка ушла, ты полчаса ждала другую»
Стук всегда становится невыносимым, палец-стилет превращается в стрелку часов, которая буравит мой череп в районе виска, вкручивается в него, словно хочет завести, как игрушку.
– Но сейчас нет гололеда! – я судорожно сверяюсь со временем и понимаю, что снова выйду намного раньше.
«Каково тогда было твоему другу, который прождал тебя почти сорок минут? Он-то приехал с запасом! Наверное, сидел, закатывал глаза, вздыхал…»
– Хватит!
Выход из дома не обходится без ритуалов. Количество взглядов, брошенных в зеркало, кратно числу в календаре. Мои глаза умыты два раза – боюсь, что если не сделаю этого, то в них непременно окажется пыль, а в дороге ее так просто не убрать. Проверив, все ли вилки выдернуты из розеток (страшно представить, что произойдет, если случится короткое замыкание), я засовываю ноги в ботинки: по два или три раза в зависимости от дня.
Да, иногда приходится делать лишнее движение одной ногой, и это всегда оказывается левая. Ненавижу стереотип, что левая рука «от лукавого». Я левша, и так уж вышло, что во всем отдаю предпочтение левой стороне. Неосознанно, автоматически, но это прослеживается и в компульсиях, и в обсессиях.
Когда я все же выхожу из дома, заперев дверь и подергав ее ручку, то обнаруживаю, что успеваю на электричку, идущую в 11:57. Но в вагоне я оказываюсь уже в 11:47 – мне неизменно хватает пятнадцати минут, иногда даже меньше.
Часы перестают тикать, их металлические створки захлопываются, как крылья огромной бронзовки, и моя душа, точнее, неосязаемый комок нервов, блуждающий где-то внутри, успокаивается.
У Него много ролей. Оно мне не просто друг, Оно – мой верный соглядатай; надзиратель, бдящий денно и нощно за покоем моей души. Ключник, чьи ключи не хранятся в связке: каждый из его пальцев отпирает определенную дверь лабиринта в моем сознании. Оно ростовщик, который дает мне чувство надежды в долг. Иногда процент низкий, а иногда так высок, что впору обанкротиться, но, к счастью, Оно зарится не на мои финансы, а на банк моих сил, хотя я бы еще поспорила, что из этого хуже. Если я не даю ничего взамен, то не видать мне упоительных сокровищ, зовущихся расслаблением и покоем; то ключи ржавеют и не отворяют двери моего рассудка, отчего мысли копятся, пухнут, сыреют, как картофель в затопленных погребах. Но надзирает Оно всегда, потому что знает, каков будет исход, и для Него конечная точка всегда представляется упоительной: я сдаюсь, делаю то, что должна, и получаю все, чего желаю в краткосрочной перспективе, здесь и сейчас. Я получаю покой, но этот покой не имеет ничего общего со спокойствием. Чувство, выданное под залог, похоже на удовлетворение, но не сравнится с ликованием или жаждой триумфа. Это опиумное расслабление на грани с забвением, которое заставляет Тревогу, сухощавую и безликую, но с сотней скалозубых ртов, замолчать.
Время от времени мне интересно наблюдать за тем, как Они ссорятся. Мое личное чудовище, провозглашенное спасителем, встречается со своей уродливой матерью, и между ними на частотах, не доступных человеческому слуху, начинается оживленный спор.
Тогда я смиренно наблюдаю. Сяду на краешек дивана, знобко сведу колени, подопру голову руками и, прислушиваясь, смотрю, как полчище ртов, расположенных на лиственном гобелене пожухлой кожи, беззвучно открывается, лает, а мой несчастный друг, почесывая согбенный хребет, жестикулирует ветвями невообразимо длинных рук. И с каждым взмахом они становятся все длиннее, пока их локти не упираются в стену позади него, а предплечья, согнутые под прямым углом, не начинают тянуться вперед, к окну.
Мне очень хочется, чтобы Они молчали, потому что иногда за их препираниями я не слышу собственных мыслей. И тогда Оно, приструнив Тревогу, достает счеты: подгребает их длиннющей рукой, способной загнуться в квадрат из-за множества ложных суставов, и примеряет роль Счетовода, а то и Математика, вполне логичного и невероятно циничного.
Все мои компульсии, т.е. навязчивые действия, завязаны на обсессиях, т.е. на повторяющихся мыслях, которые, в свою очередь, связаны со счетом. Я постоянно считаю – это не самая распространенная, но тем не менее часто встречающаяся привычка у людей, знакомых с Ним.
Оно не имеет лица, поскольку многолико. Под тинистой вуалью его волос пульсирует, колышется переменчивая пустота, но она не имеет ничего общего с черной дырой: это не кратер, оставленный дробью, и не раскуроченный водоворот плоти, а белый лист со скупыми наметками глаз, который обретает черты в зависимости от обстоятельств.
Поэтому, когда мне тревожно, на фарфоровом блюдце Его лица проявляются числа. Они похожи на пятна Роршаха: смолистые, вязкие цифры перетекают друг в друга чернильными кляксами; двойка преображается в четверку, четверка – в восьмерку. Оно обожает восьмерки, любовно обводит их круги когтем, намекая на бесконечность моей участи. Поэтому я тоже люблю восьмерки: Оно вынуждает их любить.
И все же мой избирательный мозг пошел дальше простого счета: он выстроил собственную систему компульсий, количество которых зависит от того, является номер дня в календаре четным или нет.
Мои любимые числа, к которым я невольно подвожу все свои действия – 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13.
1 – самое прекрасное число, потому что все мои компульсии сводятся до единицы. Я живу в привязке к этому числу в дни, выпадающие на 1, 11, 21 и 31 каждого месяца. Начало каждого месяца, самое первое число, – эйфория для меня и моего сознания. Тот единственный день, когда я могу почти ничего не делать.
2 – компульсий всего на одну больше, чем в первом случае. Но иногда они могут закольцовываться.
«2 это половина от 4, 4 – 2х2, соответственно, мне следует сделать эти действия два раза по два», – думала я в особо нервные дни, поправляя, перевешивая одежду до ломоты в запястьях, пока Оно ходило вокруг меня, растирая крюки артритных рук.
Нередко счет доходил до 8, до 12. Двенадцать повторений вытекали из жалких двух, когда мой мозг был перегружен.
Я очень стараюсь этого не допускать.
4 – самое любимое число, на нем основывается вся система счета. Если двойка может закольцеваться, то с 4 все намного проще – четыре это и есть четыре, неделимое звено, отправная точка. Испытываю ментальную разгрузку, когда счет на 4 выпадает на календарные значения, кратные четырем.
8 – четверка, помноженная на два. Ощущение законченности и того, что, выполнив один компульсивный цикл, мне не придется совершать другой. Довольно утомительная цифра, но по ощущениям более приятная, чем 2. В основном «живу по ней» шестнадцатого и двадцать восьмого каждого месяца. Иногда восьмого, но в основном этот день относится к двойкам или четверкам.
5, 9, 13 – расчет в этом случае таков: (четное число) + 1, т.е. 8 (четное число) + 1; 12 (четное число) + 1, что дает мне право на ошибку при счете. Если я обсчиталась и забыла, на чем остановилась, а мне очень нужно четное число (12, например), то я мысленно использую эту единицу и думаю: «О да, вышло либо нужное число, либо 13/либо 9»
Применительно к 9, единица, добавленная к восьми, в этом случае дает ощущение законченности. Я могу сделать три цикла по 8, но заключительный, четвертый цикл будет 8 + 1, так как единица, грубо говоря, ставит точку в компульсивной петле. То же самое с 4 и 5 – пятерка воспринимается не как нечетное число, а как четное с правом на ошибку/итоговое.
Насчет цифры 7 – она мне просто нравится. Обожаю 21 число в календаре.
Но я ненавижу звук, с которым Оно передвигает шарики на счетах.
Бывают спокойные дни, когда мы не донимаем друг друга. Обычно это выходные, то есть дни, когда мне, согласно утопическому нарративу, необязательно «быть успешной»: дни без экзаменов, важных встреч и т.д. В этих случаях мне нет нужды выполнять ритуалы, чтобы, привожу цитату прямиком из свода внутренних правил, «обеспечить себе удачный день». Этот кодекс высечен на моем мозгу стилетом бледного пальца, которым Оно в дни покоя и смирения помешивает Латте макиато в отражении моей любимой кружки, пока я выскабливаю из своей – такой же, но реальной – молочную пену чайной ложкой. Точно так же, как Оно время от времени выколупывает из меня силы.
– Вот бы всегда было так, – я запрокидываю голову и выпиваю то, что осталось на самом дне, под облачком пены.
Оно кивает, потому что на самом деле хочет мне счастья, просто не знает, как иначе обеспечить мне покой. Его пакли, черные и липкие, как клок волос из слива, елозят по столу, ниспадая на пустоту вместо лица.
В такие моменты я всегда испытываю по отношению к этому существу чувство, похожее на сострадание, но присовокупленное к жалости, а жалость и сострадание, вопреки всему, вещи разные. Мы сострадаем близким людям в тягостные мгновения жизни, жалеть же принято тех, кто убог и кто ничего не может изменить. Жалость – почти всегда скверное чувство, признающее и закрепляющее поражение того, кому оно адресовано. Глядя на мертвенно-белую корягу, на этого дистрофичного горбуна с бусинами рудиментарных глаз, запрятанных где-то там, под волосами, я прихлебываю смесь двух этих чувств, и она горькая, как пустая вода с кофейными зернами. Оно часть меня, присная и верная часть, но Оно же мой недуг, хворобная, увядающая частичка моей души, на которую мне порой мерзко смотреть.
Это как животный зародыш с врожденными аномалиями, как растение с тлей, как грязь в низовье штанин любимых джинсов… Что-то несущественное, но досадное. Недоразумение.
Допив кофе, я занимаюсь своими делами, изредка поправляя то, что неровно лежит. Мы почти достигли взаимопонимания: Оно дает мне передышку, я не игнорирую его присутствие, тем самым не причиняя боли нам обоим. Но так было не всегда.
Тревога питает Его, вскармливает Его кашицей моих чувств, пережеванных множеством ее ртов. Когда я готовилась к сдаче экзаменов, чтобы перейти из школьного звена в студенческое, она отъедала от меня по куску ежечасно, так что бывало, что к концу дня от ясности моих мыслей оставались жалкие крошки. Чем больше поглощала Тревога, тем разнообразнее, жирнее становился Его рацион.
Если я не слушаюсь Его и не потакаю его жажде, Оно, вечно голодное, обретает самую страшную свою форму – облик гротескного палочника. В его впалом брюхе нет желудка, там разверзается желчным космосом черная дыра.
Если не бросать в раззявленную пасть время и силы, Оно начинает пожирать само себя: живот втягивается внутрь, обрисовывая мешки расплывчатых внутренностей и вершки хребта; плоть истончается и делается почти прозрачной, как стеклянные рыбки – мечта аквариумиста. И мне тоже становится плохо, когда я решаюсь ему противостоять: мое тело охватывает нестерпимый подкожный зуд, у которого нет источника; эта чесотка перебирается по нервам, струится по сосудам, роем жгучих искр кружится в голове, но я уговариваю себя сдержаться. И тогда Оно, рассерженное и застигнутое врасплох, является, как делирий – алкоголику, как передозировка – любителю опиоидов. Это не имеет ничего общего с галлюцинациями: Оно влияет лишь на физическое состояние, мой рассказ же представляет собой проекцию моих чувств, обличенную в образы для лучшего понимания читателей. Но облик Его отчасти видим: этот образ явился ко мне в приступе сонного паралича, и с тех пор Оно носит эту уродливую маску, вылепленную в гончарной мастерской моих кошмаров.
Определенное количество раз я: открываю и закрываю пенал, поправляю тряпочку для очков (обязательно должна лежать ровно), кладу очки в футляр, придвигаю стул к столу, поправляю настольную лампу (чтобы стояла ровно) и подушку (чтобы ровно лежала), поправляю шторы, дергаю ручку двери, мою руки (многие считают это маркером ОКР, но в моем случае это самая безобидная компульсия), вешаю куртку и джинсы (обязательно ровно), поправляю ботинки (тоже должны стоять ровно и в определенном месте), мою голову, расчесываюсь, делаю круговые движения щеткой, умываю лицо, надеваю ботинки (т.е. сую и высовываю ногу обратно), проверяю будильник на телефоне, настраиваю на нем громкость, блокирую телефон.
Вы, скорее всего, уже устали, только прочитав этот перечень. А теперь представьте, что иногда на исполнение всех пунктов у меня уходило по два часа перед сном.
Оно изводило меня до червоточин под глазами, до воспаленной синевы на щеках, и однажды я все-таки решилась сказать «Нет».
Мои пальцы застыли над футляром, и я заметила, как трясется моя рука. Тогда я не глядя сунула в него очки и небрежно отбросила его прочь.
– Хватит, – пальцы одной руки обняли запястье другой, я прижала кулак к груди и опустила голову, прислушавшись к возне за моей спиной.
Свитер, нахлобученный на Него, был точной копией моего свитера, вот только висел на фигуре призрачного дистрофика шерстяными лохмотьями, и жерди бледно-серых, замшелых рук торчали из широких рукавов, как перекладина – из плеч соломенного чучела; Оно тряслось, изнутри терзаемое злобой, и был его безмолвный рев оглушительнее животного крика. Черная паутина липла к вытянутому черепу; под ней, разрывая венозное полотно кожи, открывался круглый, смехотворно маленький рот, из которого вырывалось шипение.
«Сделай это, пожалуйста», – взмолилось оно.
Я отказалась.
И тогда оно начало расти.
Шея обмякла и вдруг вознеслась кверху, как костяное лассо; голова балансировала на ее мягком конце, и открывшееся мне зрелище было похоже на безумную фантазию таксидермиста: лебедь, скрещенный с человеческой мумией.
Руки внезапно рухнули вниз и вытянулись до пят, тряпичными мотками поползли вперед, карабкаясь по полу длинными мосластыми пальцами, в которых не сосчитать было фаланг: они конвульсивно дергались, шли зигзагом, заламываясь в нескольких местах сразу.
– Мне просто нужно выспаться.
Оно ползло. Тарахтело вытянутыми костями, и кожа не прилегала к ним плотно, а наползала, точно прохудившийся чулок. Она морщинисто слоилась, стягиваясь в месте сгибов, и распрямлялась, когда Оно разгибало позвоночник с бессчетным множеством вершин.
«Если ты просто ляжешь спать, день пройдет неудачно. Ты хочешь этого?»
Я зажмурилась от мокрого тепла в висках. Внутри моей головы происходила адская баталия между одержимостью и здравым смыслом: вспухали и тут же лопались бубоны разрозненных мыслей, затем они летели вперед, превратившись в снаряды, и взрывались, распространяя хворь со скользкими осколками.
Между шейных позвонков будто вставили спицы. Захотелось похрустеть шеей, заворачивая ее к плечам. Однажды я целый год щелкала ею, потому что безобидная разминка, как-то раз опробованная мной на уроке, превратилась в пагубную привычку: сначала четыре раза на каждую сторону, потом – по восемь. В те страшные дни я напоминала невротика, и только мышечное жжение в шее заставляло меня расслабиться. Эта компульсия пропала так же неожиданно, как и возникла, но не ушла в прошлое насовсем.
Пожалуй, самым страшным является то, что, рассказывая об этом сейчас, спустя долгие годы я ощущаю потребность пощелкать шеей, чтобы вспомнить, каково это. Но я знаю, чем может обернуться секундная поблажка. Курок будет спущен.
Оно пощелкало змеей костлявой шеи, помотало ею из стороны в сторону.
Под ее тонкой, словно бумажной кожей перетекала, вспучивая плешивую шкуру, живая мгла. Тощий силуэт дышал хрипло и влажно, распираемый изнутри разросшимся средоточием злобы.
Гипертрофированная образина – монументальный хранитель рутины и порядка – тащилась по полу, и вслед за ней, за атрофированными отростками задних лап, тянулся склизкий, источающий зловоние след. Крючковатые, размером с мое предплечье когти срывали блестящие половицы, оставляли царапины на ламинированном покрытии.
Количество раз зависит от календарного дня и психоэмоциональной нагрузки. А еще от важности предстоящих планов – чем они серьезнее, тем больше компульсий и обсессий возникает на фоне волнения.
В лобной доле что-то зашипело, зацарапалось дико и яростно, заговорило неразборчиво. Я никогда не пыталась вслушиваться в навязчивый шепот. Порой из недр рассудочной табакерки выползало нечто отвратительное. Тени и образы, схоронившиеся в фантазиях, перекидывались на серую бытность, мелькая на периферии зрения.
«Сейчас тебе сломают пальцы», – прорычало пробуждающееся сознание. Оно захрипело, ощерило кривые зубы в пугливой тьме.
«Пускай», – подумала я, посчитав, что даже трещины в костях были ничтожной платой за уверенность, даруемую душе и телу.
На самом деле я боялась боли, а еще боялась узреть дребезжание костей в наполненных кровью мешочках, ошибочно названных пальцами. Но мне не было страшно, когда я изо всех сил наступила ногой на бледную ласту его руки. Белые осколки впились в сухожилия, лишив кисть прежней подвижности. Оно завопило, и все оказалось таким простым и очевидным, что я попросту разучилась бояться.
Я не жалую людей, но отлично лажу с чудовищами – существами, которых многие не в состоянии понять, как и меня.
Несколько лет назад мне удалось приручить моего личного монстра. Оно съежилось до размера котенка и ныне пробуждается лишь перед особо важными событиями, больше не требуя от меня неукоснительного соблюдения всех правил. Выбиты из рук счеты, раздроблены пальцы-ключи, перебиты глаза-циферблаты. Явленное мне беспомощным комком, Оно вернулось к этому первозданному облику, потому что я научилась брать контроль над своей жизнью, и Оно, поняв, что источник кормления иссяк, начало ослабевать.
Я пью кофе в одиночестве, привычно помешивая молочную пену, а Оно, посветлевшее, крошечное, почти что призрачное, ластится ко мне, как к хозяйке, трется о мою ногу своей уродливой тушей и даже издает какие-то звуки, похожие на мурчание. Это бульканье глотки, упирающейся в отсутствие рта.
Мой питомец таков, каков есть. Точнее, это я называю Его питомцем для удобства повествования и внутреннего успокоения, когда как в реальности именно я сидела у него на поводке, смиренно исполняя ритуал за ритуалом. Сейчас Оно почти всегда пребывает в состоянии дремоты и с каждым днем становится все слабее. Я знаю, что рано или поздно Оно уйдет, как полагается питомцам, чей век недолог. Вновь свернется бледным комком, умещающимся в моей ладони, а я положу его в незримую коробку и уберу на самую дальнюю полку идейной кладовой, где Оно схоронится. Крошечная часть Его останется со мной навсегда, я знаю об этом, останется как красная нитка на руке или как половина парного кулона на шее. Но когда-нибудь мы простимся окончательно, потому что Оно уже исполнило свое предназначение: научило меня контролировать жизнь – тот небольшой промежуток между темнотой начала и тлеющим светом конца.
Спасибо Ему за это.
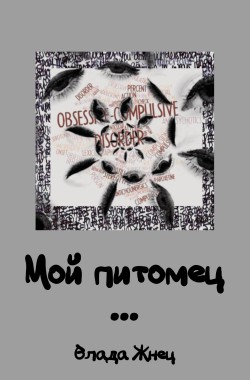





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

