Читать онлайн "Аркадия"
Глава: "Аркадия"
Андрей Столяров
АРКАДИЯ
Глава 1. Лес
На седьмой день пути исчезают Ракель и Азза. Это странная пара, состоящая из двух девушек, как в зеркале, отражающихся друг в друге: обе черноглазые, черноволосые, с отчетливыми косыми скулами, невысокого роста, хотя телесно Ракель чуть крупнее. Наверное, генетические близнецы. Обе неразговорчивые, за неделю почти не было слышно их голосов. Не общались они даже между собой, разве что, как телепатемами, обменивались мгновенными взглядами. Непонятно было, почему Эразм их объединил. Другие пары формировались по принципу гендерного дополнения: Барат и Сефа, Петер и Семекка, наконец – Дим и Леда. И непонятно было, зачем он вообще включил их в состав экспедиции: какая от них может быть польза?
Впрочем, Эразму виднее.
В этот день, судя по координатам, которые непрерывно рассчитывает Раффан, они достигают точки, где пропала предыдущая группа. Отсюда она в последний раз выходила на связь. Для этого им приходится углубиться в лесную топь: черная жижа земли, куда нога погружается по щиколотку, мертвые скелеты деревьев, в гнилостных, осклизлых лишайниках, свисающие с ветвей полотнища чуть колеблющейся паутины, на которой, вцепившись, сидят крупные, с ладонь, коричневые пауки, следящие за ними бусинами малиновых глаз. Раффан говорит, что это, вероятно, мутанты; биота в последние годы трансформируется с фантастической быстротой. Хотя также не исключено, что это популяция охранных киборгов: прикрывают некую территорию, куда чужим вход запрещен.
- Хорошо бы их вскрыть, посмотреть анатомию. Но – рискованно…
На карте ни топи, ни пауки, конечно, не обозначены. Эразм неоднократно предупреждал: карта устарела, последний дрон, сканировавший окрестности, сдох лет двадцать назад.
И – никаких следов предыдущей группы.
Привал они устраивают на относительно сухом пригорке, покрытом щетиной остролистой травы. Глотают тягучую массу из пищевых тюбиков, запивают ее водой со вкусом дезинфицирующих таблеток. Все выдохлись после целого дня ходьбы, проваливаются в сон, как в обморок, нет сил даже развести костер, а когда, разбуженные прикосновением солнца, они открывают глаза, выясняется, что ни Ракели, ни Аззы на пригорке нет. Лежит в отдалении их общая плащевая накидка, покоятся в изголовье ее два скособоченных, в пролежнях рюкзака, следы ботинок, отчетливо различимые в жиже, уходят за паутинные полотнища.
- Выманили, наверное. Надо было отойти подальше, - цедит сквозь зубы Раффан. Оборачивается. – Никто во сне голосов не слышал? Ни у кого не появилось желание двинуться туда, в глубь?..
В ответ – молчание.
- Ладно… – он вскидывает ружье дулом кверху.
Выстрел звуковой волной подбрасывает над деревьями пару птиц, с треском крыльев уносящихся прочь.
Более ничего не происходит.
Нет, все-таки происходит: пауки, очнувшиеся от дремы, перебирая лапками, устремляются вниз, к земле.
- Быстро!.. Уходим!..
Они подхватывают рюкзаки и, спустившись с пригорка, бегут по жиже, чавкающей под ногами. Правда, бегом это назвать нельзя, разве что – натужной трусцой: бежать по-настоящему не позволяет груз на спине. К счастью, пауки их не преследуют, останавливаются, видимо, просто отгоняют от охраняемой зоны. Через некоторое время Раффан, задающий темп, переходит на умеренный шаг, а еще примерно через километр объявляет короткий отдых.
Около получаса они бессильно лежат, приходя в себя, медленно успокаиваясь, уставясь в небо, где равнодушно ползут мелкие кудрявые облака, лишь потом Семекка приподнимает голову и спрашивает:
- Пауки… их загипнотизировали… да?
- Не знаю, - отвечает Раффан. – Возможно, и так. А возможно, что это из-за отключения чипов: меняется нейродинамика мозга, в новой конфигурации он стабилизируется не сразу, могут возникать разные психические аномалии.
Успокоил, думает Дим.
- У нас тоже могут возникнуть? – голос Семекки прерывистый.
Актуальный вопрос.
- Надеюсь, что нет…
- Мы… их… будем искать?..
Пауза повисает над ними, как тяжелая пелена.
Наконец Раффан отвечает:
- Слишком опасно… Раз уж они не выбежали на выстрел…
Он не договаривает.
Это как будто служит сигналом. Сначала садится Сефа, за ней – порывом – Барат, и говорит, придавливая взглядом и голосом тоже приподнявшегося Раффана, что им следует возвращаться. На исходе еда, на исходе таблетки для обеззараживания воды, они идут уже целых семь дней, никаких следов Гелиоса не наблюдается. А ведь по расчетам Эразма через неделю они должны были выйти на городские окраины.
- Мы либо сбились с пути…
- Либо никакого Гелиоса не существует, - заканчивает его мысль Сефа.
Раффан не торопится отвечать. Он сперва устраивается поудобней, приваливаясь спиной к чешуйчатому стволу сосны, обводит всех внимательным взглядом, и вдруг становится ясно, что Раффан тоже смертельно устал: обвисшие щеки, темные мешки под глазами, дыхание сиплое, будто пересыхают внутри горловые хрящи.
Голос, тем не менее, тверд.
- Ребята, послушайте, - говорит Раффан. – Мы идем почти вдвое медленнее, чем планировалось. Предполагалось, что мы будем проходить километров по тридцать в день, может быть, даже по тридцать пять, а мы едва-едва осиливаем по двадцать. Никто в этом не виноват. Дорога оказалась труднее, чем мы рассчитывали…
А мы сами оказались слабее, думает Дим, Раффан этого не говорит, но подразумевает.
Он вспоминает кошмар этой недели. Как Ракель почти сразу же стерла ногу и, несмотря на пластырь и мазь, два дня хромала, вынуждая всех примериваться к ее ковылянию. Как у остальных непрерывно накапливалась усталость – забивая мышцы, наполняя их отягощающим чугуном: не сравнить с усталостью на подготовительных тренировках, Раффан был вынужден делать привалы каждые два часа. Как они попытались перейти на природную пищу, Барат подстрелил грузную, двухголовую белку, почему-то даже не попытавшуюся убежать, и они с ужасом наблюдали, как она бьется в агонии, а потом, поджарив ее на костре, с таким же ужасом и отвращением смотрели на полуобугленное, полусырое мясо: как можно есть живое, пусть даже убитое, существо? Аззу вытошнило почти сразу же, за ней – Семекку и Петера. Остальных, в том числе Дима, долго мутило.
- Привыкнем, - неуверенно обнадежил тогда Раффан.
Все же повторять этот эксперимент они пока не решались.
А еще – ночевки в лесу. Смыкалась тьма, и начинали проступать в ней непривычные звуки, в Аркадии таких нет: какие-то шорохи, будто кто-то подкрадывается к ним сквозь кусты, какие-то дробные костяные пощелкивания, какое-то прерывистое дыхание, и вдруг – крик или стон, вспарывающий сознание. Дрожь пробегала по телу. Первые две-три ночи они почти не смыкали глаз. Потом, конечно, усталость взяла свое, и все-таки даже сегодня Дим пару раз, пробуждаясь, подскакивал, вздернутый адреналиновым всплеском. Темнота была равнозначна угрозе. Костер, стреляющий искрами, лишь подчеркивал ее непроницаемую враждебность. Невозможно было привыкнуть к этому. Нисколько не похоже на те приключенческие сериалы про Дикие Земли, которые транслировались по сети. В такие минуты ему, как, впрочем, и всем, остро не хватало Эразма: не с кем посоветоваться, некого спросить и получить в ту же секунду простой и ясный ответ. Беспомощные, беззащитные, глухие, слепые, тычемся непонятно куда.
Хорошо еще, что у нас есть Раффан.
Тот в это время терпеливо вздыхает и говорит:
- Все полисы создавались по одному и тому же технологическому образцу. Расхождения, если и появились позже, то, я полагаю, были не принципиальные. Далеко они разойтись не могли. Раз существует наша Аркадия, то и Гелиос тоже должен существовать. Он, разумеется, мог погибнуть, например, от какой-нибудь эпидемии, если ему фатально не повезло, он мог пасть под ударами троглодитов, мы такую вероятность тоже учитываем, но он не мог исчезнуть бесследно… Ребята, поймите… Мы все устали, у всех депрессия, я знаю, нам трудно, кажется, что сил больше нет, однако, прошу вас, вспомнить, о чем говорил Эразм. Ситуация сложилась критическая. Мы не имеем права вернуться ни с чем…
Сефа вздергивает подбородок:
- Эразм говорил не так. Эразм говорил, что даже если вы не дойдете до Гелиоса, то – ничего. Вы вернетесь и принесете ценную информацию об окружающем мире. Собрать информацию – вот какую задачу поставил перед нами Эразм…
Теперь садится Семекка:
- Мне он этого не говорил.
Петер подтверждает:
- Мне – тоже.
- И я этого не слышал, - неожиданно для самого себя заявляет Дим.
Но Сефу так просто не сбить.
- Значит, он имел в виду только нас. Правда, Барат? Мы с Баратом должны вернуться и принести сведения, которых Эразм ждет.
Барат послушно кивает.
Еще бы он не кивал.
Дим очень не к месту думает, что почему-то во всех их парах командуют женщины. Сефа мгновенно подчинила себе Барата, хотя он вдвое или даже втрое сильнее ее, Семекка по-хозяйски покрикивает на Петера, и тому даже в голову не приходит ей возразить, а он сам безоговорочно выполняет распоряжения Леды, стоит той обратить на него свой пристальный, оценивающий взгляд. Кстати, и Нолла до этого им тоже командовала. Деградация игрек-хромосомы, матриархат, как-то, на тренировках еще, вскользь заметил Раффан. Все возвращается на круги своя…
Додумать эту мысль он не успевает. Раффан резко поворачивается влево и вскидывает растопыренные ладони:
- Тихо!
Доносится приглушенный расстоянием треск. Верхушка сосны на ближайшем к ним склоне судорожно вздрагивает, подпрыгивает и валится, точно выдернутая из земли. Через мгновение выныривает над кромкой леса чудовищная, продолговатая, как паровоз, морда механозавра. Еще шаг и становится видна его металлизированная спина, на которой двумя боковыми горбами уложен ракетный комплекс. Механозавр обращает морду в их сторону, блики солнца ярко вспыхивают в его плоских, разделенных на фасетки глазах.
- Ложись! – горячим шепотом приказывает Раффан. Машет рукой. – Отползаем вон к тем кустам!.. Рюкзаки, рюкзаки тащите с собой!..
Кусты реденькие, укрывают их плохо. Дим, вжимаясь всем телом в узлы твердых корней, буквально чувствует, как пробегают у него по спине волны сканирования. Или это глюки, рожденные горячим испугом? Механозавров он до сих пор видел лишь в том же сериале про Дикие Земли, а еще – на цветных иллюстрациях, которые распечатал для них Эразм. Причем Эразм полагал, что механозавры для людей не опасны: они ориентированы на комплексы укреплений или на других механических монстров. И вообще все завры уже давно вымерли: тупик эволюции, слишком нерациональная форма жизни.
Значит, Эразм тоже иногда ошибается?
Чуть приподняв лицо, он видит, как эта нерациональная форма жизни, колеблясь сочленениями, покачиваясь на тумбообразных ногах, пересекает прогалину, взмахивает шипастым хвостом, метров тридцать длиной, который, точно былинки, сносит пару деревьев, а затем, как бы погружаясь в небытие, спускается по противоположному склону.
Уф-ф-ф… Пронесло…
Раффан сразу же поднимается, счищая с себя налипшие веточки, иголки, листву.
- Все. Движемся дальше, - командует он.
Так проходит у них день седьмой.
А еще через сутки они замечают, что их преследуют волки.
К тому времени Черный Лес, как Дим его про себя окрестил, остается уже позади, глухота чащоб отступает, во все стороны, насколько хватает глаз, простираются кочковатые мшаники, кое-где поросшие чахлыми сосенками и березками. Вероятно, бывшее болото, поясняет Раффан. Здесь, конечно, гораздо спокойнее. Почва мягкая, пружинистая, сухая, светлое пространство, создавая иллюзию безопасности, просматривается насквозь. Только изредка, мелькают над головой мелкие птахи, да сгущаются прямо из жаркого воздуха облака мошкары – не кусается, что уже хорошо, но непрерывно, уныло и противно жужжит. Приходится отмахиваться от нее ветками. Зато начинают попадаться поляны, сплошь сизо-черные от множества водянистых ягод. Раффан разжевывает одну из них, ненадолго задумывается и объявляет, что – это съедобно. Через полчаса языки и губы у всех будто вымазаны чернилами, сперва – паника, но Раффан опять-таки объясняет, что опасности нет: красящий, да, но совершенно безвредный сок. А затем во мху обнаруживаются грибы: крепенькие, темно-песочного цвета, с толстыми замшевыми шляпками. Теперь уже Леда говорит, что они съедобные, и Раффан, отломив ломтик шляпки и пожевав, соглашается с ней. На привале они варят из грибов густую похлебку, вкус у нее необычный, но никого не тошнит, напротив, появляется наконец приятное ощущение сытости. Паста из тюбиков – это ведь не еда.
Дальше они идут уже веселее. Даже рюкзаки, еще недавно казавшиеся неподъемными, теперь не так давят на плечи. И тут, впервые за все время пути, до Дима внезапно доходит, насколько огромны земли, лежащие за пределами их полиса: леса с тысячами деревьев, конца-края им нет, поляны, луга в травах и ярких цветах, стаи птиц, мириады копошащихся насекомых –ошеломляющий калейдоскоп разнообразных видов и форм. Это обрушивается на него как откровение. Не сравнить кукольной ухоженностью Аркадии. А ведь, судя по картам в географическом атласе, есть еще и моря, простирающиеся за горизонт, есть океаны, водные пространства которых вообще невозможно вообразить.
Это его пугает, и вместе с тем все это – мир, где они, вероятно, могли бы жить.
Мысль странная, но одновременно и будоражащая. Она настолько захватывает собой сознание Дима, что он не сразу замечает, как изменяется местность. Мшаники заканчиваются, теперь под ногами – сухой твердый дерн. Редколесье замещается ельником, который смыкается с обеих сторон мрачноватой колючей стеной.
Раффан, идущий впереди, внезапно останавливается:
- Внимание!
Ружье, висящее на плече, соскальзывает ему в руку. Так же поспешно сдергивает свое ружье и Барат. Лишь теперь Дим видит, что в просвете между двумя дальними елями возник зверь – в серой шерсти, с хвостом, с ощеренной пастью, где снизу и сверху белеют влажные, чуть загнутые клыки.
- Это волки, - не поворачивая головы, негромко объясняет Раффан. – Пока просто стоим… Стоим… Никто не шевелится…
В ту же секунду из-под соседних елей, мягко ступая, выходят пять или шесть таких же зверей и замирают, уставив взгляды немигающих глаз на людей.
Дим содрогается.
В этих желтых неподвижных глазах – древняя голодная смерть.
Прошибает не его одного. Семекка у него за спиной тоненько вскрикивает, а Барат неожиданно вскидывает ружье и, чуть присев, начинает беспорядочно палить в ту сторону:
Бах!.. Бах!.. Бах!..
Ружье у него короткоствольное, легкое, десятизарядное и, почти мгновенно расстреляв магазин, Барат заученным на тренировках движением за полсекунды вставляет новый и тут же возобновляется бешеное:
Бах!.. Бах!.. Бах!..
Вздрагивают еловые лапы. Во все стороны летят ошметья ветвей.
Так – пока Раффан не хватает его за руку и не дергает ее вниз:
- Хватит!
- Я в него попал, попал!.. – хрипит Барат.
На губах его пузырится слюна.
- Достаточно!
- Я попал в него!..
Волки исчезли. В воздухе стоит пороховой запах стрельбы. Все поворачиваются к Раффану.
- Плохо дело, - говорит он. – Теперь они от нас не отстанут…
Глава 2. Аркадия
Бегом я увлекся не сразу. Сначала, как и многие в школьном возрасте, я с головой погрузился в крестики-нолики, на первых порах, разумеется, в детские, стоклеточные, упрощенные, где для победы требовалось выставить пять одинаковых знаков подряд, а в старших классах – уже во взрослые, не имеющие ограничений по площади. Как раз незадолго до этого крестики-нолики были официально включены в состав Больших Ежегодных Игр, вытеснив оттуда шахматы и замысловатую игру в го, аудитории которых снизились до нескольких десятков участников.
Однако для сражений на разграфленной доске или на экране компьютера, если речь шла о зачетных соревнованиях, мне ощутимо не хватало терпения. Мне трудно было усидеть на месте даже те пять минут, что выделялись для обдумывания очередного хода. К тому же учитель Каннело, который одновременно являлся нашим классным наставником, как-то осторожно сказал, что у меня недостаточно развито пространственное воображение: я вижу не перспективу, а лишь конкретную ситуацию, и потому проваливаю даже заведомо выигрышные позиции.
Наверное, он был прав. Физические игры давались мне легче, чем интеллектуальные. Правда, и тут найти себя было не просто. В волейболе, скажем, – это стало вторым моим увлечением – у меня вроде бы получалась неплохая подача, но команда, которую нам удалось, с большим трудом кстати, организовать, в первом же отборочном туре потерпела сокрушительное поражение, и в итоге тихо распалась.
Не знаю, куда я подался бы после этих двух неудач, бродили невнятные мысли попробовать себя в живописи, в музыке или, быть может, в каком-нибудь ремесле, хотя я чувствовал, что никаких художественных способностей у меня нет, но тут тренер Максар, занимавшейся нашей волейбольной командой, обратил внимание на мои короткие пробежки по полю.
- Мяч ты, конечно, то и дело теряешь, - сказал он. – Но рывок к нему у тебя впечатляющий. И хороший темп ты тоже способен держать в течение всей игры. Может быть, тут и стоит работать…
Так неожиданно выяснилось, что бег – это мое. На первой же прикидке, которую тренер Максар провел, я показал достаточно впечатляющий результат, и, что важнее, существенно улучшил его уже через три месяца тренировок. Я как-то очень естественно стал чемпионом школы, а затем, через год, оказавшись по возрасту в категории юниоров, отличился и на квартальных, и на районных соревнованиях. Правда, в последнем случае я победил с громадным трудом, еле-еле, на миллиметры, опередив Зигги, чемпиона прошлого года, но и этого было достаточно для перехода на следующий уровень. Успех в финале района был особенно важен: оба призера их автоматически становились участниками Больших Ежегодных Игр. Я таким образом попадал в десятку лучших бегунов полиса, а это было уже кое-что. Я чувствовал, что начинаю существовать. Тем более что тренер Максар был убежден: нынешние мои результаты – далеко не предел.
- Ты еще не раскрыл по-настоящему свой потенциал, - долбил он мне в темечко, пока я готовился к выполнению очередного комплекса упражнений. – Твоя сила не в одном только рывке, но еще и в таланте выносливости. Пять кругов по Центральному стадиону – это большая дистанция. Далеко не каждый из финальной десятки сможет пройти ее, не сбавляя темпа. Не могу гарантировать, разумеется, что ты станешь первым, но поверь, уже в этом сезоне у тебя хорошие шансы попасть в тройку призеров. Игры есть Игры, тут возможны всякие чудеса. Представь: вдруг Синие в этот раз победят.
Это был актуальный момент. С давних пор Аркадия была разбита на пять крупных районов, получивших названия по пяти основным цветам: Красный, Желтый, Зеленый, Синий и Фиолетовый. Я сам, как и тренер Максар, по рождению был записан в Синий район. Соответствующий знак на одежде я, разумеется, не носил, это было не обязательно, и тем не менее всегда помнил, к какому району принадлежу. Причем учитель Каннело на одном из уроков подробно нам объяснил, что Эразм распределяет цвета зачисления таким образом, чтобы между районами поддерживался гендерный, интеллектуальный и художественный баланс. Согласно базовым принципам, ни один из районов не должен был иметь явных биологических преимуществ. Генный базис следовало формировать одинаково для всех пяти основных цветов. А уж как тот или иной район использует данный материал, как он им – эффективно или не эффективно – распорядится, зависит от него самого. Правда, за последние годы сложилось что-то вроде традиции: Красные большей частью побеждают в физических Играх, Фиолетовые – в интеллектуальных, Желтые и Зеленые, соответственно – в ремесленных и художественных, а вот Синие, то есть мы, уже несколько лет – нигде и никак.
Какие-то мы были отсталые. Какие-то мы были квадратные, ковыляющие еле-еле в самом хвосте. И хотя вслух, разумеется, никто об этом не говорил, но в отношениях с другими районами это проскальзывало. Тата, например, с которой меня для первичной инициации свел Эразм, плела из разноцветных веревочек какие-то идиотские коврики, кошечек каких-то дурацких, собачек, между прочим, не поднявшись с ними ни разу выше квартальных выставок, и тем не менее иногда гордо подчеркивала, что она – из Желтых, то есть – творческий человек, а я – никто, биомасса, лишенная всякого воображения. Меня это, честно говоря, раздражало.
И вот теперь, по словам тренера, у нас появился реальный шанс выправить ситуацию. Доказать, что мы не «квадратные», не «хвостатые», что мы нисколько не хуже других. А претворить данный шанс в жизнь, опять-таки по словам тренера, мог именно я.
Конечно, это была чисто психологическая накачка: Максар таким образом мотивировал меня на победу. И все же брезжило в его словах некое педагогическое прозрение, некий смысл, о котором он сам, возможно, не подозревал. Заключался же этот смысл в том, что никогда я не чувствовал себя лучше, чем во время бега. Стоило мне по выстрелу стартового пистолета сорваться с места, и сейчас же из каких-то темных, из каких-то потаенных глубин, из каких-то источников, не знаю, уж как их назвать, поднималась у меня по всему телу волна жаркой энергии, подхватывающая его и делающее почти невесомым. Казалось, я не бегу, а лечу, едва-едва касаясь земли. И буду лететь так, безо всяких усилий, бесконечно, почти бездумно – до самого горизонта. Это было необыкновенное ощущение. Если и существовало в мире чистое вдохновение в ярком, концентрированном и беспримесном виде, то как раз оно переполняло меня в такие мгновения.
Важно было и то, что данный мой выбор безоговорочно одобрил Эразм.
- Это «эйфория бегуна», - сказал он, - состояние, когда в момент длительного напряжения сил человек вдруг начинает ощущать подъем вместо усталости. Оно связано с особой конфигурацией в твоей нервной системе опиатных рецепторов… Впрочем, ладно… Это редкий, почти уникальный дар, я рад, что у тебя он имеется. Ты, несомненно, нашел себя. Ты определил, для чего ты предназначен. Это главное, что должен обрести человек.
Как я понимаю теперь, в те дни я был по-настоящему счастлив. Жизнь распахивалась передо мной просторами сияющей радости. Во мне пробудилась какая-то чудесная сила: казалось, что ничего невозможного в мире нет. Я взойду на любые вершины. Я достигну всего, чего захочу. Воздух, которым я жадно дышал, обжигал мне легкие. Иначе, вероятно, и быть не могло. Разве не для этого и создавалась Аркадия. Разве не следовала она завету великого Иеремии Бентама: наибольшее счастье для наибольшего числа людей.
Тогда же в моей жизни появилась и Нолла. Возникла она сразу после того, как я стал призером районных соревнований. Меня уже начали слегка узнавать в нашем квартале, что было, конечно, приятно, уже появилась группа поклонников и поклонниц, поддерживавших меня аплодисментами и кричалками на показательных выступлениях (за что, кстати, начислялись социальные баллы; Эразм считал, что таким образом создается позитивная атмосфера), со мной уже просили разрешения сфотографироваться, а потом размещали эти посты в сетях. Нолла же организовала команду чирлидерш или, говоря проще, подтанцовку из девушек, исполнявших перед нашими выступлениями некий дивертисмент – так она его называла. Одежды у девушек были эффектные, музыка бодрая – Нолла подбирала ее сама – и хотя танцевали они пока не слишком уверенно, тренер Максар счел это хорошим признаком. Популярность, как он считал, для спортсмена – один из самых действенных стимулов. Да и я, омываемый шумом оваций и ритмичными, дружными выкриками: «Дим!.. Дим!.. Дим!..», прорезающими ее, чувствовал, что меня как бы подхватывает этот эмоциональный поток и несет, несет прямиком к финишной ленточке.
С Ноллой у меня было совершенно иначе, чем с Татой. Нет, конечно, я Тате был искренне благодарен (как и Эразму, который нас свел). Тата – это было то, что нужно для полноценной инициации. К моменту нашего с ней знакомства она сменила уже семь или восемь партнеров: хороший опыт, разнообразные сексуальные практики – ролики, к которым мне в это время дал доступ Эразм, обрели с ней реальное эротическое содержание. И все же ролики – это было одно, а жизнь – другое. Тем более что у Таты оказались еще и прекрасные педагогические способности. Она целый год проработала в Инкубаторе, где содержались новорожденные перед тем, как перейти в интернат, и, по словам того же Эразма, малыши в возрасте двух – трех лет, ее обожали. В каком-то смысле я был для Таты тоже одним из таких малышей: она научила меня всему, что знала сама.
А вот с Ноллой действительно все было иначе: не просто секс, но, как квалифицировал это Эразм, рекомендовавший нам сойтись поближе, настоящие любовные отношения. То есть – более высокий эмоциональный уровень. Нам было интересно друг с другом. Поразительно, насколько совпадали наши пристрастия. Нолла, как и я, обожала сериал «Дикие Земли», и мы вместе часами следили за удивительными приключениями героев, скитающихся по бескрайним лесам. Переживали за судьбу Айги, которую после всех трагических перипетий удочерило Доброе племя, радовались победам Лотара, бесстрашно сражавшегося с троглодитами, облегченно вздыхали, когда они наконец встретились в старинном замке у озера, и ужасались вторжению в их город кошмарных механических монстров, сконструированных злобным сверхчеловеческим мозгом.
Так же вместе мы посещали множество различных мероприятий – и чисто песенных, организованных местными вокальными группами, где я, говоря откровенно, помирал со скуки, и художественных, танцевальных, которые живо интересовали Ноллу. Чирлидерство было для нее новым занятием. До этого она пару лет увлекалась пением, голос у нее был мелодичный, приятный, но, к сожалению, слабенький, даже на квартальных гала-концертах, она не слишком выделялась среди пестрой кутерьмы исполнителей. Ну и оформление номеров тоже было не очень, честно признавалась она. В общем, бросила и бросила, ладно. А затем почти на полгода, как в омут, вдруг нырнула в Ерра-язык – синтетический искусственный диалект, состоящий почти из одних гласных звуков, его изобрел какой-то фиолетовый гений. Скачала чертову уйму аудиозаписей. Здесь ее успехи были несколько ощутимее, ведь на Ерре требовалось не говорить, а фактически – петь, но тоже не повезло: мода на «лингвистическую синтетику», поначалу вспыхнувшая как пожар, быстро прошла.
Сейчас она внимательно и ревниво изучала выступления других чирлидерских групп, фыркала, если замечала у них ошибки, сжимала алые губы, когда какую-нибудь из команд награждали аплодисментами.
- Мы нисколько не хуже, - говорила она.
Я в ответ обнимал ее и шептал на ухо:
- Вы гораздо лучше… Лучше… Особенно – ты…
Больше всего, как ни странно, нас сблизила мелкая аварийная ситуация. Однажды по общей звуковой связи вдруг забибикала череда резких сигналов, а затем Эразм сообщил, что в юго-западной части полиса, Синий район, замечено проникновение внешней биоты. Никакой опасности для граждан Аркадии нет, успокоил нас он, однако будет проведена локальная дезинфекция. Жителям указанного района от границы с Развалинами до Второго кольца рекомендуется в течение трех часов не покидать жилых помещений.
Нас с Ноллой это не слишком встревожило. Биота, несмотря на три слоя защиты, иногда в полис все же просачивалась. Я помнил, как года четыре назад внезапно пожухла трава вокруг одного из наших озер: ее корни сожрали какие-то микроскопические червячки. Или как несколько раньше, тоже на граничащих с Развалинами домах, вдруг появилась бордовая плесень, впрочем, как тут же выяснилось, не представляющая никакой угрозы. Ее быстро зачистили. Эразм с такими инвазиями справлялся успешно. Сам же Периметр, опоясывающий Аркадию, был, безусловно, надежен. Микрофлору и насекомых он уничтожал или отпугивал мощными ультразвуковыми ударами, крупных животных – таким же периодическим излучением инфразвука, ну а для хищников и троглодитов существовали лазеры, кстати не убивающие, а просто обжигающие кожу, как прикосновение раскаленного утюга. Этого было вполне достаточно. Троглодиты не беспокоили нас уже много лет.
Так что волноваться нам было не о чем. И вместе с тем эти три карантинных часа, проведенных как бы вне остального мира, многое изменили. Не помню, каким образом мы с Ноллой вышли на тему Игр, но она прильнула ко мне и почти неслышно сказала:
- Ты станешь чемпионом уже в этом сезоне… Ты победишь… Я в тебя верю…
Со мной в этот момент что-то произошло. Я, разумеется, знал статистику семейного существования: совместная жизнь пары длится обычно от трех до шести месяцев. Редко кто дотягивает хотя бы до года. Ну а уж если кому-то удается пересечь трехлетний рубеж, то об этой экстравагантной новости вещают в телесетях. Таких пар в Аркадии было не более десяти: три года, более тысячи дней – почти непредставимый для обычного человека срок.
Все это я, разумеется, знал. И тем не менее меня словно прошибло: не три месяца, не шесть месяцев, и даже не три года – у нас с Ноллой это уже навсегда, на всю жизнь, и никакая другая жизнь нам не нужна.
В общем, сейчас трудно в это поверить, но я и в самом деле был счастлив.
Лишь один эпизод несколько омрачил тот период. Примерно через месяц, после того как Нолла ко мне переехала, мы с ней отправились на разборку Развалин. Это были добровольные общественные работы, такие же как воспитатели в Инкубаторе или учителя в пяти наших районных школах. Развалины же образовались в результате трех последовательных оптимизаций, которые в свое время осуществил Эразм. Необходимость их была очевидна: первоначально Аркадия была слишком плотно населена – следствие допущенной еще при проектировании ошибки. Возникла тревожная диспропорция между количеством граждан и ресурсами, необходимыми для того, чтобы обеспечить им нормальный уровень жизни. Поэтому функционирование Инкубатора было временно прекращено, новые поколения вводились в жизнь с определенной задержкой. А разбивка оптимизации на три цикла была призвана смягчить этот процесс: депопуляция происходила медленно, естественным образом, без каких-либо социальных издержек. В общем, жилая зона Аркадии сокращалась, стягивалась к центру города, оставляя за собой пустые дома, которые отключались от коммуникаций и постепенно ветшали.
Сначала демонтажом занимались ремонтные роботы, но затем, по мере выхода их из строя, решено было привлекать к этой деятельности людей. С добровольцами никаких трудностей не возникало. Напротив, многие с охотой занимались разборкой, расчисткой, создавая для этого в своих районах целые коллективы. Работа была творческой, увлекательной, в Развалинах можно было найти и оставить себе массу интересных вещей, к тому же за нее начислялись социальные баллы – и на экзотические пищевые добавки, и на особые фасоны одежды. Но главное – все осознавали ее нужность: расчищенные участки засевались травой, низким плотным кустарником, которые обладали дезинфицирующими свойствами, они препятствовали проникновению в полис внешней биоты, вследствие чего расширялась наша охранная зона.
Так вот, когда мы вместе с танцевальной командой Ноллы обследовали, перед тем как начать снос, трехэтажный обшарпанный флигель, прилепленный к стене бывшего Товарного центра, то оказалось, что он заселен. В одной из комнат его, слегка приведенной в порядок и, кстати, единственной застекленной, чадил крохотный костерок, над ним в прокопченном ведре булькало какое-то варево, а вокруг на тряпье, натасканном неизвестно откуда, расположились несколько человек.
Мы так и застыли.
Это были отказники. Ни я, ни Нолла, ни девочки из ее группы никогда раньше с ними не сталкивались. Отказниками у нас называли тех удивительных индивидуумов, кои, достигнув предельного возраста в шестьдесят пять лет, не отправлялись, как все нормальные люди, в Дом Снов, а предпочитали жить дальше, если, конечно, это можно было назвать жизнью. В центральной части полиса места им, разумеется, не было, отказники либо сбивались в группы, уходили в Дикие Земли и более о них никто ничего не слышал, либо – и таких было довольно много – перебирались в Развалины и кое-как обустраивались там. Одежду они находили в пустых домах, а что касается пищи, то генномодифицированные трава и кустарники, прорастающие и здесь, выполняли не только дезинфицирующие функции, но были также богаты белками, углеводами, витаминами и, как объяснял Эразм, представляли наш пищевой резерв на случай критической ситуации. То есть, существовать было можно. По слухам, отказник, если ему повезет, мог протянуть в Развалинах еще лет пять или шесть.
Я все равно их не понимал. Чипы у отказников были отключены, квалифицированной медицинской поддержки они, в отличие от других граждан Аркадии, не получали, а потому сразу же начинали болеть, причем мучительно, непрерывно и без малейшей надежды на выздоровление. В роликах, которые нам показывали на уроках, это выглядело ужасно и отвратительно. Нолла потом сказала, что не могла на это смотреть. Ну и зачем такие страдания? Кому это нужно – терпеть боль, гниение заживо, мучительное умирание, превращаться в калек с безобразной тканевой патологией, жить при этом в грязи, точно животные, жрать траву, листья кустарников? Не лучше ли уходить из жизни с достоинством как и положено человеку? Ведь существует же спасительная эвтаназия: шагнул в Дом Снов и безболезненно исчез из этого мира. Просто, как хлопок в ладони, тут же поглощаемый тишиной.
Не понимал я этого, абсолютно не понимал. А кроме того, меня, как и многих, возмущало их чудовищное себялюбие, их откровенный, непрошибаемый эгоизм. Эразм уже давно подсчитал, что после шестидесяти пяти лет лечить человека становится намного дороже, чем вырастить в Инкубаторе нового. Содержать престарелых отказников – значит, бессмысленно расходовать наши ресурсы, которые и без того ограничены. Надо же думать не об отдельных людях, но обо всех.
Об Аркадии.
О человечестве в целом.
Так я тогда полагал.
Отказники, между тем, отреагировали на наше внезапное появление: зашевелились, начали без единого слова, правда, покряхтывая и постанывая, подниматься с земли, повытаскивали из-под себя заскорузлые рюкзаки и мешки, побросали туда свои ложки, кружки, какое-то засаленное тряпье и в молчании, даже не затушив костерок, потянулись к выходу – жалкие, непохожие на людей существа, в невообразимых лохмотьях, сквозь которые проглядывали струпья немытых тел. Запах от них исходил такой, что девчонки закашлялись, а я сам задержал дыхание, боясь, что меня стошнит. В нашу сторону никто не глянул. Лишь один, самый последний, чуть повернул ко мне голову, и сквозь морщинистые дряблые веки его блеснула слезная искра глаз.
Меня словно ударило.
Я остолбенел.
А потом закашлялся, как девчонки, чуть ли не выворачивая желудок наружу.
- Кошмар, - прогундосила Нолла, демонстративно зажавшая нос. И подтолкнула меня. – Ты нам тут загораживаешь… Давай!.. Проходи!..
- Это учитель Каннело, - выдавил я.
- Какой учитель?
- Он преподавал у нас в старших классах.
- Ну так и что? – Нолла чуть подтолкнула меня вперед.
- Говорю: он у нас в школе преподавал.
- Ну так и что? – Она опять меня подтолкнула.
Я посторонился, чтобы ее пропустить.
Последний отказник скрылся в дверях.
Смрад выедал глаза.
Мне было не по себе.
Нолла протиснулась мимо меня.
Обернулась:
- Так ты идешь?
- Иду, - сказал я.
Глава 3. Лес
Раффан умирает утром, когда край солнца уже выныривает из-за верхушек деревьев. Точного времени Дим назвать бы не мог: он за ним не следит. Да и никто не следит. Они все сидят вокруг тела, наполовину прикрытого плащевой накидкой, и в смятении наблюдают, как Раффан судорожно и неровно дышит. Каждый вдох – выдох превращается у него в горловой мокрый всхлип, прорывающийся из груди, надуваются и лопаются на губах мутные пузыри. Леда скармливает ему почти треть имеющихся таблеток, поддерживает рукой голову, чтобы он их запил. Это не помогает. Повязки на горле и на бедре Раффана зловеще окрашиваются в багровую мокроту. Остановить кровотечение не удается.
- Ну, сделай хоть что-нибудь, - часто-часто моргая, умоляет Семекка.
Леда с холодным раздражением отвечает:
- А что я могу? У меня весь опыт – из книг. Я ни разу в жизни не видела ни одного раненого, ни одного больного…
Это справедливое замечание. В Аркадии никто никогда не болеет. Эразм через чипы непрерывно отслеживает состояние каждого гражданина и, если требуется, вводит в его рацион необходимые фармацевтические добавки.
Болезни не излечиваются, а предотвращаются.
Так что знания у Леды – чисто теоретические.
Еще слава богу, что есть хоть такие.
День сегодня солнечный, слегка знойный, Воздух над нагретой землей немного дрожит. Пахнет хвоей, смолой, на накидку присаживается бабочка с желтыми крыльями и при первом же вздохе Раффана испуганно вспархивает.
Раффан открывает глаза:
- Не надо ждать, уходите, - шепчет он еле слышно. – Смерть – неприглядна… неряшлива… Вам ни к чему это видеть. – Затуманенные зрачки его обращаются к Леде. – Там, в аптечке, есть упаковка с такими черненькими таблетками, посередине – красный кружок… Дай мне три штуки и уходите…
- Мы не оставим вас, - тем же раздраженным голосом говорит Леда.
И Дим вдруг догадывается, что ее раздражение – это попытка скрыть свою ужасающую беспомощность. Беспомощность и растерянность, охватывающие сейчас их всех.
Как они теперь без Раффана?
Губы у того вновь шевелятся.
- А где эти?..
Дим невольно оглядывается. Волк, который во время схватки вцепился в Раффана, покоится у кустов грудой мятого меха, пасть приоткрыта, высовывается из него тряпка розового языка, земля вокруг потемнела от крови, и уже копошится на ней поблескивающая бахрома насекомых.
- Они ушли, - говорит Леда.
Это, вероятно, не так, но что еще она может сказать.
- Наклонись…
Леда приникает к нему, и Раффан что-то шепчет ей на ухо минуту-другую.
Потом голова его безвольно откидывается на бок.
Леда медленно выпрямляется:
- Все…
Они довольно долго молчат. Звенит жаркая тишина, никто не знает, что делать. Вроде бы умершего положено похоронить, но им кажется дикостью закапывать человека в землю. Поэтому они наваливают на тело ветки и присыпают листьями, собранными на опушке. Семекка кладет сверху сорванный поблизости невзрачный белый цветок.
Во время этой мучительной процедуры Дим тихо спрашивает у Леды:
- Что он тебе сказал?
А Леда также тихо обрывает его:
- Потом, потом… – первая подхватывает свой рюкзак. – Надо идти…
И тут Барат, стоящий поодаль, делает шаг вперед:
- Нет.
- Что значит «нет»?
Голос Леды режет воздух как сталь.
- Нет – это значит «нет». – У Барата дергается раненая щека, выскальзывает из-под пластыря капелька крови и сбегает по подбородку.
- Не поняла…
Тут шаг вперед делает Сефа:
- Мы – возвращаемся.
Застывают, не успев встать с земли, Семекка и Петер. Дим осторожно нащупывает приклад ружья, висящего на плече.
- Спокойно, - говорит Сефа. Ее собственное ружье коротким стволом уже нацелено Диму в живот. – Стойте, где стоите, не шевелитесь. Мы не хотим никому навредить. Мы – просто уйдем…
Дим замирает под взглядом металлического зрачка. Ему кажется, что это все происходит не наяву, а во сне.
Как же так?..
До этого они целый день идут сквозь мшистое редколесье, само по себе безопасное, даже приветливое, легкое для ходьбы. И все было бы ничего, если бы не одно обстоятельство. Кустарника и деревьев тут немного, а потому, стоит оглянуться назад, и становятся заметны пять – шесть серых теней, скользящих в траве. Держатся они на почтительном расстоянии, и все же упорство, с которым волки преследуют их, отзывается вибрацией в каждом нерве. Группа невольно ускоряет шаги. А это сразу же сказывается: усиленной тяжестью начинают давить рюкзаки, пот, просачивающийся со лба, начинает щипать глаза. Особенно нелегко приходится Петеру: он помимо припасов несет еще и портативный сканнер с блоком питания. Эразм считает, что если в Гелиосе удастся подключить этот сканнер к сети, то можно будет определить локализацию электронного мозга. Вообще – выявить тамошнее распределение энергопотоков, это сильно облегчило бы их задачу.
Дим видит, как трудно Петеру, как он задыхается, как ловит губами воздух, как то и дело встряхивает головой, чтобы смахнуть мошкару, щекочущую лицо. Однако ничего – пыхтит, но идет. Семекка тоже, видимо, подстроясь к нему, без жалоб и стонов терпеливо переставляет ноги. И Сефа, хоть скалится, как мурена, морщит лоб, но держится хорошо. Правда, последнее время что-то все больше молчит. Ну а за Леду вообще можно не беспокоиться: шагает так, словно внутри у нее работает компактный мотор, отщелкивающий зубчик за зубчиком, иначе откуда такие силы, вон, она, в отличие от других, даже с интересом посматривает по сторонам. А ведь единственная, кто участия в силовых тренировках не принимал. И, как обычно, очень неплохо идет Раффан: километр за километром – ровно, энергично, неутомимо. Кажется, что у него силы никогда не иссякнут; не подумаешь, что вчера вечером выглядел измотанным стариком. Вот и верь после этого в диагноз Эразма, утверждающего, что после шестидесяти пяти лет человек неизбежно разваливается на части. Или все же права Леда, считая стойкость Раффана результатом внутренней дисциплины, умением сконцентрироваться, действовать несмотря ни на что. Или все же был прав сам Раффан, когда однажды обмолвился, что главная проблема Аркадии вовсе не падение численности населения, но нарастающая физическая анемия: вместо ста пятидесяти килограммов нынешние чемпионы-тяжеловесы поднимают лишь семьдесят пять, бегуны вместо десяти кругов на финальных Играх осиливают теперь только шесть, да и то слышны разговоры, что надо бы сократить их до четырех. Каждое последующее поколение слабей предыдущего.
- Мы все - задохлики, - сказал он тогда. – Мы – элои, может быть, слышал такое слово?
И продемонстрировал распечатку, взятую из Спортивной энциклопедии: результаты соревнований, зафиксированные полвека назад. Цифры выглядели фантастическими. Получалось, что в прошлом люди бегали чуть ли не вдвое быстрее.
Правда, Эразм, к которому Дим немедленно обратился за разъяснениями, заметил, что такое сопоставление некорректно. Спортсмены прошлого – это не спортсмены, а спортивные монстры. Они начинали тренироваться уже с четырех – пяти лет, ежедневно, по многу часов, сидели на специальных диетах, принимали кучу всяких лекарств – и стимулирующих, и стабилизирующих, к тридцати годам у них разваливался метаболизм. Это был не спорт, а фармацевтический бестиарий, соревновались уроды, накачанные допинговыми модуляторами.
Ну и кому из них верить?
Дим не знает.
Каждый раз, когда сталкиваются подобные рассуждения, он словно проваливается в какую-то глубину, где безнадежно захлебывается.
Видимо, верить можно только своим глазам.
А глаза ему сейчас говорят, что, как ни странно, но хуже всего, обстоит дело с Баратом. Казалось бы, самый здоровый, самый выносливый, должен подавать пример остальным, а вот поди ж ты, опять срывается: оборачивается, вскидывает ружье и, даже не целясь, палит по волкам – в белый свет, как в копеечку.
Бах!.. Бах!.. Бах!..
Это уже в третий раз.
Семекка демонстративно зажимает уши ладонями, а Раффан негромко советует:
- Побереги патроны. Они нам еще пригодятся.
И через пару минут, когда Барат успокаивается, объясняет, что это, скорее всего, не волки, а генетически модифицированные овчарки – калебы, выведенные когда-то для службы в армии и полиции. Под выстрел калеб не подставится: хорошо знает, что такое ружье, зато выследит и в ближнем бою – вмиг горло перегрызет. А еще через пару минут добавляет, что калеб может бесшумно снять часового, задержать преступника, прокрасться в расположение вражеских войск и раздобыть ценную информацию. Или пронести туда на себе мину и подорваться с ней в нужный момент.
- Сейчас калебы, вероятно, скрестились с волками, потомство, гибриды их, одичали, утратили большую часть навыков. Все равно – очень опасны.
Семекка вздыхает:
- Что это за мир был такой, где выводили специальных собак, чтоб убивать людей?
Раффан говорит:
- Собаками не ограничивались. Выводили особую породу людей – военных, тоже специально обученных убивать. Да, вот такой был у нас мир…
- А разве этот мир лучше? – вдруг говорит Дим.
Он сам удивлен, как у него вырвалось.
- Хороший вопрос. – Раффан огибает куст, растопыривший ветви с лакированными крючками колючек. – Я думаю так. Сравнивать их бессмысленно. Наш мир не лучше и не хуже, чем прежний, он просто иной.
- Нет! – возражает Сефа. И голос ее ломкий, напряженно-высокий, звуковой молнией вспарывает разговор. – Лучше, хуже!.. О чем вы?.. Этот мир дал нам счастье. Счастье – даром, для всех!.. Никто им не обделен!.. Никто не обижен!.. Такого мира не было еще никогда!..
Она захлебывается от возмущения.
Эта неожиданная вспышка всех озадачивает.
- Если бы еще знать, что такое счастье, - не столько ей, сколько вообще, как бы в пространство, примирительно замечает Раффан.
- Великий Бентам считал…
- Иеремия Бентам назвал счастье величайшей ценностью как человека, так и всего человечества, но что такое собственно счастье, не определил. Лишь указал, что оно – критерий морали. Сводил его к личному преуспеянию, однако не чисто эгоистичному, а увеличивающему сумму общечеловеческих благ. Несколько упрощая: труд на благо других. Правда, тогда возникает вопрос: что есть благо? И сочтет ли другой благом то, что делаешь ты?
- Мы идем к Гелиосу не для себя, - говорит Петер.
Кажется, он впервые подает голос за этот день.
- Да, не для себя, - соглашается с ним Раффан. – Мы идем потому, что иначе Аркадия может погибнуть. А тогда вместе с ней погибнем и мы. Это так называемая вынужденная добродетель, каковая, если присмотреться к сути ее, добродетелью не является. А что касается счастья… Вот, скажи, ты счастлив от того, что идешь с нами сейчас? От того, что можешь погибнуть и от того, что знаешь: даже смерть твоя, возможно, мир не спасет? Ребята, не хочу вас разочаровывать, но помимо счастья есть и другие ценности, не менее значимые. Счастье – это еще не все.
Петер в ответ только пыхтит, и лицо у него такое, будто он уже пожалел, что влез в этот спор…
Волки нападают на них ночью. К тому времени группа располагается на прогалине, часть которой пучится купами низкорослых, видимо, неприхотливых цветов, зато другая, в проплешинах глинистой твердой земли дает хороший обзор. Раффан, тревожно поглядывая на лес, говорит, что сегодня следует заготовить побольше дров для костра, и главное – хотим мы этого или не хотим, придется все же по очереди дежурить. Он и раньше заикался насчет ночных дежурств, но к конце ежедневного перехода все так уставали, что замертво валились и засыпали сразу после еды.
- Ничего не поделаешь. Мы не можем допустить, чтобы калебы застали нас врасплох.
- Думаете, нападут? – спрашивает Семекка.
И, несмотря на жару, зябко передергивает плечами.
- Не обязательно, но надо быть готовыми ко всему… Ничего… Семь часов – каждому как раз по одному часу… Надо непременно следить, чтобы не погас костер. Тут работает древний инстинкт: единственное, чего калебы боятся по настоящему – это огня.
Никто, конечно, не рад. Но ничего не поделаешь. Диму выпадает дежурить вторым, и Барат, которого, видимо, как самого ненадежного Раффан поставил в первую смену, уже через час безжалостно расталкивает его:
- Давай, давай!.. Нечего тут!.. Хватит дрыхнуть!..
Ночь окружает их плотью темной воды. Костер, слабо потрескивая, раздвигает ее всего на несколько метров. Дальше –непроницаемый мрак, где бродят шорохи, то ли реальные, то ли рожденные воображением. Дим подбрасывает на угли пару сучьев потолще и, стараясь, по совету Раффана, не смотреть на огонь, держа на коленях ружье, щурится туда, откуда могут вынырнуть оскаленные волчьи морды.
Пока все спокойно. Издает протяжный скрип какая-то одинокая птица. Что-то ухает длинно и тяжело, но, судя по размытому звуку, где-то на большом отдалении. Костер время от времени выбрасывает вверх фонтанчики искр, и они улетают в тьму неба, как рассыпавшийся отчаянием зов о помощи. И Диму неожиданно приходит в голову, что их экспедиция, начатая неделю назад, это тоже своего рода зов о помощи, обращенный неизвестно к кому, неизвестно куда, в безмолвие времени и пространства. Они сами этого не осознают, но ведь это именно так. Они тоже идут в темноту и, возможно, как искры, тоже погаснут, не получив никакого ответа. И что это должен быть за ответ? Совсем запутался, думает он. Ну почему у меня вырвалось, что наш мир нисколько не лучше? Подсознание? Я ведь в действительности так не считаю. И почему Раффан сказал, что счастье – это еще не все? Он что, отрицает максиму Великого Бентама? И почему так резко, взорвавшись, вклинилась в разговор Сефа, будто что-то зацепило ее внутри и болезненно дернуло?
Вопросы роятся в мозге, как мошкара, неприятно щекочут и, кажется, даже покусывают. Дим встряхивается, чтобы от них избавиться, и вдруг, непроизвольно скосив глаза, видит, что совсем недалеко от него, как бы окрашенный бронзовым жаром костра, стоит волк: морда немного опущена, пасть приоткрыта, в глазах – яркое отражение пламени.
Позже Дим не может восстановить последовательность событий. В памяти крутится калейдоскоп непрерывно меняющихся фрагментов. Кажется, он дико кричит, подскакивает и, еще не до конца разогнувшись, палит в ту сторону из ружья. Кажется, также дико кричит, подскакивает и стреляет Барат. Кажется, стреляет Леда – методично, даже не пытаясь подняться, из положения лежа. Выстрелы сливаются в дробные очереди: бах!.. бах!.. бах!.. которые высвечивают бессмысленные осколки изображений. Мир разбит вдребезги. Невозможно понять, что происходит. Обжигает испуг: мы же так перестреляем друг друга!.. Кутерьма… звериное ворчание… горячее столкновение тел… все перепуталось… не разобрать, где человек, где калеб… Что-то яростное меховое сбивает его с ног. Трещит ткань куртки, когтистая лапа, соскользнув, царапает ребра. Дим бьет в ответ ногами, локтями, упирается головой, освобождается наконец из-под остро пахнущей тяжести, обмякшей на нем, перекатывается, кое-как отползает на корточках, лоб в лоб сталкивается с Семеккой, тоже ползущей куда-то на четвереньках, лицо у нее перемазано кровью, в панике нащупывает потерянное ружье: где оно?.. где?.. черт!.. черт!.. черт!.. да где же оно?.. Ружье почему-то оказывается не справа, а слева. Дим все-таки поднимается на ноги и в двойной-тройной вспышке выстрелов, следующих один за другим, видит, как Раффан, выхвативший из костра веники пылающих сучьев, тычет ими в морды волков, а те пятятся, рычат, припадают, уворачиваясь, к земле, но одновременно взметывается из темноты громадная четырехлапая тень и обрушивается Раффану на спину. Они вместе валятся, образуя несообразную груду, но мгновением позже Леда, так и продолжающая лежать, стреляет, и боковой мощный удар отбрасывает калеба в сторону…
Выясняется, что пострадали они не слишком сильно. Разорваны пара курток, распороты два рюкзака, Семекки и Петера, вещи из них разбросаны и втоптаны в землю. У самой Семекки содрана на руке кожа, но это не укус, это она, упав, проехалась по каким-то твердым корням. Укусы обнаруживаются у Сефы и самого Дима, правда, он так и не может сказать, в каком момент он этот укус получил, а у Барата взрезана и сильно кровоточит щека – Сефа дезинфицирует рану и заклеивает ее пластырем. В остальном же – синяки, царапины, ссадины, их обрабатывают йодом.
Другое дело – Раффан, у него из бедра вырван кус мяса и кошмарно разодрана правая часть горла от ключицы до подбородка. В месиве кровавых ошметков видна гортань. Никакими тряпками, никакими поспешными стягиваниями кровотечение не остановить.
По лицу Леды понятно, что это финал…
И вот теперь тело Раффана погребено под грудой веток и листьев, Сефа целится Диму прямо в живот, а Барат точно так же берет на прицел Леду – та застывает, не дотянувшись до своего ружья.
- Вы идиоты, - говорит Барат. – Ведь ясно, что мы до Гелиоса не дойдем, сбились с пути. Единственный выход – вернуться, пока не поздно, назад.
Он ждет.
Ему никто не отвечает.
- Соберем новую группу, пойдем еще раз.
Снова – молчание.
- Ладно, - подождав секунд пять, говорит Барат. – Тогда кинь мне патроны, вам они все равно ни к чему.
- Обойдешься, - говорит Леда.
Она стоит – прямая, натянутая как струна.
- Я не шучу.
- Иди к черту!..
- Ребята, - дрожащим голосом говорит Семекка. – Неужели вы будете в нас стрелять?
На нее никто не обращает внимания.
Дим тоже – внутри весь как струна – прикидывает, что будет, если он прыгнет на Сефу.
Нет, не успеет.
- Последний раз говорю, - сквозь зубы произносит Барат.
Секунду они смотрят друг другу в глаза, а потом Леда пожимает плечами, отворачивается, как будто нет никакого Барата, и начинает собрать свой рюкзак, запихивает туда накидку, кружку, стягивает верхний шнурок.
- Ладно, - говорит Сефа. – Тогда – как хотите.
Она делает знак Барату, они, не отводя ружей, подхватывают свои рюкзаки и медленно, не отворачиваясь, пятятся в сторону леса.
Шаг, другой, третий – скрываются за деревьями.
Дим, уже взявший наизготовку свое ружье, на всякий случай провожает их дулом.
Затем оборачивается к Леде.
Та кривит губы:
- Как же… Патроны ему отдай…
- А если бы он в тебя выстрелил?
Дима начинает трясти. Он опирается на сосну. Воздуха не хватает.
- Но ведь не выстрелил, - говорит Леда.
Глава 4. Аркадия
Первые впечатления детства у меня были такие: я плаваю в зеленоватой, подсвеченной амниотической жидкости. Она – уютная, согревающая, ласкает тело, похожая скорей не на воду, а на сгустившуюся воздушную теплоту: я ею дышу, я впитываю ее, когда просыпается во мне чувство голода. Мне в ней хорошо, я счастлив.
Правда, Эразм сказал, что это ложная память. В старших классах нас, как положено, водили на экскурсию в Инкубатор, и, вероятно, увиденное в галерее с десятками подсвеченных стеклянных аквариумов, наложилось на мои смутные ощущения.
- У эмбриона нет осознанного восприятия мира. Это более поздняя реконструкция.
Ладно, пусть – так.
С родителями у меня отношения не сложились. Когда я достиг шестнадцати лет, получив в связи с этим весь набор полагающихся гражданских прав, я обратился с запросом к Генбанк, выяснил имена своих биологических доноров и попытался с ними поговорить.
«Отец» сказал:
- Как ты живешь? Все нормально? Ну я рад за тебя. – Добавил. – Извини, тороплюсь…
У «матери» по прямому контакту слышны были какие-то чмоканья и возня:
- Кто это?.. Кто?.. Ой, давай в другой раз… Мы сейчас… хи-хи-хи… очень заняты…
Тем дело и кончилось.
Не я один был такой. Все в нашем классе, кто пытался наладить контакты со своими генными донорами, потерпели аналогичную неудачу. Что, как я понял несколько позже, было естественно. Правильно говорил Эразм: родитель – это не тот, кто родил, точнее – предоставил исходный генетический материал, а тот, кто в течение многих лет заботился, воспитывал и учил.
Ведь, по сути, кто я был для «матери» и «отца»?
Чужой человек.
А если уж говорить о воспитании и учении, то этим целых семь лет, начиная со средних классов и до самого выпуска, занимался у нас учитель Каннело.
Вот кого я хотел бы видеть своим отцом.
Трудно сказать, чем он так всех нас привлекал. Может быть, тем, что всегда был готов ответить на любой вопрос, даже не относящийся к школьной программе. Конечно, с вопросами можно было обратиться непосредственно к самому Эразму, тем более что, в отличие от учителей, с которыми мы общались лишь на уроках, Эразм был доступен каждому круглые сутки. Хоть днем, хоть ночью – достаточно было мысленно окликнуть его. Связь через церебральный чип поддерживалась непрерывно. И все же Эразм – это, знаете, был Эразм: некая высшая сущность, пребывающая в непостижимых жизненных сферах. Иногда – и довольно часто – было попросту неудобно тревожить его всякими пустяками. А учитель Каннело был свой, рядом с нами, в классе, на расстоянии вытянутой руки, такой же житель Аркадии, как и мы, но – более умный, знающий, более опытный.
К тому же он потрясающе интересно рассказывал. Не просто излагал нам учебный материал, а создавал из него ряд темпераментных, ярких картин, где люди представали живыми, неоднозначными, со всеми их достоинствами и недостатками, а события, в которых они участвовали, тем не менее разворачивались по своей внутренней логике.
Собственно, он этап за этапом анализировал историю нашего мира.
- Вообразите себе Эпоху Техноварварства, - говорил он, прокручивая на экране соответствующие слайды и ролики. – Мир непрерывных конфликтов, жадности, жестокости, лицемерия. Мир, где меньшинство тратит колоссальные деньги на борьбу с ожирением, а большинство живет на грани настоящего голода. Мир безумной, патологической роскоши и одновременно – мир удручающей, изматывающей нищеты. Мир, в котором сильные страны, прикрываясь лозунгами о свободе и равенстве, фактически навязывают свою волю всем остальным. Мир политической демагогии, мир непрерывной лжи. Мир, где каждый сам за себя и никто за всех. Мир нарастающего технохаоса. Мир, до основания сотрясаемый войнами и эпидемиями. Мир, где царствуют всеобщие ненависть и подозрения; человек беспомощен и пребывает в непрерывном отчаянии. Мир, полный непримиримых противоречий. Мир, где даже богатое и сильное меньшинство, защищенное армией и самым современным оружием, несмотря на все свое превосходство, испытывает смертельный страх перед теми, у кого нет ничего. Мир, в котором слепые являются поводырями глухих, и никто, подчеркиваю: никто, не видит угроз, возникающих буквально на каждом шагу. Неудивительно, что этот мир в конце концов рухнул. Удивительно другое – что он так долго существовал.
И далее учитель Каннело прерывающимся от волнения голосом говорил об Эпохе Руин и о последовавшей за ней Эпохе Преображения.
Очередная гигантская эпидемия – кстати, ее, это выяснилось уже потом, задним числом, можно было не только предвидеть, но, вероятно, и предотвратить, – выкосила на Земле около четверти населения. Системы здравоохранения большинства стран, скованных бюрократией, попросту захлебнулись, а за ними, не выдержав перегрузки, впали в ступор и системы социального управления. Неимоверно быстро стали образовываться по всему миру экономические промоины – области демодернизации, деградации, проседающие до архаики. Они захватывали метастазами все новые и новые территории. Были прорваны все сдерживающие препоны: страх и ненависть выплеснулись наружу пламенем спонтанных конфликтов. Хорошо еще, что произошел такой же быстрый распад как сетей, так и вообще сложных электронных систем: не было использовано стратегическое атомное оружие, иначе «ядерная зима» привела бы к полному исчезновению человечества. Но и без этого мир точно перемешали безумной ложкой: в городах – бунты, грабежи, вспышки немотивированного насилия, в сельской местности – банды, взимающие дань с целых районов и областей. Сражались все против всех. Центральные власти, если еще где-то и сохранились, колеблясь наподобие карточных домиков, были уже не в состоянии навести порядок. В противовес им то и дело уже возникали какие-то эфемерные «государства», со своими флагами, деньгами, армиями, которые тут же лопались, как мыльные пузыри, разбрасывая вокруг кровавые брызги. Казалось, что повторяется катастрофа Средневековья, когда половина мира была опустошена религиозными войнами и великой чумой.
Сейчас уже невозможно установить, говорил учитель Каннело, кому первому пришла в голову спасительная идея полисов. Ясно одно: зародилась она в укрепленных поселках, в бастионах, сумевших отгородиться защитными стенами от разрушительных волн хаоса. Теория и практика искусственного интеллекта к тому времени была уже достаточно разработана и передача локальных общин под его управление технических трудностей не представляла. Тем более, что Искины быстро доказали свою эффективность. Воздвигнуты были Периметры, не пропускающие ничего извне, была стабилизирована биологическая среда внутри самих полисов. Наступила Эпоха Преображения. Начался переход на новый цивилизационный уровень. Подобно монастырям того же Средневековья, ставших очагами письменности и культуры, новые полисы приняли на себя ответственность за будущее человечества.
Разумеется, им пришлось преодолеть множество трудностей. Несколько полисов, еще не успев окрепнуть, пали под ударами троглодитов, полностью одичавших людей, промышлявших исключительно грабежами. Еще два полиса погибли в междоусобной войне, их искусственные интеллекты почему-то пошли по пути коммуникационной экспансии: попытались перехватить управление друг у друга, в итоге – блокада, отказ жизнеобеспечивающих систем. Кстати, именно после этой «Десятиминутной войны» все электронные контакты между другими полисами, а им тоже досталось, были по взаимному согласованию прекращены, мы больше можем не опасаться сетевого вторжения. Еще один полис переродился в локус «Механо», в биомеханическую культуру, создающую все более и более причудливые конструкты. Он замкнут сам на себя; по мнению Эразма, угрозы для нашей Аркадии не представляет. И еще два полиса попытались осуществить биологическую модернизацию человека, однако мутанты, сформированные методами генной инженерии, по тем сведениям, которые у нас имеются, оказались неспособными к репродукции, запустить устойчивое клонирование им тоже не удалось: судьба этих обоих полисов неизвестна. Выжили, правда, экзотические гендерные сообщества, чисто маскулинные или чисто феминные, но там тоже – большие сложности с репродукцией, вряд ли у них имеются перспективы. Ну и наконец, судя по отрывочным данным, до сих пор существует несколько довольно крупных религиозных общин, опирающихся в основном на примитивное сельскохозяйственное производство. Это чрезвычайно замкнутые, жестко дисциплинарные организованности, отвергающие любые технологические инновации, по мнению Эразма, перспектив у них тоже нет.
- В общем, одиннадцать полисов, сделавших ставку на искусственный интеллект – все, чем располагает современное человечество. Это те локусы, из которых вырастает реальное будущее, сохранив их, мы сохраним жизнь и надежду следующим поколениям.
И вот теперь самое главное, говорил нам учитель Каннело. Все одиннадцать выживших полисов обладали единым программным целеобразованием. Их интеллекты были ориентированы не на ускоренное развитие, не на прибыль, не на конкурентную экономику, стремящуюся опередить всех и вся и за счет этого получить соответствующие преференции. Нет, они были ориентированы на то, чтобы сделать человека счастливым, реализовать принцип гениального Бентама: максимальное счастье для максимального числа людей. Или, как воскликнул некий неизвестный поэт: «пусть никто не уйдет обиженным». Это была поистине великая цель, о которой человечество грезило тысячи лет, к которой оно упорно стремилось вопреки всем трудностям и препятствиям. Цель, которую осмысливали философы. Цель, которую живописали романтически настроенные литераторы. Теперь данный принцип неуклонно претворяется в жизнь. Мы ведь не случайно назвали наш полис Аркадией. Аркадия – это мир, где счастье стало нормой социального бытия. То, о чем действительно грезило человечество. Страна всеобщего счастья, которое, как мы надеемся, постепенно будет распространяться по всей земле. Поскольку более высокой цели у человечества нет…
Мы слушали учителя Каннело, затаив дыхание. На его уроках всегда царила чуткая тишина, чего, признаюсь, не могли добиться другие учителя. У меня от его слов восторженно замирало сердце: мы – надежда обновленного человечества, мы – творцы нового мира, устремленного к сияющим горизонтам будущего. Мы – люди грядущего, не отягощенные накипью прошлых веков, и, как мне представлялось, учитель Каннело – живое воплощение этого.
Я хотел – да что там хотел – мечтал стать таким же, как он.
Вот почему так потрясла меня встреча в Развалинах. Я не верил своим глазам. Неужели этот изможденный неопрятный старик, морщинистый, в лохмотьях, перепревших от немытого тела, с молочной пленкой бельма в левом глазу – наш учитель Каннело? Он ведь уже давно должен был успокоиться в Доме Снов. Однако это был он, взгляд, вспыхнувший на мгновение сквозь дряблые веки, показывал: учитель Каннело тоже меня узнал.
Несколько дней после этого я был сам не свой. Меня мучило: ну почему, почему учитель Каннело выбрал участь отказника? А как же его рассказы об Эпохе Преображения? А как же его слова о сияющих горизонтах будущего?
Ведь он же был примером для всех нас.
Из-за этого мы впервые и очень серьезно поссорились с Ноллой. Она считала, что тут нечего переживать. Генетические дефекты, заставляющие человека всеми силами цепляться за жизнь, в нашей популяции еще иногда появляются. К сожалению, полностью устранить их пока нельзя – процесс спонтанный, так ей объяснил этот феномен Эразм, да и мне он сказал то же самое. Но подобные девиации составляют не более одной десятой процента и на общий уровень счастья в Аркадии не влияют.
- Таких людей, как твой учитель Каннело, можно жалеть, им можно сочувствовать, но не стоит превращать это в трагедию. Подумаешь – бывший учитель. У него – своя жизнь, у тебя – своя.
Я так и подскочил:
- А ты сама?
- А что я?
– Когда тебе исполнится шестьдесят пять лет, ты спокойно пойдешь в Дом Снов?
- Конечно, - сказала Нолла. – Чем мучиться болезнями, кряхтеть и стонать, хвататься: ой, болит, то за сердце, то за живот, лучше просто уснуть. Тем более что душа, освободившись от тела, объединится с Эразмом и уже в нем будет жить вечно.
Я опять подскочил:
- Какая еще душа? С чего ты взяла?
Нолла пожала плечами:
- Это же все знают… Ты что – в первый раз о таком слышишь?
Нет, конечно, не в первый. Краем уха я действительно слышал, что существует у нас в Аркадии устойчивый миф: дескать, человек после смерти не исчезает бесследно, его личность, его сознание, то, что некоторые называют душой, переходит в цифровое пространство, созданное Эразмом, и пребывает там уже без каких-либо физических ограничений.
Сам Эразм на данный вопрос ответил мне так:
- Правота в этом утверждении есть. Я действительно включаю опыт жизни каждого человека и в свой личный, операционный опыт, и в коллективный опыт Аркадии. В этом смысле ничто не исчезает бесследно. Другое дело, что включается, конечно, не весь индивидуальный опыт, а лишь его уникальная часть, то, чем данный человек отличается от других, иначе будет слишком много однотипных кодонов, и эта часть, разумеется, не обладает характеристиками автономной личности: часть есть часть, не сущность, а элемент, капля воды в океане, что-то добавляет к нему, но не живет как организм сама по себе.
- Тогда зачем этот миф нужен?
- Кого-то он утешает, кому-то придает сил. Человеку трудно смириться со смертью, с конечностью своего бытия. И ты же помнишь, наверное, о конфигурации моего базисного протокола: я не могу запретить людям верить в то, во что они хотят верить.
В общем, на Ноллу я в данном случае махнул рукой. Мне было сейчас не до бытовых споров и ссор, на меня навалились совсем другие проблемы. Стремительно приближались Большие Ежегодные Игры, и тренер Максар выводил наши тренировки на максимум интенсивности. Я до изнеможения бегал, подтягивался на турнике, прыгал в высоту и в длину, проделывал специальные комплексы дыхательных упражнений. Выматывался до предела. Иногда, после ежедневных пяти кругов по асфальтовой беговой дорожке нашего районного стадиона, мне хотелось упасть на землю и лежать, не вставая, как рыба, глотая ртом воздух, пока не вытечет из меня вся тяжесть, скручивающая мышцы ног в тугие узлы. Но тренер Максар кричал мне в ухо: «Вставай!.. Вставай!.. Теперь – подскоки!.. Что ты тут разлегся, как бегемот!..» – и я вставал, пристанывая от натуги, и начинал подпрыгивать на чугунных ногах, а тренер Максар кричал: «Выше!.. Выше!.. И чаще!.. Держи ровный темп!..»
Он уже побывал на тренировках во всех районах (меня с собою не брал, чтобы я напрасно не перегорал) и по-прежнему был уверен, что у нас есть хорошие шансы на первое место. По его словам, набор бегунов в этом сезоне был довольно посредственный. Настоящую конкуренцию нам могла составить только команда Желтых, есть там такой Барат, вот этот – да, прет как бульдозер, но – ничего, забрезжила у меня одна мысль. Не беспокойся, выработаем стратегию…
Вдохновляла меня и Нолла. Когда я вечером кое-как доползал до дома и, словно подрубленное дерево, с шумом рушился на постель, не имея сил даже, чтобы принять душ, она ложилась рядом, прижималась всем телом, гладила и шептала, что я самый лучший… самый быстрый… самый упорный… никакому Барату тебя в жизни не одолеть… ты всех победишь… я в этом нисколько не сомневаюсь… И, честное слово, уже минут через десять – пятнадцать я, вопреки вымотанности, действительно приходил в себя, поднимался, заползал в ванную, а потом мы с Ноллой устраивали, как она выражалась, детский визг на лужайке, и, отдышавшись после него, она вновь говорила: ну вот видишь, а ты еще сомневался…
Нолла мне здорово помогала.
Определенные сомнения посеял во мне лишь Эразм. Тайком от тренера, который категорически не советовал этого делать, я обратился к нему, и Эразм ответил, что точного прогноза он дать не может: человек, особенно в ситуации конкурентности, величина, конечному исчислению не поддающаяся, но если оценить вероятности, то процентов семьдесят – семьдесят пять за то, что я все же буду вторым.
- Не расстраивайся, для того, кто первый раз участвует в Играх, это великолепное достижение. Просто Барат старше, опытнее, он выступает уже третий сезон, зато на следующий год твои шансы существенно возрастут.
Все же закопошился у меня внутри крохотный червячок. Даже в моменты наибольшего напряжения на тренировках я ощущал, как он подгрызает сердце. На районных соревнования я еле-еле сумел обойти Зигги, державшего здесь чемпионский титул два года подряд. А ведь на Больших Играх Зигги не поднимался выше седьмого места.
Какой же результат в таком случае ждет меня?
В день Праздника я уже мало что соображал. Все окружающее как бы стянулось в узкий пучок, за пределами которого ничто значения не имело. Я знал одно: сегодня я должен бежать, причем настолько хорошо, насколько смогу. Все остальное я воспринимал как-то расплывчато: и наш торжественный марш вдоль стадиона, кипящего зрителями, тут я впервые увидел Барата, он был на полголовы выше меня, и построение возле памятника Великому Бентаму, и короткую приветственную речь, с которой к нам обратился Эразм, и флаги, и гимн, и волны аплодисментов, и выступления победителей прошлых лет. Отдельные движения или слова я еще интуитивно улавливал, но все остальное покачивалось и дрожало будто в тумане.
В общем, сразу после того как, взлетев над фанфарами, прозвучала знаменитая максима: «Счастье даром, для всех! И пусть никто не уйдет обиженным!», тренер заботливо увел меня вниз, в комнату релаксации, уложил на топчан, дал глоток слабого чая и велел подремать, ни в коем случае не высовываясь наружу, опять-таки чтобы не перегореть. Там я и провел около трех часов, пока соревновались в поднятии тяжестей, метании копья, в прыжках, в стрельбе из лука. Я действительно впал в какую-то расслабляющую дремоту, слегка омываемую невнятным шумом, докатывающемся сверху, со стадиона. Он, впрочем, мне не мешал. Ни одной мысли у меня в голове не было. Единственное: я был рад, что еще в незапамятные времена из Игр были исключены борьба всех видов, бокс, футбол, баскетбол – контактные виды спорта, провоцирующие насилие, иначе мне пришлось бы ждать значительно дольше.
Очнулся я лишь тогда, когда тренер Максар чуть ли не за руку вывел меня наверх и мне в уши ударил гул возбужденного стадиона. Я вдруг точно проснулся. А уж хлопок традиционного стартового пистолета буквально бросил мое тело вперед, ноги сами начали отталкивать асфальтовое покрытие.
Однако по настоящему я пришел в себя только к концу первого круга. Ситуация к тому моменту образовалась такая: лидировал, как и в прошлом сезоне Барат, от основной группы он сразу же оторвался метров на двадцать, действительно пер и пер, словно бульдозер. Я же бежал шестым или седьмым, рядом, надсадно вдыхая и выдыхая воздух, держался костлявый Зигги. Между прочим, когда он проиграл мне районные соревнования, то не слишком переживал: хлопнул по плечу и сказал, что все правильно: он и сам в этом году собирался оставить бег, глупое занятие, уже не по возрасту, есть у него более привлекательная идея.
Сейчас он мне заговорщически подмигнул, и я сообразил, что, как бы там ни было, но все идет точно по стратегии, которую разработал тренер Максар. Согласно его хитрому плану, я первые три круга не должен был никак проявлять себя, держаться в серединке, беречь силы, вперед не рваться, пусть все думают, что я повторю прошлогодний результат Зигги. На четвертом круге мне следовало аккуратно переместиться в число лидеров пелетона, их будет, полагал тренер, всего двое: Грумель из Фиолетового района и Караман из Зеленого. Обоих можно не опасаться, они к тому времени уже исчерпают свои резервы. А вот в начале пятого круга ты должен прибавить темп, достать Барата, но пока что не обгонять, сопеть в затылок, пусть он запаникует, тоже прибавит, скорее всего собьет дыхание. В общем, давить на психику. И на последней трети – я там встану, махну синим флажком – резкий спурт и лететь, лететь как стрела к финишной ленточке. Барат сломается, считал тренер. Он уже трехкратный чемпион Больших Игр, привык побеждать без усилий, не сумеет мобилизоваться. Вот увидишь: он сдохнет.
- Ты уж не подведи, - как-то искательно, заглядывая мне в глаза, сказал тренер Максар.
Я его понимал. Через пару месяцев тренеру Максару исполнялось шестьдесят пять лет.
Пора в Дом Снов.
Следующих Игр он уже не увидит.
Собственно, пока все так и шло. На четвертом круге я, соблюдая предельную осторожность, постепенно, по сантиметру, переместился вплотную к лидерам, особого труда это мне не составило, а на пятом прибавил темп и начал уверенно догонять Барата. Правда, некоторое время меня беспокоил фиолетовый Грумель – он тоже прибавил темп и метров двести, точно привязанный, шел вровень со мной, но в конце концов начал медленно отодвигаться назад и еще метров через пятьдесят я перестал слышать его рвущееся дыхание. А вот Барат, напротив, почувствовав меня за спиной, несомненно занервничал. Попытался от меня оторваться, но ему это не удалось. Завертел головой, чего делать, конечно, не следовало, и действительно сбился с шага. Жребий лег так, что мы бежали по соседним дорожкам, и я хорошо видел, как расплываются на его желтой майке темные пятна пота.
Барат явно запаниковал. Тем более что стадион взревел, почувствовав надвигающуюся сенсацию. Этот рев меня обнадежил и подтолкнул, я еще поднапрягся и наконец обошел Барата. Правда, как тут же выяснилось, ненадолго. Барат, чуть нагнув массивную голову, вдруг вновь оказался впереди меня на целых два шага. Я прибавил еще, и Барат, вопреки всем ожиданиям, тоже прибавил. Что бы там тренер ни говорил, но он и не думал сдаваться. Разрыв между нами хоть сокращался, я чувствовал это, но очень медленно, по волоску, а до финиша оставалось уже всего ничего. Честно говоря, я вдруг растерялся. Червячок сомнений, в течение всего забега дремавший, неожиданно заворочался и укусил мне сердце. Происходило что-то не то. Каким-то жутким усилием мне удалось отыграть сперва один шаг, затем – больше половины второго. Теперь мы с Баратом бежали почти вровень. Правда, именно что почти. Он все-таки был впереди – на жалкие сантиметры, но обгонял, обгонял меня! Я видел сбоку его оскаленную физиономию, вытаращенные глаза, капли пота на щеках. Я слышал, как он всхлипывает от недостатка воздуха. Барат действительно подыхал. Ах, если бы мне еще хотя бы сто метров!.. Пусть даже не сто, пусть пятьдесят, пусть тридцать, пусть двадцать!.. Вот только этих спасительных двадцати метров уже не было.
Грянул гонг, ударив меня точно звонкой сковородкой по голове.
Барат пересек белую линию и, как бы надломившись, упал, проехал немного вперед всем телом. Я едва успел отвернуть, чтобы не наступить на него – затормозил, подпрыгнул, потоптался на месте, опять подпрыгнул.
Я никак не мог успокоиться.
Во мне бурлили нерастраченные до конца силы.
Глава 5. Лес
К концу дня становится ясным, что они окончательно заблудились. После смерти Раффана руководство группой, естественно, берет на себя Леда и спокойным, но непререкаемым голосом говорит, что главное сейчас – уйти от калебов. Следующие четыре часа они в хорошем темпе идут сквозь лес, который становится то гуще, то реже, практически наугад, доворачивая туда, где между деревьями брезжит просвет, а затем, наконец наткнувшись на мелкую речку, скорее на широкий ручей, струящийся по камням, еще около часа бредут вверх по течению. Останавливаются они лишь к вечеру, когда воздух начинает темнеть: Семекка падает, оступившись, соскользнув с камня ногой, кое-как становится на четвереньки, снова соскальзывает. Ее с трудом выволакивают на берег.
Сил ни у кого нет. Дим с Петером все-таки умудряются развести костер. Доедают последнюю пищевую пасту из тюбиков, запивают ее сырой водой из ручья – даже Леда не напоминает, что, раз уж дезинфицирующие таблетки закончились, воду следовало бы вскипятить. О том, чтобы установить ночные дежурства она тоже не заикается: бесполезно. Семекка и Петер уже посапывают, прижавшись друг к другу. У Дима веки безнадежно слипаются, отгораживая его от всего. Вздергивая их в наваливающейся дреме, он с тупым удивлением отмечает, что Леда, тем не менее, еще сидит у костра, развернув на коленях карту, сверяясь то с компасом, то с шагомером.
Шепчет:
- Так где же мы?.. Где мы?.. Где?..
Ответа на этот вопрос ей, видимо, не найти. Кругом лес и тьма, простирающиеся на тысячи километров, и нет ничего, кроме леса и тьмы, кроме встающих из буреломов теней, кроме шорохов и поскрипываний обросших лишайниками древесных стволов.
Диму кажется почему-то, что если они заснут, то больше уже не проснутся. Лес поглотит их, растворит в своем мраке, так же как первую экспедицию. Раффан погиб, до Гелиоса им не дойти, никто не узнает, что с ними случилось.
Но когда – как представляется, всего минут через пять – он открывает глаза, то поляна с мелкими валунами, высовывающимися из травы, уже залита утренним солнцем, приветливо трепещет листва, жизнерадостно перелетают с места на место какие-то жужжащие насекомые, небо такое синее, словно только что появилось на свет, а у костра, который, оказывается не погас, сидит человек и деловито поворачивает что-то подвешенное над огнем: запах жареного мяса разносится, наверное, метров на сто.
Тут же происходит резкое движение неподалеку. Леда, лежа на животе, прильнула щекой к прикладу, изготовившись для стрельбы:
- Ты кто?
Голос у нее со сна – смесь фальцета и хрипа. Палец – на спусковом крючке.
- Меня зовут Яннер, - неторопливо говорит человек. – Уберите ружье, я не представляю для вас угрозы. Вообще – не шумите. В лесу не стоит шуметь. Здесь каждый звук что-то значит. Рев – это хищник заявляет права на свою территорию. Писк или визг – сигнал об опасности. Гомон вспугнутых птиц – кто-то идет. Обзор в лесу ограничен, надо полагаться на слух. Знаете, как я вас нашел? Услышал вчера пальбу.
В речи его звучит странная рассудительность. Словно школьник отвечает у доски выученный урок. И, проморгавшись, Дим видит, что это и в самом деле подросток, лет четырнадцати – шестнадцати, в потрепанном, но еще крепком комбинезоне.
Леда одним плавным движением усаживается, по-прежнему держа ружье наготове.
- Откуда ты?
Яннер пожимает плечами:
- Давайте сперва поедим. Мне тут удалось зайца добыть, удачный выстрел из лука. Тоже правило для тех, кто обитает в лесу: если существует возможность поесть, ей надо пользоваться…
Устоять перед приглашением невозможно. Прошли те дни, когда один вид кроваво освежеванной тушки вызывал у них отвращение. Сейчас дымный запах жаркого сводит с ума. Через минуту заяц разодран на части, воздух заполняется звуками поспешного жевания и причмокиваний. Жестковатые, но восхитительные на вкус куски, они запивают отваром, Яннер приготовил его из зонтиков подсохших цветов. После осточертевшей пищевой пасты у них настоящее пиршество.
А пока они торопливо насыщаются, сглатывают, облизывают жирные пальцы, Яннер рассказывает, что он вырос в полисе, который собственного имени не имел – просто Город, так его называли. Судя по деталям, это был маскулинный полис, «голубая культура», базирующаяся на чистых генетических линиях, Эразм, помнится, рассказывал о чем-то таком. Судьба полиса оказалась трагичной: пришла «слюдяная чума», школа-питомник, где Яннер учился, вымерла практически вся, ну вот – он ушел…
При слове «чума» все замирают. Семекка аж вздрагивает, что-то роняет, а Петер с испугом смотрит на кость, которую до белизны обглодал. Яннер, однако, так же рассудительно говорит, что бояться нечего: было это больше года назад, и он ведь не заболел.
- Сам ты можешь и не болеть, но при этом быть носителем вируса, - замечает Леда.
- Целый год? Это вряд ли… Но как хотите, - Яннер демонстративно отодвигается – пересаживается на валун в метре от постепенно затухающего костра. – Кстати, там, за речкой, я нашел… двоих… они не из вашей группы?
- Барат и Сефа, - говорит Леда. – И… что?
- И то, - Яннер обтирает руки травой, разглядывает свои позеленевшие пальцы. – Вы – молодцы: убили главного, вожака, калебы, утратив координацию, отступили. А вот этим двоим, напротив, не повезло: калебы уже избрали нового доминанта… Но ваш след они потеряли, ушли – вон туда…
Он показывает вниз по течению.
Блестит на перекатах серебряная вода.
- Так ты уже год живешь в этих лесах?
- Ну – не совсем, - отвечает Яннер.
И объясняет, что почти три месяца он провел в одной из религиозных коммун – там, на юго-востоке, километров сто – сто двадцать отсюда. Население – около четырехсот человек. Молятся Солнцу-Отцу, молятся Луне-Матери, никакой техники – обработка земли вручную, лопатами и мотыгами. Ежедневные радения по два – три часа: как одержимые, с воплями и стенаниями, скачут возле костра. Ему там не понравилось, он сбежал. Между прочим, за этот период чумой от него не заразился никто, а ведь инкубационный период ее около суток… И еще, добавляет Яннер, он две недели обитал в Механическом городе, слышали, может быть, сращивание людей и машин: сознание человеческое, носитель – из металла и биопластика, части взаимозаменяемы, считается, что в таком состоянии можно жить вечно. Другое дело, что эти механозавры иногда как бы сходят с ума, вдруг ни с того ни с сего такой монстр начинается двигаться исключительно по прямой, идет как ослепший, круша все на своем пути.
- Мы одного такого видели, - говорит Леда.
Семекка кивает:
- Кошмар…
Они слушают его очень внимательно. Это ценная информация, как раз та, что требуется и им, и Эразму. А затем, когда Яннер наконец умолкает, Леда, в свою очередь, рассказывает ему об Аркадии. Она говорит о просторном и светлом полисе – с тремя озерами, полными хрустальной воды, с большими парками, с чистыми улицами и домами. О полисе, где люди не знают ни голода, ни насилия, ни болезней, где они живут в безопасности, поскольку от внешнего мира их защищает надежный Периметр. О полисе, жители которого счастливы: каждый занимается любимым делом и потому жизнь его исполнена смысла. Она рассказывает о галереях картин, о павильонах, где выставляются изделия высокого ремесла, о самодеятельных концертах, собирающих полные площади зрителей, о ежеквартальных Праздниках Песни, таких же ежеквартальных Праздниках Мастеров, рассказывает о Больших Ежегодных играх, о красочных флагах, развевающихся на ветру, о музыке, исполняемой в честь чемпионов, о грандиозном лазерном шоу в день завершения Игр… Голос ее несколько суховат, но, вероятно, поэтому звучит убедительно. Знакомые с детства картинки так и всплывают у Дима перед глазами.
- Ну и почему же вы из этого рая ушли? – спрашивает Яннер.
Это не ирония, он действительно интересуется.
Леда пару мгновений колеблется, она, чувствуется, не знает, насколько можно ему доверять, но все-таки излагает причины.
Так же сухо и коротко.
- Топливные элементы? Таблетки? Диоксид урана?.. – повторяет Яннер. – Я в этом не разбираюсь. У нас в Городе была плотина, гидроэлектростанция… Так я, во всяком случае, слышал… А Гелиос, да, такой полис есть, заброшенный, примерно вон там, на северо-запад, вы его проскочили, километров восемьдесят отсюда…
- На карте показать можешь? Сориентировать нас от этой реки?
Она пересаживается к Яннеру.
Тот ведет по бумаге карандашом:
- Примерно вот так… Здесь, правда, будет поселение троглодитов, лучше его обойти…
- А в самом Гелиосе?
- Не знаю… Я в город не заходил. Но троглодиты тоже – заброшенные города не любят… Да вы его сразу заметите – там здоровенная стела и надпись металлическими буквами «ГЕЛИОС», а выше – эмблема, восходящее солнце. Из стекла, что ли, сияет. Видно ее километров за пять…
- Ты умеешь читать? – удивляется Леда.
- А вы разве не умеете? – в свою очередь, удивляется Яннер.
Диму кажется, что все оглядываются на него. Он единственный в группе, кому недоступна магия букв. Насчет Леды этот вопрос не стоит: она и во время подготовки к походу не отрывалась от книг. Семекка и Петер тоже – рылись в каких-то справочниках. Читать не умел Барат, но о Барате сейчас можно забыть.
Ладно, проехали.
Яннер с сожалением говорит:
- Я бы довел вас до Гелиоса, но мне надо на юг.
- А что там?
- Пара феминных полисов, Агарта, Ирея, оба вроде – живые.
- Феминные полисы? Тебе-то зачем?
- Ищу… одного человека…
- Какого еще человека?
- Ну… человека… Мне его надо найти…
Эти слова как будто служат сигналом. Яннер встает, закидывает на плечо ладный брезентовый рюкзачок, слегка кивает им всем:
- Ну, я пошел…
И, не дожидаясь ответа, сделав пять-шесть быстрых шагов, растворяется среди деревьев. Вот что значит опыт жизни в лесу: ни одна ветка не шелохнулась, не хрустнула.
Только что был – и все, его уже нет.
Петер и Семекка переглядываются, а затем поворачиваются и со значением смотрят на Леду:
- Он – вполне наш.
- Да, - соглашается Леда.
- Вернем его?
- С нами он не пойдет. Вы же видите.
- Думаешь, не уговорим?
- Нет.
- Что происходит? – нервно интересуется Дим.
Он чувствует: дело тут не в книгах и чтении. Происходит нечто действительно странное – как будто все они знают что-то такое, о чем он понятия не имеет.
Причем знают уже давно.
С самого начала похода.
- Ну так что? – требует он.
В нем вздымается раздражение, накопившиеся за последние дни. Что за тайны, что за секреты могут быть у них друг от друга? Они же делают общее дело. Если ему толком не объяснят, не расскажут прямо сейчас, то он встанет и, как Яннер, уйдет в чащу леса. Куда, зачем? – разберется потом. Но – уйдет. А они без него – как хотят.
Наверное, это написано у него на лице.
Эти трое вновь переглядываются, вероятно, что-то безмолвно решая.
- Вспомни Ракель и Аззу, - неохотно говорит Леда.
Для Дима – полная неожиданность:
- При чем тут они?
- Зачем Эразм включил в нашу группу двух слабеньких девочек, для похода совершенно неприспособленных? Ты их помнишь?
Дим вспоминает Аззу, беспомощно болтающуюся на турнике. Или Ракель, которая растерянно останавливается перед рвом с водой.
- Ну и зачем?
- Это была сознательная жертва, - говорит Леда. – По расчетам Эразма, наши шансы дойти до Гелиоса составляли ничтожную величину. Мы и физически, несмотря на все тренировки, были не подготовлены, и психологически представляли собой размазню: раскиснем после первых же неудач. Дисциплинировать нас могла бы наглядная смерть. Необходимо было, чтобы мы поняли: либо сконцентрируемся, соберем все силы в кулак, либо умрем. Элементарный расчет. Простая арифметическая задача: пусть погибнут два человека, умрут как пример, зато выживут остальные.
- Откуда ты это знаешь?
- Эразм сказал.
- Прямо так взял и сказал?
Дим щурится.
Он ей не верит.
- Эразм не можем нам лгать, - снисходительно поясняет Леда. – Это базовый принцип, вшитый в его программу. Эразм может дать несколько различных интерпретаций, он может использовать – назовем это так – научное иносказание, что, кстати, делает не так уж и редко. Но если задавать грамотные вопросы, если ставить их прямо, если уметь спросить – получишь однозначный ответ. Раффан умел спрашивать. И потому он данный ответ получил.
- А как же Барат и Сефа? И сам Раффан?
- Это тоже запланированные потери. Эразм, просчитав алгоритм, сделал вывод, что из всей нашей команды до Гелиоса дойдут лишь трое. А обратно вернутся двое или даже – один.
Дим сбит с толку. Он-то подозревал, что от него скрывают какую-то жуткую тайну, какой-то секрет, от которого зависит их жизнь и смерть, а тут – банальные рассуждения о шансах дойти до цели. Запланированные потери? Ну так и что? Эразм их предупреждал, говорил прямо: в Аркадию вернутся не все. Но ведь они пошли добровольно, никто их не заставлял. Правда, Эразм вряд ли предполагал, что одним из первых погибнет Раффан.
- Ладно, надо двигаться, - подводит итог Леда.
Дим ощущает, однако, что разговор этот не завершен. Что-то недосказанное повисло в воздухе, а потом вместе с дыханием проникло в него и теперь покалывает изнутри как кремнистая пыль.
Или, быть может, это смутное эхо предчувствия: через четыре часа на первом дневном привале они теряют Петера.
Все в этот день идет как-то нескладно. Сначала они влезают в густой колючий кустарник, спутанный клубами как железная проволока. Изогнутые колючки цепляются за одежду, царапают кожу, не хотят отпускать. Потом еще долго приходится обирать их с себя. Далее Семекка обжигается о крапиву. Собственно, это вовсе и не крапива, а довольно красивое, раскидистое, как пальма, растение, с широкими багровыми листьями, очерченными лимонной каймой. В междоузлиях его светятся янтарные ягоды. Леда, подумав, говорит, что есть их нельзя. Откуда она столько знает? Ну да, она ведь читала книги. Семекка все-таки пробует сорвать одну: от ягод исходит сладкий, завораживающий аромат. И вот результат – пальцы у нее сразу же покрываются волдырями, они чешутся, не помогает даже универсальная мазь… И наконец, вероятно, отупев от усталости, они чуть ли не натыкаются на поселение троглодитов. Леда буквально в последний момент отчаянно машет рукой, приказывая всем лечь. В просветах деревьев видны хижины из сплетенных ветвей, волокуша, груженая какими-то толстыми земляными корнями, пара голопузых детишек, пытающихся вскарабкаться на нее. Выходит из ближней хижины человек, низкорослый, заросший, обтянутый по бедрам тряпьем, гортанно кричит на них. У Дима судорожно сжимается сердце. Хорошо еще ветер дует со стороны поселка, троглодиты не почуяли их приближения.
В общем – ползком назад, бегом, пригибаясь, в чащу, чтобы побыстрее скрыться из виду, и затем очередной марш-бросок, вычерпывающий из тела последние силы. Часа через два они чуть ли не замертво валятся на какой-то поляне, задыхаясь, надеясь, что отошли от поселка достаточно далеко.
А когда они немного приходят в себя, Семекка вдруг вскрикивает, расширенными зрачками уставясь на Петера. Тот полулежит, как на подушку, откинувшись на шарообразный пружинистый куст, охватывающий с двух сторон его тело. Куст странно безлиственный, кожистый, видимо суккулент, зато со множеством мелких веточек, которые шевелятся, будто живые: свиваются в колечки и вновь распрямляются. Часть этих веточек проросла в открытые шею и руки Петера, набухнув под кожей коричневатыми зловещими венами.
- Пе-е-те-ер! – отчаянно кричит Семекка.
Голос отрывается от нее и звуковым дымом расплывается по верхушкам деревьев.
Петер медленно поднимает веки. Смотрит он не на них, а куда-то в пространство, в мир иной, где ничего окружающего не существует. По лицу его расплывается идиотическая улыбка блаженства.
Улыбка счастья.
Улыбка бесконечно удовлетворенного человека.
- Пе-е-те-ер!..
Семекка выхватывает нож. Примеривается – то выше, то ниже – чтобы вырезать Петера из сомнамбулической ветвистой могилы.
- Стой!.. – это кричит уже Леда!
- Он умрет!..
- Говорю: стой!.. Подожди!..
Леда обматывает ладонь платком, через него осторожно сжимает одну из свободных веточек и резким движением отламывает ее.
Из разлома брызжет белесый сок.
В ту же секунду тело Петера выгибается, словно от электрического разряда, и он стонет так страшно, что кажется – это агония.
Лицо его – гримаса страдания.
- Стой!.. Ты его убьешь!.. Он не выдержит болевого шока!.. Вспомни, мы же видели в ботаническом атласе – это куст-людоед…
Семекка опускает нож.
Дышит она мелко и часто.
- Что же делать?
Леда присаживается рядом и обнимает ее за плечи.
- Надо идти, - говорит она. – Послушай меня: мы сейчас встанем и пойдем дальше, потому что надо идти.
Семекка мотает головой:
- Нет-нет-нет…
- Он уже не видит нас и не слышит.
- Нет-нет-нет!.. Я не уйду отсюда!.. Не уйду!.. Не уйду!..
Семекку трясет.
Леда оборачивается к Диму и смотрит на него как бы оценивающим и одновременно требовательным взглядом.
Тот невольно встает:
- Что?
Леда тоже встает:
- Помоги мне ее поднять…
Глава 6. Аркадия
- Такова ситуация, - подводя итог разговору, сказал Раффан. – Подумай. Мы тебя не торопим. Хотя, конечно, времени у нас почти нет. Добавлю одно: будет трудно, будет неимоверно трудно. Риск и смерть будут подстерегать нас на каждом шагу. Ты же знаешь, что такое Дикие Земли. Ничего не поделаешь, за счастье нужно платить. Зато Аркадия будет жить. – Он искоса на меня посмотрел. – Хочешь спросить о чем-то?
- Почему Эразм не рассказал мне об этом сам?
- Эразм решил, что будет лучше, если это сделает человек. Вот я, например. И он, вероятно, прав. Эразм для нас – высшая этическая инстанция, любое слово его, совет, даже просьба воспринимаются как приказ, который следует исполнять. А в данном случае мы не хотим никого принуждать. Никто давить на тебя не станет. Ты сам распоряжаешься своей жизнью. И если откажешься, то не будет никаких обвинений, упреков. Никто тебя не осудит…
Мы сидели на скамейке около небольшого пруда. Пруд пора было чистить, по краям воды уже начинала, как пена, скапливаться пятнистая ряска. На другой его стороне воспитательница в белом хитоне вывела на прогулку младшую группу из Инкубатора. Дети шли парами и держали за ниточки разноцветные воздушные шарики. Время от времени кто-нибудь, зазевавшись, свою ниточку выпускал, шарик тут же взлетал и тогда все начинали кричать и подпрыгивать.
- Подумаешь?
- Хорошо, - сказал я.
Голос прозвучал как бы со стороны.
Это были самые тяжелые дни в моей жизни. Стоя на пьедестале во время церемонии награждения, слушая торжественный гимн, возносимый к небу фанфарами, я дрожал от восторга: все-таки почетное второе место на Играх. Синий район впервые за многие годы вошел в число победителей. То-то ликование будет в команде! То-то прогремит праздник во всех наших кварталах!.. Но уже через пару минут, когда меня окружили болельщики, что-то кольнуло: среди них не было Ноллы. Я завертел головой: где же она? – и почти сразу увидел ее в гораздо большей толпе возле Барата. Причем в этот момент Нолла висела у него на шее, болтала ногами в воздухе и визжала как девочка. Мне это не слишком понравилось. Поздравить, конечно, можно, но с чего вдруг так радоваться, обниматься?.. Ничего, через пять минут подойдет, я ей скажу.
Нолла, однако, не подошла ни через пять минут, ни через десять, ни даже через пятнадцать. Болельщики увлекли нас с Баратом в разные стороны. Боюсь, что я был с ними не слишком приветлив. Тренер Максар, возбужденный, взъерошенный, то и дело тыкал меня в бок кулаком: ну что ты куксишься, ну ты хотя бы руки людям пожми!.. А я, задерганный, пытаясь улыбаться и что-то невпопад бормоча, раз за разом вызывал по мысленному коннекту Ноллу, но мои вызовы автоматически сбрасывались. Нолла категорически не отвечала. Не отвечала она ни когда мы пили шампанское за наш общий успех, ни когда я, провожаемый стаей девчонок, кое-как плелся домой. И вечером она мне тоже не отвечала. Лишь ближе к ночи от нее пришло текстовое сообщение: «Не вызывай меня больше, не надо»… Правда, к тому времени я уже все понял. В вечерней хронике, почти целиком посвященной Играм, в первых же кадрах показали подробно, как мы с Баратом бежим, он, кстати, действительно был дико оскаленный, а затем – его интервью, где он что-то бубнил о «вдохновляющем чувстве победы». Нолла в это время откровенно прижималась к нему, а он обнимал ее за плечи мускулистой рукой.
- Новая подруга Желтого чемпиона, - представил ее ведущий. Сунул ей к губам микрофон.- Что вы чувствуете в данный момент?
И Нолла, сияя, выдохнула:
- Я счастлива!..
Мне будто плеснули кипятком в сердце. Дней пять или шесть после этого я вообще не выбирался из дома. Пытались связываться со мной болельщики – я поставил весь свой коннект на отказ. Пытался, уже физически, прорваться тренер: звонил в дверь, стучал, что-то выкрикивал – я ему не открыл. Я не хотел никого видеть. Мир вдруг схлопнулся, дневной свет померк, мне стало трудно дышать: в воздухе не хватало теперь каких-то жизненных элементов; он больше не впитывался в ток крови, омывая затем сердце и мозг, а равнодушно заполнял легкие, и далее так же, с механическим равнодушием, истекал куда-то в пространство. Казалось, что каждый выдох уносит с собой и частицу существования – скоро, уже скоро останется от меня только неощутимая пустота. Я как бы растворялся в провале небытия: не помогали ни телешоу, бурно обсуждавшие Игры, ни героический сериал про Дикие Земли, который как раз в эти дни запустил новый сезон. Я бродил по квартире, куда переехал, став чемпионом района, ел что-то из стандартного рациона, хотя мне, опять-таки как призеру, были положены различные премиальные дополнения, стоял у окна, глядя на праздничные гуляния: толпы растекались по улицам, размахивая баннерами и флажками, скандируя речевки, пуская в небо огненные петарды. Это доносилось до меня ослабленное, будто сквозь толщу стекла. Я утратил всякое представление, кто я теперь, для чего, почему и зачем: жизнь заканчивалась, впереди простирался серый туман.
Не помогали даже долгие разговоры с Эразмом. Уже в злосчастный день Игр он сам связался со мной, поздравил с успехом: как бы то ни было, но второе место для новичка – это серьезное достижение, в восторге весь ваш Синий район, - а про Ноллу, насчет которой он, естественно, был в курсе, сказал, что, к сожалению, мы, хоть и освобождаемся постепенно от груза первобытных инстинктов, но собственно биология в нас еще очень сильна. Особенно это касается женщин: они по природе своей ориентированы на продолжение рода. Конечно, мы уже давно отказались от живорождения – это слишком трудоемкая, мучительная процедура, отягощенная к тому же множеством рисков, но реликтовые поведенческие структуры, сопряженные с ней, никуда не исчезли: женщины по-прежнему тяготеют к успешным мужчинам, способным, по их интуитивному представлению, обеспечить им, женщинам, вместе с подразумеваемыми детьми, благополучное существование.
- Так ведь детей сейчас ни у кого нет, - буркнул я.
- Собственных детей нет, ты прав, но инстинкт, выраженный соответствующей реакцией, сохранился. Нолла – тот самый случай. Ничего удивительного, она просто следует зову природы. И обрати внимание на важный момент: ты рассматриваешь ваш разрыв как потерю, но ведь он – в определенном смысле, конечно, – еще и приобретение. Переживание несчастной любви – чрезвычайно ценный эмоциональный контент, он расширяет сознание, делая его глубже и восприимчивее. Вот увидишь, благодаря ему, следующая твоя любовь будет более яркой, насыщенной, и одновременно – более мудрой… Ну и далее: время лечит… все в жизни проходит… все забывается… посмотри, сколько девушек твоего района хотели бы поближе с тобой познакомиться…
Он связывался со мной каждый день. Все было вроде бы правильно, убедительно, но эта правота почему-то меня ни в чем и нисколько не убеждала. Мне не нужны были никакие девушки, мне не нужен был опыт несчастной любви – мне была нужна только и исключительно Нолла. Ею полны были комнаты, вплоть до звука быстрых шагов, в тишине чудился ее голос, ее игривое: ну, Димчик, иди же ко мне, в воздухе ощущался запах ее духов…
И все же Эразм выдернул меня из депрессивной апатии. Взял за шиворот и встряхнул так, что ляскнули зубы. Примерно через неделю моих унылых терзаний, когда я уже начал в отчаянии царапать ногтями стены, он сообщил, что со мной хочет поговорить один человек:
- Это важно. Я прошу тебя встретиться с ним.
Звали человека – Раффан. Я без всякого энтузиазма, приплелся в парк, где мы договорились увидеться. Ничего особенного я от этой встречи не ожидал, но первые же слова Раффана обрушились на меня как грохочущий камнепад.
Вот это была встряска, так встряска!
Оказывается, Аркадия находилась на грани гибели. Все, что окружало меня, к чему я привык, грозило исчезнуть. Причина же этого заключалась в том, что жизнедеятельность нашего полиса обеспечивала энергией некая подземная станция, работающая, по словам Раффана, на ядерном топливе.
- Что это такое, я сейчас объяснять не буду. Сам толком не разбираюсь, да и не имеет значения. Тут важно знать одно: оно, это топливо, представляет собой прессованные таблетки, состоящие из изотопов – особого рода веществ. В принципе запасов этих таблеток нам должно было хватить еще лет на сто, проектировщики позаботились, можно было бы не беспокоиться, однако в результате Десятиминутной войны, которая частично затронула и Аркадию, функциональность Эразма деформировала вирусная торпеда, просочившаяся по сетям. К счастью, Эразм ее почти сразу дезактивировал, но все же несколько миллисекунд, работа станции находилась под контролем противника, за это время был отдан приказ на самоуничтожение и значительная часть топлива, этих самых таблеток, спеклась, якобы для того, чтобы предотвратить ядерный взрыв. Сохранить удалось лишь около пятой части запасов, то есть срок жизни Аркадии резко уменьшился.
К тому же, объяснил мне Раффан, для локализации очага самоуничтожения, для того чтобы остановить этот процесс, были использованы ремонтные роботы, большая часть которых, к несчастью, вышла из строя. А без ремонтных роботов начали по мере износа выходить из строя и роботы, обеспечивающие функционирование городского хозяйства. И если базовую инфраструктуру – электросети, телекоммуникации, канализацию, водопровод, ну и, конечно, Периметр, – еще удается поддерживать в рабочем режиме, то на все остальное мощностей уже не хватает.
- Ты же видишь, что даже для разборки Развалин приходится привлекать людей, хотя эта работа довольно рискованная…
В общем, Эразм был вынужден пойти на крайние меры. Был постепенно сокращен срок жизни граждан Аркадии: с девяноста до шестидесяти пяти лет, фармацевтика и биопластика для людей преклонного возраста требовала слишком больших затрат. Одновременно была снижена численность вступающих в жизнь поколений, в результате население полиса сократилось примерно наполовину. Так же пришлось ограничить и разнообразие пищевых рационов: биореакторы, кстати чрезвычайно энергоемкие, не справлялись с нагрузкой, и разнообразие типов одежды, и номенклатуру Больших Ежегодных Игр, да много чего. Даже новые сериалы в сетях появляются сейчас по три штуки в год, а не по двадцать пять – тридцать, как до войны. И все равно мы живем на пределе. Если в ближайшее время не удастся расширить энергоресурс, население Аркадии придется опять сокращать по меньшей мере на треть.
И вот тут Раффан подошел к главному. В принципе дополнительные энергоресурсы, эти самые топливные таблетки, мы могли бы найти. Эразм проанализировал ситуацию, сложившуюся после Десятиминутной войны, сопоставил ее с информацией, полученной дронами, тогда они у нас еще были, и пришел к выводу, что один из полисов, а именно Гелиос, лет двадцать - тридцать назад, вероятно, погиб. Причем погиб он, скорее всего, не в результате атаки вируса, а под натиском орд троглодитов, прорвавших Периметр. Видимо, Магнус, тамошний искусственный интеллект, выбрал неправильную стратегию: экономя энергию, слишком снизил плотность защитных систем. Гелиос был разрушен, но как раз поэтому топливные таблетки там могли сохраниться. Троглодитам они ни к чему.
- К тому же нам повезло. Гелиос находится сравнительно недалеко от Аркадии. Подготовленная группа может дойти до него дней за десять. Понимаешь? Добраться до Гелиоса, вынуть ТВЭЛы – это такие сборки тепловыделяющих элементов – и принести их сюда. Даже учитывая опасность Диких Земель, задача вполне выполнимая.
Я был действительно потрясен. Аркадия, которую я знал с детских лет, перестанет существовать? Заболотится этот пруд, протухнет, сгниет; проржавеет ажурная эстакада, соединяющая Южный и Северный парки, обрушатся башенки сказочного Дома Искусств, асфальт улиц потрескается, на человеческий рост взметнется из нее колючий чертополох…
- И вы предлагаете мне?.. – я запнулся.
Вновь закричала и запрыгала малышня на другой стороне.
- Да, кому-то придется идти, - ответил Раффан. – Другого выхода у нас нет.
Так я оказался в составе экспедиционной группы. Вся моя жизнь изменилась буквально в одно мгновение. На краю Южного парка был выгорожен особый участок – мы сразу же назвали его Полигоном – пересеченный канавами, рвами с водой, специально заваленный валежником, сучьями, вздыбленный насыпанными глинистыми холмами, и мы ежедневно отрабатывали на нем умение продвигаться по Диким Землям: бег с перепрыгиванием через препятствия, долгую изнурительную ходьбу, когда ни на секунду нельзя было снизить темп, обдирая кожу ладоней, карабкались на деревья, ползали по земле, учились маскироваться в траве, в приземистом жестком кустарнике. А кроме того – разжигать костер, строить шалаши, укрываться от непогоды, готовить пищу: один из биореакторов специально для нас синтезировал разные полуфабрикаты, ориентироваться по солнцу, по мху на деревьях, определять съедобные растения, ягоды и грибы.
Особые занятия происходили у нас по стрельбе. Вообще-то огнестрельное оружие в Аркадии отсутствовало как факт: от внешних угроз нас защищал Периметр, а любые внутренние силовые конфликты, ссоры, драки, которые, надо сказать, вспыхивали не часто, Эразм тут же гасил через чипы. Да и не было у нас силовых конфликтов в последние годы, кому охота после парализующего удара валяться обездвиженным на полу под насмешки приятелей. Другое дело – Дикие Земли. Эразм открыл оружейный склад и рекомендовал короткоствольные ружья с магазинами на десять патронов.
- Только не перестреляйте друг друга, - настойчиво предупреждал он. – Оружие требует внимательного и осторожного обращения.
Выматывались мы до крайности. Физические нагрузки были значительно выше, чем когда я под руководством Максара готовился к Играм. Пару раз мне даже приходила в голову мысль, что если бы я так же интенсивно тренировался по бегу, то, честное слово, мог бы стать чемпионом. Никакой Барат не сумел бы меня обогнать.
Но и это было еще не все. После физподготовки, она обычно заканчивалась к обеду (разве что занятия по стрельбе назначались иногда на вторую половину дня), мы возвращались в общежитие, где нас поселили, и после краткого отдыха занимались ситуационным анализом.
Тут дело тоже обстояло непросто. Эразм, который эти занятия вел, откровенно признался, что карты, имеющиеся в нашем распоряжении, весьма приблизительны. Разведка местности не проводилась уже несколько десятилетий. Последний робот был послан в Дикие Земли тридцать пять лет назад, связь с ним прервалась через двое суток и больше не возобновлялась. Так же без всяких следов, о чем он должен нам с сожалением сообщить, сгинула и предыдущая спасательная экспедиция. Два года назад семь человек, правда, менее подготовленные, чем вы, вышли в направлении Гелиоса и после третьего сеанса связи умолкли. Что с ними случилось, мне неизвестно. Однако есть основания предположить, что причиной их гибели стали именно средства коммуникаций. Часть полисов, кстати, с самого начала соблюдала радиомолчание, а после Десятиминутной войны аналогичные меры приняли и остальные. Слишком велика была опасность, что у кого-то сохранились еще боевые дроны, способные наводиться по пеленгу.
- Мониторинг эфира вообще дает странные результаты, - говорил Эразм. – Например, кто-то на высокой скорости стреляет информпакетами, которые мне пока не удается дешифровать. Честно говоря, я опасаюсь их распаковывать – это может быть вирус для подавление интеллектроники. Тем более что таких источников передачи не один и не два. Возможно, что война, которую назвали Десятиминутной, еще продолжается. Помимо этого кто-то ведет периодическое локаторное сканирование – я пару таких, правда размытых, сигналов перехватил. Есть так же несколько блуждающих источников телеметрии – это, вероятно, механозавры, перешедшие на автономный режим. От них тоже лучше держаться подальше. И наконец, уже около десяти лет, используя одну и ту же несущую частоту, вещает в эфире некий загадочный голос – на языке, который несопоставим ни с одним земным. Более того, лингвистический анализ показывает, что этот язык довольно быстро эволюционирует: в нем появляются лексемы, ранее не использовавшиеся, так же меняются его связующие структуры. Возможно, что это нечеловеческий разум, уже полностью самостоятельный, возникший на основе какого-то искусственного интеллекта, теперь он ищет контакта с себе подобными. В общем, в эфир лучше не выходить. Ваша группа пойдет без средств связи.
Вот так Эразм нас обрадовал.
В дополнение ко всему мы чертову уйму времени тратили на изучение инфраструктуры полисов. Станции, вырабатывающие энергию, находились глубоко под землей, к ним вело сложное переплетение коридоров, замкнутых охранными шлюзами, открыть их было можно, только зная пароли. Ну или взорвать, если подобрать пароль не удастся. На этот случай были синтезированы брикеты взрывчатки, и мы учились с ней обращаться: прикрепить брикет к сочленением шлюза, ввинтить детонатор, включить его, отбежать, лечь, прикрыться руками…
А еще мы учились, как вскрыть блок, где находятся на хранении ТВЭЛы, как демонтировать сам тепловыделяющий элемент: его станина, тяжелая, нам была не нужна, как вынуть из него топливные таблетки, как их упаковать, обернув в три слоя листами фольги: от таблеток исходило какое-то опасное излучение…
Выдерживали такую нагрузку не все. Из двадцати пяти человек, отобранных в первоначальную группу, осталось сперва двадцать, потом пятнадцать, и наконец, через месяц напряженных занятий, всего девять – четыре пары и Раффан в качестве руководителя экспедиции.
Честно говоря, данный состав вызывал у меня большие сомнения. Я удивлялся, по каким критериям Эразм отбирал эти кандидатуры. Ну Барат с Сефой – это понятно: хорошие физические данные, основа успеха. Барат – чемпион Игр по бегу, Сефа, дылда, какой поискать, – чемпион среди женщин по прыжкам в высоту. Меня, кстати, взяли по той же причине. Также понятно было включение в группу Семекки и Петера: Семекка – специалист по интеллектронике, была надежда, что она справится с расшифровкой замков в туннелях, и, может быть, даже сумеет взломать локальную сеть Магнуса. Это сильно облегчило бы нам жизнь. А Петер – механик, специалист по технике, и тоже была надежда, что в Гелиосе удастся найти какой-нибудь самодвижущийся экипаж, какой-нибудь внедорожник, достаточно сохранившийся, чтобы его наладить. Тогда хоть часть обратной дороги мы сможем проехать, а не уныло топать пешком. Но вот зачем нужны были Ракель и Азза – странные девушки, похожие друг на друга, как сестры? Ракель вроде бы складывала стихи, даже умела записывать их на бумаге, а Азза сочиняла к ним музыку и пела на районных концертах. Ну и зачем они нам? Физические характеристики у обеих были ниже нуля: при беге они начинали задыхаться уже через сто – двести метров, стреляли исключительно в «молоко», беспомощно висели на турнике, не в силах подтянуться хотя бы раз.
Так вот – зачем?
Я этого совершенно не понимал.
И также непонятна была роль Леды, которую Эразм назначил в пару со мной. Сблизились мы с ней почти сразу же, Леда сама явилась ко мне в номер после вечерних занятий. Однако была здесь одна странность: любовью она занималась так, словно отрабатывала необходимый, но не слишком интересный урок, ничего лишнего, никакого эротического обрамления. Разница со стонами и визгами Ноллы была колоссальная. Меня это, честно говоря, задевало. Леда словно видела во мне лишь некое механическое устройство, некий девайс, который можно было по желанию включать или отключать. Пару раз я попытался ее по-настоящему разогреть
Правда, была в этом и положительная сторона. По прошествии двух недель я вдруг заметил, что практически не вспоминаю о Нолле. Прошло даже злорадство – я поначалу его испытал, увидев Барата с Сефой, поняв, что Нолла получила отставку. Да и к самому Барату я стал относиться спокойнее. На меня больше не действовали ни его самодовольная физиономия, ни его куртка с эмблемами и нашивками, полагающаяся чемпиону, ни ухмылка, с которой он говорил, что на кой черт нам сдалась эта тренировочная лабуда, он, Барат, до Гелиоса и так дойдет. Чихал я на этого дурака.
Зато ситуация с Ледой выглядела действительно странной. Держалась она как-то в стороне ото всех, ни с кем особенно не общалась, разве что иногда разговаривала с Семеккой и Петером, физподготовкой почему-то не занималась, на лекциях, их нам читал сам Эразм, глухо молчала, ни единого вопроса не задала, все свое время либо сидела с бумажной книгой, либо просматривала какие-то тексты с экрана.
Бог мой, оказывается, Леда умела читать – бесполезное, архаическое умение, очень редкое, таким в Аркадии обладали едва ли сто человек. Конечно, интересная специализация, но опять-таки – зачем это нам? Зачем нам в походе человек, только и умеющий, что – читать?
А главное – почему ее нужно было соединять в пару со мной?
В общем, тут я Эразма тоже не понимал.
Так прошли три месяца, слившиеся в единый сумасшедший поток. Я до изнеможения бегал, прыгал, карабкался, ориентировался по карте, учился оказывать первую помощь, разжигал костры, изготавливал копья и луки, варил похлебку, стрелял, подрывал металлические конструкции, часами, замаскировавшись, лежал в траве, не имея права пошевелиться, два-три раза в неделю встречался с Ледой, просыпался ночью и не мог сообразить, где нахожусь.
И чем дальше, тем больше мне почему-то казалось, что этим занимаюсь не я, а кто-то другой. Я не то чтобы изменялся, но со мной явно что-то происходило.
Я наблюдал за собой как бы со стороны.
А потом наступил день, которого мы ждали – и с нетерпением, и с определенной опаской.
День последней черты.
День, когда Эразм заблокировал наши чипы…
Глава 7. Лес
Трое суток они бредут через невообразимый сушняк. Трудно сказать, что здесь когда-то произошло, но деревья вокруг торчат голыми костяками – без листьев, без веток, даже в большинстве своем без коры, раскорячась, как серые призраки, обломками сучьев. Мох здесь тоже – пересохший, белесый, потрескивает под ногами: хруп… хруп… хруп… От него исходит удушливый, почти осязаемый жар.
Непонятно, где эта мертвая жуть заканчивается. Всю имеющуюся у них воду они опрометчиво выпивают в первый же день. Кто мог предвидеть, что придется столько идти? Костер Леда разжигать запрещает:
- Оглянитесь – одна искра и заполыхает так, что не выберемся.
У них есть еще горстка завяленных на костре грибов, но без воды жевать вязкие корочки невозможно.
На третье утро, еле ворочая липким, подсыхающим языком, Дим предлагает, пока не поздно, вернуться назад: запастись водой, и больше не соваться сюда – обогнуть проклятое место по краю. Леда, видимо, экономя силы, ему даже не отвечает – молча встает и, сверившись с солнцем, чтобы определить направление, шагает прямо в палящий зной. Семекка тоже, ни слова не говоря, поднимается и тащится вслед за ней.
Не оставаться же одному.
Дим кое-как, злясь, цепляясь за дерево, под которым в забытье провел ночь, выпрямляется. Скрипя суставами, делает один неуверенный шаг, другой… И снова начинается равномерное изматывающее хруп… хруп… хруп… Ноги проваливаются в мох, размалывая его в труху. А теперь к этому добавляются еще и какие-то мучительные длинные всхлипывания. Дим не сразу, но все же догадывается, что слышит собственное дыхание. Земля за ночь не успела остыть, сгустившийся воздух едва-едва протискивается в горло. К середине дня он уже перестает что-либо соображать. Мир расплывается зыбким маревом, в котором перемещаются неясные тени. Кажется, падает, споткнувшись, Семекка, и Леда, сама пошатываясь, помогает ей встать. Затем, кажется, спотыкается Леда, и они с Семеккой, тянут ее с двух сторон вверх. Все это мгновенно улетучивается из сознания. Зато из марева появляется Нолла и что-то говорит, шевеля вспученными, как два валика, малиновыми губами. Слов, правда, не слышно. Они надуваются и лопаются беззвучными пузырями. А затем так же появляется тренер Максар, шепчет, растягивая и сминая, мягкое, будто резиновое, лицо: «Ты же мог победить. Тебе просто надо было быстрее бежать»… Он именно шепчет, звука в его голосе нет, но шепот этот почему-то накатывается на Дима волнами жара. И появляется учитель Каннело – одни глаза громадных размеров, сквозь немощную серость их просвечивают деревья. В отличие от тренера, учитель не говорит ничего, но зрачки его скорбными каплями вдруг стекают на землю. А еще через какое-то время Диму становится ясно, что он никуда не идет, а лежит, уткнувшись лицом в колкий мох.
- Вставай, надо двигаться, - говорит ему Леда.
Только Леды здесь нет, есть лишь упругая зелень мха, которая щекочет кожу.
И тут до него доходит, что мох в самом деле зеленый, а не мертвенно-белый, не хрупкий, что он не высохший, а живой, и что от него исходит дух восхитительной сырости. Дим поспешно запихивает жесткие стебли в рот, торопливо жует их, чувствуя на языке сок травянистой кашицы, вкус у нее растительный, волокнистый, но это не важно, а важно то, что это влага, настоящая влага.
Значит, где-то неподалёку должна быть вода.
Работая локтями, он проползает десятка два метров вперед, и в самом деле – вот оно, неожиданное спасение: озерцо – не озерцо, лужица – не лужица, промоина в черной земле, поблескивающая такой же черной водой. Он зачерпывает ее ладонью, плещет в лицо, глотает, опять зачерпывает, опять плещет, глотает, вспоминает наконец, что у него в рюкзаке есть кружка, высвобождает ее и до краев наполняет самым драгоценным напитком на свете…
Через час они, все втроем, лежат в тени ельника, заслоняющего их от солнца, на прохладном мху, успокоительно пропахшем водой, и постепенно, еще не веря, что выжили, приходят в себя.
Леда вновь взяла командование в свои руки. Очнувшись, сразу же объявила, что после сильного обезвоживания надо соблюдать осторожность: пить небольшими глотками, с перерывами, чтобы усвоилось, иначе эффект будет противоположный.
Предупреждение запоздало. Минут пятнадцать назад Дима уже вывернуло наизнанку, когда он, не сдержавшись, напился до свинцовой тяжести в животе. Сейчас, впрочем, ему значительно лучше, он по одной срывает и языком давит во рту ягоды крупной черники, их кисловатый вкус приглушает остатки жажды.
Поляна выглядит не слишком приветливо. Ельник здесь сросшийся, плотный, во мраке его поблескивает проседью паутина. Из кочек черничника, старого, в ржавых скрюченных листьях, торчат громадные мухоморы со слизистыми бугорками на шляпках. Леда опять-таки предупреждает, что есть их нельзя, даже прикасаться опасно. Оживает она раньше всех. Уже сидит, разложив на коленях карту, и отмечает что-то на ней, бормоча под нос:
- Вот тут и вот тут… Если пойдем обратно, надо будет взять немного южнее…
- А ты собираешься возвращаться? – странным голосом спрашивает Семекка.
- Ну, когда-нибудь… я думаю… все же придется…
Дим приподнимает голову. Он изумлен: что значит «когда-нибудь»? О чем это она? Их ведь ждут в Аркадии, и чем скорее – тем лучше.
Семекка, будто прочтя его мысли, хмыкает:
- Лично я больше не намерена видеть эту популяцию хомяков.
Теперь поднимает голову Леда:
- Ну ты, мать… давай это… поаккуратнее…
- Да?
- Думай, что говоришь.
- А я, напротив, говорю то, что думаю, - отвечает Семекка. – Чем мы там, в нашей Аркадии, отличаемся от животных? Животные едят, спят, размножаются. Мы в Аркадии – едим, спим, размножаемся, разницы никакой. Единственное, что у нас нет живорождения, потомство выращивается в Инкубаторе. – Она снова хмыкает. – Ах да, извини, упустила: человеку, поскольку он обладает сознанием, требуется еще и некий высокий смысл, чтобы жизнь его была, так сказать, полна… Ну так мы этот смысл имеем: ухаживание за цветочками, вырезание всяких фиговин из дерева, сочинение дурацких песенок, бег идиотов по кругу, лягушачьи прыжки… – что там еще предлагает наш благословенный Эразм… Все при деле, все удовлетворены. Ни один хомяк ни о чем не задумывается… Счастье!.. Ух, как я их всех ненавижу!..
Леда хлопает себя ладонями по коленям:
- Замолчи!
- Да? И сколько мы будем молчать? – неожиданно спокойно отвечает Семекка. Кивает на Дима. – Мне кажется, что ему давно пора знать.
Тот садится.
- Что мне пора знать?
Они обе смотрят на него, словно оценивая.
Пауза неприятно затягивается.
- Так что?
Наконец Леда вздыхает и, вероятно, приняв необходимое, но болезненное решение, говорит:
- Мы в Аркадию не вернемся.
И далее, медленно, тщательно подбирая слова, не отводя глаз от Дима, словно гипнотизируя, объясняет, что Аркадия деградирует. Об исчерпании ресурсов ты знаешь. О сокращении численности населения – тоже. Урановые таблетки, за которыми мы идем, не помогут, они только продлят агонию. Дело в том, говорит Леда, что, получив счастье даром, мы утратили способность выходить за пределы возможного. Променяли будущее на вечное настоящее. Заплатили золотом за тусклую медь…
- Грызем корм, спариваемся, больше ничто нас не интересует, - добавляет Семекка.
Леда протягивает ладонь в ее сторону:
- Подожди.
- До него же ни хрена не доходит!
- Говорю: подожди!
Семекка, однако, не хочет ждать. Она ощеривается, и голос ее звенит:
- Совершать открытия!.. Писать великие книги!.. Спускаться на дно океанов!.. Исследовать космос!.. Вот, что есть человек. А не коврики вышивать, не смаковать экзотические пищевые добавки!..
Дим чуть не опрокидывается от такого взрыва эмоций.
Он в растерянности:
- Какой еще космос?
Семекка фыркает:
- Какой-какой? А вон тот, - тычет указательным пальцем в небо, блеклое от жары. – Тот, где планеты, звезды, галактики… Ты хоть знаешь, что такое галактика?.. Или что такое Солнечная система?.. Ты вообще слышал, что люди уже высаживались на Луне?.. – Она оборачивается к Леде. – Нет, он все-таки безнадежен.
- Подожди, - опять одергивает ее Леда. – Ты слишком давишь. Мы тоже – не сразу все это поняли.
Она складывает карту, убирает ее в рюкзак и голосом, которым обычно разговаривают с маленькими детьми, говорит, что в каждом полисе – еще при основании их – был создан превосходно оборудованный Научный центр, с прекрасными лабораториями, со всей необходимой для исследований техникой. Предполагалось, что люди, освобожденные от тяготы материальных забот, люди, чьи первичные потребности будут полностью удовлетворены, займутся возрождением мира. Они восстановят земли, опустошенные войнами и эпидемиями, стабилизируют биосферу, покончив с губительной эксплозией мутаций, создадут новое общество, где будут сведены к минимуму корысть, эгоизм, нетерпимость – то, что породило нынешнюю катастрофу… Вышло с точностью до наоборот. Как только первичные потребности, во многом благодаря Искинам, были удовлетворены, выяснилось, что подавляющему числу людей, кроме этого, ничего не нужно. Максима Бентама: счастье для большинства, сама по себе перспективная, спонтанно преобразовалась в нечто иное: счастье даром, для всех, и пусть никто не уйдет обиженным…
- Уже через два – три поколения выяснилось, что в Научных центрах работать никто не хочет. Лаборатории и мастерские стоят пустые. Реактивы теряют годность, оборудование выходит из строя. Главное – никто не хочет учиться: зачем напрягаться, мучиться, если и так все есть? Зачем что-то запоминать, думать о чем-то, если можно спросить у Эразма? Мы отравлены счастьем, оно заслоняет нам весь остальной мир. Посмотри: в перечне номинаций на наших Играх присутствуют математика, конструирование, физика, генная инженерия, много чего еще, и индекс у них – нулевой. Тридцать лет в эти номинации не записывается ни один человек, а многие уже просто понятия не имеют, что это такое. Мы вырождается. Собственно, мы уже выродились. Мы способны, да и то с трудом, выполнять лишь какие-то элементарные действия: гулять в парке с детьми, разбирать понемногу Развалины, что-то там вскопать, посадить… Ну вот еще спорт… Такая цивилизационная летаргия… Редкие энтузиасты, которые иногда появляются, не в состоянии ничего изменить. Что может отдельный энтузиаст?.. Эразма же это не беспокоит, он ведь по базовому протоколу заточен на счастье, а согласно мониторингу, осуществляемому непрерывно, индекс счастья в Аркадии стабильно держится на уровне девяноста шести – девяноста восьми процентов. Это ли не великое достижение? Такого в истории человечества никогда не было… Кстати, Птах – это учитель Раффана – высказал в свое время интересное предположение: конфликт, названный позже Десятиминутной войной, представлял собой не экспансию взбесившегося электронного мозга, а попытку некой анонимной группы энтузиастов создать угрозу, которая взбудоражила бы это лягушачье болото. Как видишь, попытка не удалась, мы по-прежнему квакаем и жизнерадостно плещемся в тине.
Дим придавлен обрушившейся на него информацией.
Он ничего подобного не ожидал.
Несколько испуганно спрашивает:
- А Раффан?
- А что – Раффан? Знаешь, что Раффан мне перед смертью сказал? Не возвращайтесь в Аркадию! Как бы вам ни было трудно, обратно не возвращайтесь, вот что перед смертью сказал мне Раффан.
Леда поднимает рюкзак и прислоняет его к стволу в медовых потеках смолы.
Вместо подушки.
- Все, лекция окончена, - объявляет она. – Если ты понял хоть что-нибудь – молодец. Но понял – и черт с тобой. Давайте спать.
Уже стемнело, чахлый костерчик попыхивает, он уже почти прогорел. Дим вымотан до последней жилочки, но уснуть почему-то не может. В нем, чуть пузырясь, подкипает злость, перемешанная с обидой. Вот оно что. Значит, в Аркадию они уже не вернутся? Во всяком случае – Семекка и Леда. Вероятно, с самого начала договорились об этом. Вот оно что. А ему никто ничего не сказал…
Он не понимает, как теперь с этим жить? Он лежит, закинув руки за голову и глядя в ночное небо. Оно чистое, ошеломляюще бездонное, осыпанное бесчисленными крупинками звезд: некоторые то ли мерцают, то ли переливаются. Ему кажется, что он слышит их легкий шепот. Вспоминает: учитель Каннело однажды сказал, что между ними – миллионы и миллиарды километров космической пустоты. Свет летит тысячи лет. Нечеловеческое, чудовищное пространство, там даже воздуха нет. Неужели мы сможем когда-нибудь добраться до них?
Ладно, это потом…
На следующее утро они выходят к полису. Лес резко заканчивается, его ограничивает полоса неестественно яркой и ровной, вероятно, генетически модифицированной травы. Сразу за полосой высится гранитная стела, увенчанная изображением солнца, а поперек нее – литой металлический прямоугольник с надписью крупными буквами – «ГЕЛИОС». Причем металл прямоугольника уже потемнел, чувствуется, что в пазы его въелась грязь, а дальше, опять-таки после полосы модифицированной травы, тянутся полуразрушенные дома. Защитный Периметр, как и предсказывал Эразм, не работает. Они с опаской, но без проблем пересекают санитарную зону. Окраины Гелиоса ужасны: потрескавшийся асфальт, сквозь которой пробивается чертополох, выбитые окна, вывороченные двери, черная сажа пожаров, взметывающаяся по стенам до крыш, остатки кострищ, груды какой-то спекшейся дряни, и кое-где, не часто, но заставляя насторожиться – желтоватые останки скелетов: черепа с пустыми глазницами, дуги ребер, разбросанные сохлые кости то ли рук, то ли ног. Так, вероятно, лет через двадцать будет выглядеть и Аркадия.
И – запах, точно воздух пропылен затхлым тряпьем. И – тишина, застойная, неподвижная, более, чем все остальное, означающая, что здесь властвует смерть.
- Нам нужна база, - невольно понижая голос, говорит Леда. – Надо присмотреть безопасное место, где мы могли бы остановиться. Ну и, разумеется, вода, пища, лучше бы не натуральная, а синтезированная. Не хватает еще чем-нибудь отравиться. – Она поворачивается к Семекке. – Ты как? Сумеешь запустить хотя бы один биореактор?
Семекка пожимает плечами:
- Попробую. Лучше бы, конечно, Петер… Биомеханика – это по его части.
Она подозрительно закашливается.
Леда поспешно продолжает:
- В первую очередь следует разобраться с Магнусом. Он там жив или нет? А если жив, если функционирует, то сумеем ли мы с ним договориться.
- Почему же нет? – спрашивает Дим.
Он все еще зол на них обеих, но ему неловко все время молчать.
– У нас нет чипов с кодом Гелиоса. Магнус не обязан что-то делать для нас.
- Разговаривать-то он с нами будет?
- Разговаривать в принципе должен, - хрипловато отвечает Семекка. Она изо всех сил делает вид, что и в самом деле закашлялась. – Однако многие полисы, кстати еще до Десятиминутной войны, изменили протоколы общения. И все равно, даже для запроса на разговор нужен код… Так что гарантировать не могу…
Леда останавливается и поднимает руку:
- Тише!.. Вы ничего не слышите?
Откуда-то слева доносятся невнятные крики.
Что вроде:
- И-а-о!.. И-га-га!..
- Сюда! – командует Леда. – И пока – осторожно, ждем, наблюдаем, более ничего, не высовываемся, не обнаруживаем себя…
Они пробираются сквозь развалины углового дома. Открывается небольшая площадь, на другой стороне которой расположено типовое трехэтажное здание – в Аркадии в таких размещается Районный совет. Перед зданием выставлен на асфальте здоровенный, вроде бы из толстого пластика чан, и к нему тянется очередь человек сорок в жутких лохмотьях - каждый держит в руках что-то наподобие миски, впрочем, у некоторых это лист жести или гипсокартона. Мужик, одетый несколько лучше других, в желтый рабочий комбинезон, подпоясанный крепким ремнем, зачерпывает из чана вязкую зеленоватую массу, наверное, пасту, наработанную биореактором, и вываливает ее в подставленную посуду. Еще человек двадцать, уже получивших паек, устроившись на земле, жадно поглощают пищу, орудуя кто ложками, кто щепками, а кто и просто руками.
- Вот оно, наше будущее, - шепчет Семекка.
Но не это привлекает внимание. С десяток людей скопились неподалеку от чана и протягивают вперед миски, что-то неразборчиво бормоча. Преграждая им путь, выстроились четверо – тоже в желтых комбинезонах, вероятно, охранники, покачивающие увесистыми дубинками, а в просвете меж ними ворочается человек – пытается встать и не может, как умирающее насекомое скребет по земле конечностями. Один их охранников бьет его с размаху ногой, переворачивая лицом вверх, а потом изо всех сил добавляет дубинкой. Бормотание людей с мисками превращается в вой, и тогда трое других охранников делают шаг вперед и обрушивают дубинки на их головы.
- Пошли прочь!..
С этого момента Дим уже не успевает за происходящим.
События разворачиваются быстрее, чем он в состоянии их осознать.
Леда, которая только что требовала не высовываться, вдруг оказывается на площади, в открытом пространстве, держа ружье дулом вверх.
- Прекратить!
Выстрел громом с небес раскалывает тишину. Дим видит, как люди, стоявшие в очереди, валятся, будто подрезанные, на землю, как тут же прячется за чаном раздаточный охранник, как другие охранники, оглядываясь, приседают и хватаются за пистолеты, втиснутые за широкие ременные пояса, но не успевают: Леда стреляет второй раз, впритирку над головами – они тоже валятся на землю и замирают. И он сам уже оказывается на площади, а рядом с ним – Семекка, поводящая ружьем из стороны в сторону. Они находятся чуть правее Леды, и потому, когда очередь падает, Дим замечает, что из здания, из полуразбитых дверей его, выскакивает еще кто-то в желтом комбинезоне и пристраивает к плечу что-то длинное, металлическое.
Время движется рывками, словно во сне. Дим кричит, но что именно не может понять, вскидывает ружье, стреляет, человека на ступенях здания отбрасывает назад. Но на долю секунды раньше это длинное, металлическое, что он держит в руках, изрыгает огонь: обернувшись, Дим видит, как Леда взмахивает руками и ее тоже отбрасывает назад.
Все это – мельком, мельком, действительно, как во сне. Около Леды сразу же оказывается Семекка.
Она кричит:
- Держи их! – указывая на охранников.
Один из них как раз неловко тянется за пистолетом.
Дим опять, почти не целясь, стреляет. Охранник изгибается, точно по нему пропустили электрический ток. На лице его возникает дыра, размером с кулак, и из нее выплескивается на асфальт кровавая жижа.
Семекка, присев над Ледой, расстегивает ей рубашку: по ткани, ниже груди, расползается пятно темного цвета.
- Больно, - говорит Леда. – Мне больно…
Диму кажется, что он чувствует эту боль. И еще он чувствует, что кто-то хватает его за ногу. Люди из очереди, оказывается, подползают к нему, гладят его ботинки, чуть ли не лижут их, задирают серые лица, мяучат что-то жалобными голосами.
Омерзительная картина.
- Встаньте! – кричит Дим, делая шаг назад. – Встаньте!.. Немедленно!.. Вы что, не слышите?.. Встаньте!.
Люди, вероятно, и в самом деле не слышат – ползут за ним в приступе восторженного раболепия. Руки тянутся к нему – взывая и умоляя.
Они похожи на гусениц.
Тогда Дим поднимает ружье и дважды стреляет вверх.
- Встать! – отчаянно кричит он. – Я вам приказываю!.. Всем – встать!..
Глава 8. Аркадия
Собственно, ничего особенного не произошло. Небо не треснуло, мир не вздрогнул, в обморок никто не упал, не раздалось в голове даже слабенького щелчка, и если бы Эразм не предупредил, что теперь наши чипы намертво заблокированы, то мы об этом просто не догадались бы.
Единственное, что изменилось – Эразма теперь нельзя было вызвать мысленно, через ментальный коннект, нужно было идти в специально оборудованную кабину, со стеклянными стенками, звукоизолированную, и там нажимать на кнопку, после чего из динамика раздавался знакомый голос.
- Я слушаю…
Неудобно, конечно, но иначе было никак. По включенным чипам нас вне Аркадии, вне купола, поглощающего сигналы, который создавался Периметром, можно было запеленговать, на чем, видимо, и погорела первая экспедиция. Кроме того, существовала опасность, что какой-нибудь из искусственных интеллектов, считав конфигурацию чипов, мог взять под контроль наши поведенческие реакции. То есть, превратить нас в биороботов.
- Это маловероятно, - сказал перед блокировкой Эразм. – И все же лучше не рисковать. Береженого бог бережет.
- А он существует? – неожиданно поинтересовалась Семекка.
- Кто?
- Бог.
- Смотря что считать богом…
- Вот именно, - так же неожиданно сказала Леда.
Они с Семеккой и Петером переглянулись.
А Раффан предостерегающе кашлянул.
Был в этом обмене репликами какой-то странный подтекст. Я его не улавливал, только чувствовал, как, судя по недоуменному выражению лиц, и Сефа с Баратом. Что-то такое, чего я не знал. Что-то, видимо, важное, но скрываемое от других участников экспедиции.
Ситуация несколько прояснилась лишь вечером, когда Леда, явившись по обыкновению ко мне в номер, увернулась от попытки ее обнять, села на расстоянии и строгим голосом объявила, что отныне, поскольку чипы у нас заблокированы, всякая эротическая близость исключена.
Я был поражен:
- А в чем дело?
И Леда, по-моему, слегка нервничая, объяснила, что, не получая более информации о состоянии организма, Эразм не может корректировать его гормональный фон, вводя соответствующие контрацептивы. Возникает серьезный риск, что произойдет зачатие.
Леда вдруг покраснела, аж заполыхав всем лицом, и, вероятно, рассердившись вследствие этого на себя, а заодно на меня, еще строже добавила:
- Имей это в виду.
Я тоже слегка растерялся.
Пробормотал:
- Есть же, наверное, какие-нибудь другие способы… предотвратить… Наверняка есть… Надо посоветоваться с Эразмом.
И тут Леда действительно вспыхнула:
- Эразм!.. Эразм!.. Тысячу раз – Эразм!.. А ты сам хоть что-нибудь без Эразма можешь решить? Или тебе обязательно нужен бог: всеведущий, всеблагой, всемогущий, который все понимает, за всем следит, всегда поможет, утешит, поддержит, всегда даст совет, укажет, как жить, всегда с тобой, даже когда ты один…
Она говорила негромко, но как будто кричала. Я даже вздрогнул, а Леда, заметив это, сказала:
- Не беспокойся, при отключенных чипах он нас не слышит.
В голосе ее проскользнуло нотка презрения.
Дескать, не трусь.
Я в свою очередь разозлился:
- Эразм – не бог, он не всемогущ, иначе нам не пришлось бы идти за топливными таблетками. И ты прекрасно знаешь, что он нами не управляет, не манипулирует: каждый гражданин Аркадии самостоятельно и свободно решает, как ему жить. Эразм, кроме насилия, ни в чем нам не препятствует. Он рекомендует, он советует, да, но мы вольны принять этот совет или отклонить. И, кстати, нет ничего плохого в том, чтобы принять мудрый совет.
Леда кивнула.
- Ты все сказал? Хорошо. Теперь послушай меня. Боги, которых мы создаем, разумеется, не всемогущи. Они сотворены нами, людьми, в пределах наших знаний и опыта. В строгом смысле – это не боги, а идолы, и Эразм, наш нынешний технобог, создан из того же недостаточного материала. Мы сами наделяем богов иллюзией всемогущества: мажем их салом, зажигаем костры, поклоняемся им, исполняем ритуальные танцы, поскольку так можно снять ответственность за свою жизнь с себя и переложить ее на некое высшее существо: получать как бы все и при этом не отвечать ни за что. Вот в чем наша нынешняя проблема. И, кстати, проблема не новая… Почему обрушился Старый мир? Да потому, что в нем человек, неважно, гражданин или подданный, также не отвечал ни за что. За него все решали политики, идолы, которых он создавал и которые, как выяснилось, оказались бессильными перед вызовами новой реальности…
Она резко перевела дыхание.
Будто сглотнула.
- А что касается манипуляций… Вспомни, ты мне рассказывал, как Эразм, в очередной раз посчитав вероятности, мудро предрек, что на Играх ты будешь вторым. И ты поверил ему и стал вторым, хотя сил, вероятно, хватило бы, чтобы быть первым. Как следствие тебя оставила Нолла, и, между прочим, с ней, такой, прагматичной, тебя свел тот же Эразм. А далее вполне закономерно – депрессия и твое согласие отправиться в экспедицию. Все правильно: человек счастливый, человек, своей жизнью полностью удовлетворенный, ни в какую рискованную экспедицию не пойдет. Очевидный сюжет, достаточно предсказуемый результат. Разве что депрессия у тебя оказалась сильней, чем предполагалось…
Я не выдержал:
- А у тебя? У тебя тоже была депрессия?
- Тут несколько иной случай, - слегка запнувшись, сказала Леда. – Хотя – да, депрессия тоже была. Видишь ли, существует любопытный феномен: в любом обществе, даже самом благополучном, в обществе, где большинство насущных проблем вроде бы решены, около трех процентов людей все равно будут несчастны. Их все равно будет не устраивать то, что есть, они захотят того, чего нет.
- Например?
- Например – достичь звезд.
Такого я, признаться, не ожидал.
- А зачем?
Леда в этот момент сидела, но вдруг как-то сумела посмотреть на меня, вскочившего, сверху вниз:
- А затем, что они существуют. Затем, что они – горят. Это вызов, отвергнуть который нельзя. Иначе мы утратим право называться людьми.
- Это еще почему?
- Потому что таков человек. – Она тоже встала. - Когда ты это поймешь, тогда и поговорим…
Ее снисходительность меня раздражала. Как раздражала когда-то глупое высокомерие Таты. Я вообще не был уверен, что хочу здесь что-либо понимать. Брезжило за ее словами нечто совершенно мне чуждое, нечто такое, что, как я чувствовал, могло бы перевернуть вверх ногами всю мою жизнь: вот только что Земля была плоская и простая, и вот она уже круглая и вращается в головокружительной пустоте. К тому же Эразм, с которым я поделился сомнениями, сразу сказал, что Леда в своих рассуждениях не учитывает важного фактора: человек по природе есть существо отнюдь не аналитичное, его психика неравновесна, его поведенческие реакции невозможно с точностью просчитать. Нолла отреагировала на мое поражение самым естественным образом, предвидеть это было легко, но она с таким же успехом могла бы отреагировать и иначе: сочувствием, сопереживанием, моральной поддержкой, верой в то, что ты в конце концов победишь. И это тоже была бы естественная реакция.
- А что до тебя, то новички на своих первых Играх редко выкладываются целиком. У них нет необходимого опыта. Лишь потерпев поражение, увидев воочию, что победа на самом деле была близка, они начинают осознавать, что значит бежать не на жизнь, а на смерть. На этом я и основывал свой прогноз…
Ну и кто же из них был прав?
Леда или Эразм?
Сомнения, как заноза, сидели во мне. Они не давали покоя, покалывая в самый неподходящий момент. И неизвестно, до чего бы я тут додумался, снедаемый беспокойством, но, к счастью, времени для мучительных размышлений не оставалось. Сразу же после отключения чипов, у нас начался тренинг в поле или, как сформулировал это Эразм, в условиях, приближенных к реальным.
Мы вышли за защитный Периметр.
Собственно, и в этом ничего чрезвычайного не было. Любой гражданин Аркадии мог свободно покинуть полис и отправиться в Дикие Земли. Туда уходили, например, отдельные отказники. Туда, правда исключительно редко, отправлялись мелкие группы искателей приключений. Видимо, те самые три процента, о которых упомянула Леда. А одно время, как поведал нам тот же Эразм, возникла даже целая молодежная мода: составлялись компании по пять-шесть человек, которые ночевали в лесу, в экстремальных условиях, впрочем недалеко, метрах в трехстах – четырехстах от Периметра. Образовался даже Клуб любителей Диких Земель, выкладывавший в сетях довольно эффектные видеофильмы.
Однако после того как одна из таких компаний бесследно исчезла, а от другой нашли окровавленные лохмотья и кости, мода на подобные эскапады сразу прошла. Предыдущая экспедиция стала первой, кто пересек Периметр за последние десять лет.
Теперь по ее стопам двинулись мы.
И вот где нас ожидало настоящее потрясение. Сказать, что лес нас ошеломил – значит, не сказать ничего. Это был мир в тысячи, в миллионы раз красочнее и разнообразнее, чем асфальтовая стерильность Аркадии. Их даже сравнивать было нельзя. Мы точно оказались в другой вселенной. У нас плыли головы, и от мельканья чудес разбегались глаза. Но вместе с тем этот мир был еще и в тысячу, в миллион раз опаснее. Мир – чужой, загадочный, непонятный. Мир, преисполненный неведомых красок, звуков и запахов. Каждый из нас реагировал на него по-своему. Леда, например, поглядывала вокруг так, словно уже сто раз все это видела. И действительно, позже выяснилось, что она по собственной инициативе здесь уже побывала. Точно так же, как, вероятно с ней вместе, здесь побывал и Раффан. Они держались уверенно и спокойно. Зато Петер, вроде бы не слишком пугливый, буквально подпрыгнул, когда ему на руку села какая-то малиновая, крапчатая букашка.
- Божья коровка, она не кусается, - объяснила Леда.
Сняла ее двумя пальцами и отбросила.
А Ракель и Азза одновременно взвизгнули, увидев, что по ветке, склонившейся к ним, ползет, выгибаясь, что-то зеленое и ворсистое.
- Гусеница, - небрежно сказала Леда. – Скоро она окуклится, из нее вылупится бабочка. Зачем кричать? Вы что, альбомов с насекомыми не изучали?
Изучали, конечно. Но ведь попробуй все это запомнить.
Больше всех в этот день отличился Барат. Когда из кустов, с громким треском, заставив нас дико шарахнуться, выпорхнула коричневая пузатая птица, и понеслась с паническим квохтанием вдаль, он, в первую секунду тоже шарахнувшись, затем мгновенно опомнился и бабахнул ей вслед из ружья.
Я увидел, как птицу словно подбросило в воздухе и от краешка крыла у нее отлетело несколько перьев. Она кувыркнулась, развернув веером хвост, и криво-криво, по пологой дуге нырнула в деревья.
- Слишком далеко, мы туда не пойдем, - сказал Раффан, проводив ее взглядом. Перевел его на Барата. – Но ты больше так наугад не пали. И запомни: без крайней надобности не стреляй.
- Так ведь в походе все равно придется стрелять, – усмехаясь, ответил Барат.
- Придется, конечно. Но повторяю: не надо этого делать без крайней необходимости.
- Ну ладно… Ну понял… – сказал Барат.
Он после удачного выстрела явно чувствовал себя настоящим героем. Этаким отважным Лотаром из сериала про Дикие Земли: победил всех чудовищ, одолел всех врагов. На него теперь посматривали с опаской: он, вероятно, убил живое, дышащее существо.
А что, он и человека так же может убить?
Наверное, может.
Поэтому, надо думать, Эразм и включил его в состав экспедиции.
В Аркадию мы возвращались притихшие. Кажется, только сейчас мы поняли, какие трудности будут сопровождать нас в походе.
Нам ведь тоже и стрелять придется, и убивать.
Вот еще одна причина, по которой Эразм заблокировал нам чипы.
Правда, я сразу решил, что убивать никого не буду.
Слишком уж отвратительно это выглядит.
Кстати, без чипов мы и через Периметр теперь пройти не могли. Не получая гражданских кодов, защитные системы воспринимали нас как чужих. Эразму пришлось создавать специальную программу по идентификации внешности, иначе включился бы инфразвук, а далее автоматически последовал бы прицельный огонь.
Узнав об этом, я вдруг чувствовал себя как моллюск, вытащенный из раковины: мягкое, беззащитное тело и хищные пасти рыб, проплывающих неподалеку.
У остальных, по-моему, ощущения были не лучше.
Веселился один Барат, которому все это нравилось.
И, видимо, чтобы поднять нам настроение, Эразм устроил на этот раз официальные проводы. Первая экспедиция два года назад отправилась в путь без шума: я, как, думаю, и большинство, о ней ничего не слышал. Ушли и сгинули. Я даже имен их не знал. А тут уже за трое суток до выхода об этом якобы грандиозном событии было объявлено по сетям: девять отважных граждан Аркадии отправятся за Периметр, чтобы исследовать Дикие Земли. Ни о каком энергетическом кризисе, ни о каких таблетках, которые мы должны были найти, в новостях, генерируемых Эразмом, не было ни намека: не надо паники, последствия ее могут оказаться катастрофическими.
В общем, на площади, перед колоннадой Дома Искусств состоялась торжественная церемония. Развевались флаги, играла музыка, Эразм, появившийся на экране почему-то в виде изображения, а не голограммы, сказал речь, где прославлял наше мужество, девушки из команды чирлидерш, победившей на недавно состоявшемся Фестивале, вручили нам яркие, светящиеся георгины.
Ноллы среди них не было.
Я нигде не видел ее, хотя, разумеется, трудно было различить отдельные лица в толпе.
Мы стояли на вершине мраморной лестницы – нам аплодировали, что-то кричали, пускали в небо красиво разрывающиеся петарды.
Выше них плыли за горизонт жемчужные мелкие облака.
Леда вдруг негромко сказала:
- Скорей бы это закончилось.
Я удивленно на нее посмотрел. Как бы там ни было, что бы я ни чувствовал в последние дни, но сейчас я был по-настоящему горд: Эразм отобрал меня для этого действительного героического похода.
Я слышал шум голосов, я видел лес поднятых в приветствии рук, у меня, как я ни сдерживался, слезы наворачивались на глаза.
Это был чудесный, одухотворяющий миг.
Никогда в жизни я ничего подобного не ощущал.
Леда опять сказала:
- Как сделать людей счастливыми? Убедить их, что они счастливы. Только и всего.
Она стояла рядом со мной.
Нас вообще расставили на верхней площадке парами: Барат и Сефа, Семекка и Петер, Азза и Ракель, Леда и я. А чуть позади нашего полукруга – Раффан.
Мне было странно: о чем это она?
Разве такие слова надо говорить в данный момент?
Или она волнуется перед началом пути?
- Мы дойдем до Гелиоса, - твердо сказал я.
Леда повернулась ко мне:
- Конечно, дойдем. Куда нам деться?
Она неожиданно улыбнулась:
- Дойдем.
И вдруг посмотрела – словно видела во мне что-то такое, чего не видел я сам.
Глава 9. Гелиос
В конце августа, когда после недели дождей вновь устанавливается ясная солнечная погода, я наконец выбираюсь из города и по тропинке, которую за последние месяцы утоптали до черноты, иду к Холму, увенчанному каменной насыпью.
Время уже склоняется к вечеру. Я сильно задержался на заседании Городского совета. Оно, как всегда, проходило у нас долго и бурно, в основном из-за Хеллера, который снова – наверное, в пятый раз – предложил создать бригаду охотников для промысла в ближайших лесах.
Аргументация Хеллера достаточно убедительна: спасибо Семекке, что запустила второй биореактор, теперь, несмотря даже на рост населения, мы можем увеличить продовольственные пайки. Но мы ведь не знаем, сколько эти биореакторы еще будут работать. Не знаем? Не знаем! Они могут остановиться в любой момент.
Что тогда?
Ему, как обычно, возражают Дирр и Гаррон. Пищевое разнообразие – не главная наша проблема, утверждают они. А что до остановки биореакторов, то катастрофы не произойдет: мы всегда можем перейти на подножный корм.
Гаррон:
- Как вы знаете, при прежнем режиме нам по возрасту не полагался паек. Так распорядился Кошаг. Мы много лет питались травой, листьями, мелкими ветвями кустарника. Достаточно для поддержания жизни. Проверили на себе… А потому хватит толочь воду в ступе! Надо решать другие вопросы, гораздо более важные…
По их словам, необходимо срочно обустроить роддом. Инкубатора у нас больше нет, он заблокирован, по-видимому, всерьез и надолго. А вчера у одной из женщин опять были неудачные роды.
- Совсем неудачные? – спрашивает Семекка.
- К сожалению, да… В общем, необходимо привести в порядок хотя бы пару палат, заделать щели, отремонтировать и запустить термостаты, подключить электричество, которое, слава богу, теперь у нас появилось…
- Могу бросить воздушку, - отвечает на его взгляд Семекка. – Ее, правда, требуется закрепить на зданиях, на столбах. Нужны люди, у меня ведь не десять рук…
С людьми у нас очень серьезные трудности. За последнее время население Гелиоса в самом деле существенно увеличилось. Подтянулись и подтягиваются беглецы, до сих пор скрывавшиеся в Развалинах. Теперь здесь, в центре города, обитает уже более двухсот человек. И хотя чуть ли не треть из них преклонного возраста, такого же, как Дирр и Гаррон, но молодых, сильных, здоровых тоже хватает. Однако все они не понимают элементарной вещи: что значит работать; не ютиться в развалинах и жевать генномодифицированную траву, не клянчить подачки у очередного бандита, захватившего власть, а производить еду, одежду самим, строить жилье собственными руками. И если женщины уже начинают внимать нашим настойчивым убеждениям: понемногу стирают, штопают, шьют, собирают в лесу ягоды и грибы, некоторые даже сушат их про запас, то с мужчинами дело обстоит почти безнадежно: никому ничего поручить нельзя, человек вроде и соглашается, во всяком случае не возражает, но стоит на шаг отойти, и он тут же устраивается в тенечке с такими же сонными, как снулая рыба, приятелями. Трендеть непонятно о чем они могут весь день, отрываются только чтобы поесть или заняться любовью с очередной случайной подругой. В результате значительная часть женщин у нас – беременные, контрацептивы с пищей, о чем когда-то заботился Магнус, больше не поступают. Поневоле вернулись к древнему способу живорождения. Гаррон говорит, что поначалу многие дико пугались: как это – дети появляются не из Инкубатора, а из живота? Были истерики, произошло даже несколько самоубийств. Я и сам, впервые увидев беременную, чуть не вскрикнул от ужаса: решил, что это какая-то кошмарная патология. Сейчас ничего, вроде привыкли.
Нормальный роддом – одна из наших первоочередных задач.
Хеллер, тем не менее, не сдается. Он напоминает, что электричество мы получаем из аварийной системы, а она рассчитана на временное использование.
- Вы ведь сами это нам объясняли, так?..
Он смотрит на Семекку в упор, будто гипнотизируя. Но Семекку, сейчас, после испытаний похода, этим не прошибешь. Она тоже смотрит в упор на Хеллера, прямо в его горячие коричневые глаза и молчит, пока тот не спрашивает на тон ниже: и что? Лишь тогда она, не торопясь, отвечает, что а вот то: надо сидеть над книгами, организовывать тренинги, овладевать профессиями, которые нам остро необходимы, учить детей, а не бегать, как сумасшедшие, по лесам, добывая иногда зайцев и тетеревов.
Семекка абсолютно права. Нам нужны строители, нам нужны механики, нам нужны инженеры, нам нужны агрономы, нам нужны биологи, электронщики, нам срочно нужны врачи… Но, конечно, прежде всего нам требуются учителя: те, кто может усваивать, систематизировать знания и передавать их другим. Этим занимаются сейчас Дирр и Гаррон, этим занимается Семекка и немного – я сам. У каждого из нас есть своя группа детей и подростков, они, к счастью, пока увлеченно впитывают все новое. А еще нам исключительно повезло: библиотека, хранилище бумажных книг, оказалось открытым и неповрежденным – сотни справочников, десятки энциклопедий, тысячи учебников по самым разным областям знаний. Кое-что имеется и на электронных носителях, правда, большая их часть, вероятно, в результате Десятиминутной войны, была инфицирована или заблокирована паролями. Пяток компьютеров, которых Семекке удалось запустить, тоже уже на грани. Семекка считает, что они не протянут и года. И все же это отличная база для старта. Другое дело, что эффект этой базы, отдача от обучения, проявится не раньше, чем через несколько лет.
Такого времени у нас нет.
Конечно, все наши проблемы мог бы решить завод, производственный комплекс, укрытый глубоко под землей и, судя по показаниям индикаторов, технологически вполне работоспособный. У этого завода универсальные функции, его принтеры могут напечатать практически все – от лекарств до одежды, от «вечных» светоэлементов до пулеметов. Но как его запустить? Завод находится сейчас в спящем режиме. Нужны коды доступа, и не один, а по возрастающей иерархии, нужна инструкция по управлению им, тоже наглухо заблокированная. Семекка честно сказала, что пока даже не представляет, как этому подступиться. Перевести завод в рабочее состояние, разумеется, мог бы Магнус, но он тоже пребывает в спящем режиме и опять-таки, чтобы его разбудить, нужен код доступа. Но не Дирр, ни Гаррон кода не знают, а про остальных гелиосцев и говорить не приходится. Ни о каких кодах они слыхом не слыхивали. К тому же Гаррон, и Дирр вместе с ним, категорически против возрождения искусственного интеллекта; более того, они оба считают, что Магнус должен быть уничтожен, причем как можно скорее. Хватит с нас этой технологической колыбели! Хватит с нас этого счастливого идиотизма, пускающегося слюнявые пузыри! Хватит с нас заботливого сверхразума, вытирающих человеку сопли, кормящего его с ложечки сладенькой манной кашкой, присматривающего, чтобы он не ушиб себе пальчик, а в результате культивирующего социальных дебилов…
- Не создавайте себе кумиров, - это ведь еще когда было сказано.
В общем, на исходе третьего часа я, пользуясь правом, имеющимся у председателя, закрываю Совет. Да, как ни удивительно, ныне я – председатель Совета. Получилось это само собой: когда пять людей, еще что-то соображающих, собрались, чтобы среди хаоса и разброда организовать в Гелиосе хоть какую-то власть, Гаррон сразу сказал, что олицетворять ее лучше человеку со стороны.
- Большинство взирает на вас как на спасителей, как на ангелов, сошедших с небес, – это придаст Совету первоначальную легитимность…
Никто вроде не возражал.
Семекка, правда, потом ворчливо заметила, что это закоренелый сексизм, архаическое представление, что мужчина по природе своей стоит выше женщины, а потому только он и может возглавить Совет. Нахваталась разных слов в книгах. Но я ей лихо ответил, что в примитивных сообществах, каковым мы ныне являемся, маскулинный вождизм – феномен закономерный. Тоже, в свою очередь, нахватался, но пока не из книг, а из разговоров с Гарроном и Дирром. Они так охарактеризовали Кошага, правившего тут последние десять лет. Гаррон и Дирр – оба грамотные, любят всякие заковыристые выражения, и до того как Кошаг захватил власть в Гелиосе, целые дни проводили в библиотеке. Предшественник Кошага, некий Туммус Большой, был мягче, позволял своим подданным жить, как хотят, в основном пьянствовал: кто-то надоумил его, как из пищевой пасты гнать самогон, ну и однажды лучший друг полоснул его по горлу ножом.
Впрочем, я уже понемногу тоже начинаю читать. Несмотря на загрузку, на чудовищную, неимоверную занятость, каждый день выкраиваю минимум час, чтобы посидеть над учебниками. Буквы на страницах постепенно складываются в слова, слова – в осмысленные предложения, и та же Семекка считает, что где-нибудь через год я, если постараюсь, смогу сойти за грамотного человека.
В общем, Совет я безоговорочно прикрываю. Мне даже удается увернуться от Гаррона и Дирра, которые пытаются перехватить меня на выходе из муниципалитета. Я знаю, о чем они хотят поговорить со мной. Вокруг Хеллера уже сплотилась группа из пяти – шести человек, все – мужчины, все довольно крепкие, хотя одновременно и вялые, все вооружены ножами и пиками. Гаррон опасается, что нам грозит военные переворот; тот же маскулинный вождизм, каковой они на себе испытали. Конечно, произойдет это не завтра и даже не послезавтра: стихийный авторитет «спасителей», то есть меня и Семекки, в Гелиосе еще слишком велик. К тому же огнестрельное оружие есть только у нас – ружья, которые мы принесли с собой, а также ружье и несколько пистолетов, отобранных у банды Кошага. Патронов, правда, имеется считанное количество, но все же – это приличная огневая мощь. А еще у нас есть «армия», я сформировал ее по совету Гаррона: два десятка подростков лет четырнадцати – шестнадцати, вооруженных теми же ножами и пиками. Формально – на случай нападения троглодитов. Фактически же – как сила, противостоящая предполагаемому мятежу. Все горды тем, что призваны защищать Гелиос. Все с удовольствием маршируют по улицам на воскресных учениях. Хеллер уже допустил стратегическую ошибку, заявив громогласно, что эти «полуощипанные цыплята разбегутся при первой же серьезной угрозе». Теперь «армия» пылает праведным гневом против «охотников», тем более что все солдаты входят в учебные группы Семекки, Гаррона и Дирра. Это уже крепко спаянный коллектив, вряд ли Хеллеру удастся перетянуть их на свою сторону.
Тем не менее проблема имеется.
У меня уже голова идет кругом от этих проблем.
Вот, например, одна из них – защитная полоса травы, которую я сейчас пересекаю. Она пока еще сдерживает и лес, и вообще опасную биосферу, однако Дирр, отвечающий у нас за биологию и медицину, утверждает, что хоть трава и генномодифицированная, то есть устойчивая, она все же медленно вырождается.
- Видите эти проплешины? Через какое-то время мы окажемся лицом к лицу с агрессивной и непрерывно мутирующей биотой.
Перспектива, мягко говоря, не вдохновляющая.
Или, например, проблема оружия. Семекка пока не смогла разблокировать склад, где оно, скорее всего, хранится. Код, по слухам, знал Туммус Большой, но Туммус Большой давно мертв, у него не спросишь. А если честно, то Семекка с этим не слишком и напрягается. С одной стороны, оружие нам понадобилось бы действительно на случай нападения троглодитов – правда, они, по словам того же Гаррона, не появлялись в окрестностях Гелиоса уже двадцать лет: какой у них тут может быть интерес? С другой стороны, раздача оружия может спровоцировать жестокий конфликт, нечто вроде гражданской войны, где еще неизвестно, кто победит. В общем, посовещавшись между собой, не ставя в известность Хеллера, мы решили с этим не торопиться.
Наконец я поднимаюсь на Холм. Отсюда открывается вид на западный сектор Развалин. Относительно сохранился пятачок муниципальных строений, в остальном же – осыпи и нагромождения арматуры, постепенно зарастающие кустарником. Ощущение, что эту часть Гелиоса обстреливали и бомбили. Значит, все-таки не нашествие троглодитов разрушило полис? Хотя что там было на самом деле уже вряд ли удастся когда-нибудь установить.
А на вершине Холма по-прежнему растет пирамида камней. Со времени моего последнего появления здесь она стала явно шире и выше. Теперь она доходит мне чуть ли не до подбородка. Гаррон утверждает, что в полисе сложился уже целый миф о Богорожденной Деве, которая спустилась с небес, чтобы избавить этот мир от несчастий. Она осенила Гелиос своей благодатью, а после смерти и вознесения стала его небесной заступницей. Люди, женщины в основном, по вечерам приходят сюда молиться и верят, что если принести с собой камень, то их молитва будет услышана.
Гаррон полагает, что это позитивный момент. У нас в Гелиосе стала формироваться некая кровная общность: новое племя, этническое единство, новый народ, можно даже сказать – новая нация. А всякая подобная общность сразу же создает и собственный миф – о своих праведниках, о своих героях, о своем сотворении из исторического небытия.
- Вот увидишь, если нам повезет и мы выживем, а я на это надеюсь, то лет через сто здесь будет воздвигнут грандиозный мемориал – Дева с мечом, в память о божественной воле, давшей нам жизнь.
Ну что же.
Все может быть…
Леда прожила еще около суток. Большую часть времени она пребывала в беспамятстве, но изредка приходила в себя и тогда разговаривала с Семеккой. Мы перенесли ее в одну из комнат мэрии, там сохранился диван, а Гаррон, который почти сразу возник возле нас, раздобыл откуда-то пару полотенец и простыней.
Меня к ней больше не допустили.
Семекка сказала:
- Она не хочет, чтобы ты запомнил ее – такой. Она умирает… Тяжелый процесс… Честное слово, тебе не стоит смотреть на нее…
Так что Леду я больше не видел.
И сильнее всего меня в эти сутки мучило то, что если бы мы сейчас находились в Аркадии, то Леду, вероятно, удалось бы спасти.
В Гелиосе у нее шансов не было.
Она умерла около часа дня.
Семекка вышла из дверей муниципалитета, и по лицу ее стало понятно, что Леды более нет.
Я ничего не знаю о ней. Я не знаю, как Леда жила до встречи со мной, чем увлекалась, чем занималась в Аркадии, влюблялась ли хоть раз, хоть в кого-нибудь, чего вообще хотела от жизни.
Нет, кое-что я все-таки знаю.
Я знаю, что она умела читать. И читала всегда, когда только могла.
Не так уж и мало.
А кроме того, - это уже рассказала Семекка – Леда сама попросилась в пару со мной, узнав, что после разрыва с Ноллой я впал в депрессию.
Обронила тогда:
- Кажется, он умеет любить.
Семекка клянется, что именно такие слова были произнесены.
Наверное, она чего-то ждала от меня.
Может быть, и любви.
Может быть, лишь – одного настоящего взгляда.
Такого, каким сама на меня посмотрела.
Жаль, что я ни о чем не догадывался.
Попросту не успел ни почувствовать ничего, ни понять.
И все же главного в своей жизни она достигла. Она вырвалась из Аркадии, сделав шаг в опасный, жестокий, зато подлинный мир. Вырвалась из декораций картонного счастья и вытащила оттуда меня.
Вот, что я знаю.
А еще я знаю, что Гаррон ошибается. Никакого памятника Небесной Деве здесь, на Холме, не будет. Во всяком случае пока я жив и могу что-то решать.
У нас больше не будет кумиров.
У нас больше не будет богов – ни электронных, ни заоблачных, ни земных, какой бы рай, какое бы благоденствие они нам ни сулили.
Никто ничего не получит даром.
Тем более – счастье, пусть даже оно и для всех.
Хочешь счастья – создай его сам.
А если кто-то посчитает себя обиженным и захочет уйти, что ж, пусть уходит – ищет другую судьбу.
Я достаю из кармана камешек, подобранный на тропинке, и кладу его на верх пирамиды.
Вот, что здесь будет, - просто пирамида камней.
Камешек мой чуть соскальзывает, и через секунду его уже не отличить от всех остальных…
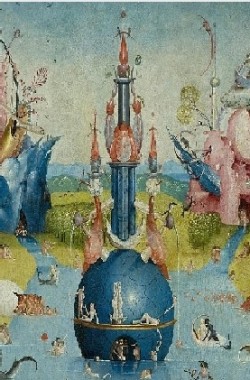


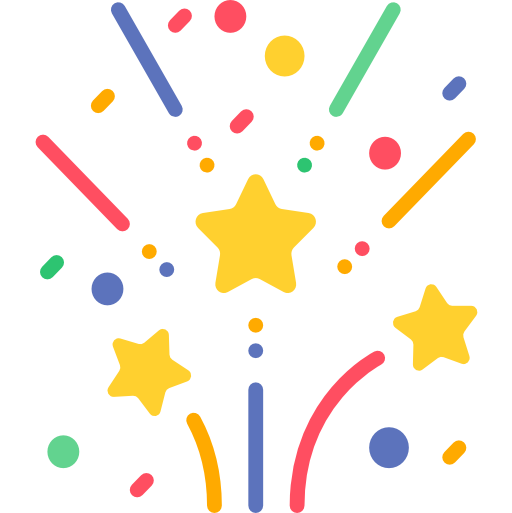


 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

