Читать онлайн "Семнадцать мгновений чумы"
Глава: "Семнадцать мгновений чумы"
Россия, 2049 год.
В продюсерском кабинете киностудии «Гиперболоид-фильм» пахло дорогим кофе, ароматом паники и тонким, едва уловимым запахом тухлой икры, последствием вчерашнего тимбилдинга. На столе среди пустых стаканчиков от латте стоял бокал с мутной жидкостью, похожей на энергетик, смешанный с водой из вазы.
— Не хватает контента, — вздохнул гендиректор студии, Алексей Викторович, листая отчёт о сборах. — Зрители не идут. Они сидят дома. Смотрят что-то. Но не нас.
— Может, они смотрят природу? — предположил креативный продюсер Артём. — У меня вчера на ТВ-3 был ролик: лиса ест кролика под лёгкую фортепианную музыку. Собрал 12 миллионов просмотров.
— Это не контент, это травма, — отмахнулся гендиректор. — Нам нужно нечто… знакомое. Уютное.
— Классику! — вдруг выпалил сценарист Вова, проснувшись ото сна, в котором он писал сценарий к фильму «Война и мир: Реванш космических китов». — Все любят классику. Она держит за счёт ностальгии.
— Классику уже всю пересняли, — зевнул гендиректор, потягивая кофе, который, судя по цвету, мог бы служить эталоном для музейного экспоната «Кофе времен Хрущёва». — «Преступление и наказание» сделали в формате ток-шоу. «Горе от ума» в виде подкаста. «Анну Каренину» в виртуальной реальности... Там можно не только смотреть, как она падает под поезд, но и… нажать кнопку «вместе с ней».
— Но «Семнадцать мгновений весны» никто не переснимал, — прошептал Вова, как будто раскрыв тайну века.
Тишина. Гендиректор медленно поднял глаза. За окном пролетела стая ворон, и одна из них, казалось, сняла это на телефон.
— Боже… — прошептал он. — Ты предлагаешь переснять… классику советского телевидения? Шедевр, снятый как будто Бог лично держал камеру, а Луна светила только для кадра?
— Ну да, — кивнул Вова. — И никто не решался. Мы будем первыми.
— Это гениально, — прошептал Артём, вытирая слезу. — Или чудовищно.
— Гениально и чудовищно, — уточнил гендиректор, уже открывая ноутбук. — Именно то, что любит современный зритель. Он не хочет хорошего. Он хочет, чтобы его шокировали. Чтобы он потом сказал: «Ну, это было плохо… но я всё равно посмотрел».
— А бюджет? — осторожно спросил Вова.
— Бюджет? — гендиректор усмехнулся. — У нас есть 30 миллионов. Из них 20 — на придумывание названия, 5 — на пиар, 4 — на костюмы, и 1 — на сценарий. Остальное — на кофе и моральную поддержку.
— А как назовём?
Гендиректор задумался. Артём вытащил из ящика доску с магнитными словами: «Кровь», «Боль», «Тьма», «Метавселенная», «Рефлексия», «Чума».
— «Семнадцать мгновений чумы», — сказал он, не раздумывая.
— Почему «чумы»? — нахмурился Вова. — Там же не про болезнь.
— Во-первых, метафора, — пояснил Артём. — Фашизм — это чума. Коричневая! Во-вторых, «чума» — это модно. Звучит как экшен-триллер! Мы соберём огромную прибыль!
— Но в оригинале же Штирлиц был геронм. Он спокойный. Он думает. Он… — Вова запнулся.
— Никто не хочет спокойных героев! — перебил гендиректор. — Зритель хочет, чтобы герой кричал в подушку, плакал в душе, и, желательно, имел татуировку с цитатой из Ницше. А «чума» — это ещё и намёк. На то, что мы все заражены. Системой. Маркетингом. Сторисами.
— А «весна»? — не сдавался Вова. — Там же весна. Это символ надежды.
— Кто вообще снимает кино про весну? — фыркнул Артём. — Весна — это для рекламы йогуртов. Нам нужно нечто тёмное. Глубокое. Неудобное. Чтобы зритель вышел из кинотеатра и сказал: «Я не понял, что это было… но, блин, я чувствую».
— А если они просто почувствуют, что их обманули? — пробормотал Вова.
— Тогда они напишут об этом в соцсетях, — улыбнулся гендиректор. — А это будет вовлечением. А вовлечение станет статистикой. А статистика — это деньги.
Через пять минут проект был утверждён. Через десять был зарегистрирован домен semnadcat-chumy.ru. Через пятнадцать в тиктоке появился челлендж: «Сделай лицо Штирлица, когда понял, что это ремейк».
Проект родился. И, как и положено всем великим безумиям, он был обречён.
——
Конференц-зал студии «Гиперболоид-фильм» был похож на место преступления. Только вместо трупа здесь стояли три пустых термоса, окурки в пепельнице и раскрытый ноутбук с презентацией под названием «Семнадцать мгновений чумы: революция в мире сериалов».
На экране горело:
— 1. Герой = Боль
— 2. Злодей = Травма
— 3. Сюжет = Эмоции (в кадре!)
— 4. История = необязательна
— Так, — начал ведущий сценарист, Игорь, бывший филолог, а теперь «дизайнер нарративных потоков». — Оригинал — это, вроде как, про шпиона, который работает в гестапо, но на самом деле советский разведчик. Он молчит. Он думает. Он… сидит.
— И это всё? — ужаснулся стажёр. — Он просто сидит и смотрит в окно?
— Да. Иногда пьёт кофе. Иногда получает радиограмму. Иногда... нет.
— Это же смерть! — взвизгнул креативный директор по визуалу. — Никакого экшена! Никаких погонь! Никаких… эмоций!
— А зритель должен сопереживать, — добавил другой сценарист, Лёва, который в прошлом году написал сценарий к фильму «Баба Яга против дронов». — А чтобы сопереживать, герой должен страдать, как минимум, он должен иметь внутренний конфликт.
— Точно! — подхватил Игорь. — Поэтому Штирлиц будет… несовершеннолетним! Или...Несовершенным?
— То есть?
— Ну… он будет теряться. Путать пароли. Может, даже случайно передавать немцам настоящие секреты.
— Но это же предательство! — воскликнул Лёва. — Он же герой!
— Нет, это сложный герой, — пояснил Игорь, как будто объяснял первокласснику теорию относительности. — В 2049 году зритель не хочет идеальных людей. Он хочет, чтобы герой спотыкался, плакал, имел проблемы с самооценкой. Чтобы мы видели: «О, он такой же, как я, только в кожаном пальто».
— Отлично! — сказал стажёр. — А давайте ещё сделаем, что он боится темноты? Или страдает от синдрома выгорания?
— Лучше, чтоб он боялся мышей, — предложил кто-то. — А в сцене с радиограммой в кабинете появляется мышь. Он в панике. Сжигает документы. Актёр играет панику. Камера крупно. Эмоции!
— Гениально! — закричал креативный директор. — Это же метафора! Мыши — это страх. Страх быть раскрытым. Страх… несоответствия.
— А ещё он может случайно работать на немцев, — добавил стажёр. — Например, в один день он по ошибке раскрывает шифр, а потом понимает: «О, блин, я только что помог им победить в битве под Курском».
— Это не ошибка, это арка трансформации, — сказал Игорь. — Он проходит путь от предателя к герою. Или наоборот. Или туда-обратно. Главное, чтобы было рефлексивно.
— А как же его миссия? — робко спросил Лёва. — Он же должен передавать информацию в Москву?
— Передавать? — Игорь фыркнул. — Зачем? Пусть сначала разберётся с собой. У него же травма детства!
— Какая травма?
— Ну… его мама не любила его. Или любила слишком сильно. Или он в детстве уронил мороженое, и с тех пор боится ответственности.
— А может, он просто ненавидит кофе? — предложил стажёр. — А в гестапо его заставляют пить раф.
— Это слишком. Но… — Игорь задумался. — А давайте сделаем, что он аллергик на немецкий язык. При произношении «Хай Гитлер!» у него начинается насморк, и он чихает. В кадре. Крупным планом. Это же эмоции!
— Это же будет смешно, — нахмурился Лёва.
— Зато правдиво, — парировал Игорь. — Современный зритель ценит аутентичность. Даже если она в чихании.
— А Мюллер? — спросил кто-то. — Он же злодей.
— Ну да, — кивнул Лёва. — Он подозревает Штирлица. Он преследует. Он является угрозой.
— А мы сделаем его многогранным, — объявил Игорь.
Тишина. Кто-то уронил ручку. Она покатилась по полу.
— То есть?
— Он не злой. Он просто… непонятый обществом!
— О!
— Например, него была травма детства, — сказал кто-то.
— Ну и какая? — скептически хмыкнул Лёва.
— Его отец не хвалил его за учебу. Или хвалил слишком громко. Или, наоборот, молчал. Это сломало его, — ответил Игорь.
— А может, он просто ненавидит Штирлица, потому что тот… выпил его последний раф-кофе в кафе «Элефант»? — предложил стажёр.
Все замерли.
— Гениально, — прошептал Игорь. — Это же личная драма. Война не из-за идеологии. Война из-за кофе!
— А в финале он смотрит на пустую чашку, — добавил кто-то, — и говорит: «Ты забрал у меня не только кофе… ты забрал мою веру в людей».
— Крупный план, слёзы. Фон: закат. Музыка — арфа и бас-гитара, — снова предложил стажёр.
— А потом он стреляет… но промахивается. Потому что рука дрожит. От кофеинового голодания...
— Это не фильм, — сказал креативный директор, вытирая слезу. — Это искусство.
— А где женщина? — вдруг спросил стажёр.
— Какая женщина? — ответил вопросом на вопрос Игорь.
— Ну… сильная женская роль. Без неё сейчас никуда, — точно заметил стражёр.
— В оригинале женщины почти нет, — вздохнул Лёва. — Только жена Штирлица в воспоминаниях. И тётка в кафе.
— Значит, мы создадим! — Игорь встрепенулся.
— И кто это будет? — спросили из дальнего угла.
— Официантка из кафе «Элефант», — осанка стажёра выпрямилась, он возгордился тем, что причастен к такому великому событию.
— И что она делает? — Лёва почесал небритый подбородок.
— Она ломает систему. Она видит, что Штирлиц не такой, как все. Она передаёт ему кофе с секретом. Внутри будет флешка. Или… кусочек сахара с надписью «СССР».
— А потом она вступает в сопротивление? — с восхищением крякнул стажёр.
— Нет. Она увольняется и открывает своё кафе. «Элефант. Перезагрузка». С экологичной посудой и веганскими пончиками, — Игорь улыбнулся, потирая руки. Он уже предчувствовал ту великую премьеру.
— Это же не про войну! — возразил Лев.
— Это про эмансипацию. Про то, что даже в 1943 году женщина может быть… боссом, — ответил Игорь.
— А в финале она смотрит в камеру и говорит: «Я не хотела войны. Я хотела справедливого латте».
— Эпично, — сказал Игорь. — Добавим в трейлер.
К концу совещания сценарий был «осмыслен». Штирлиц оказался неуверенным в себе, страдающим от аллергии и кофейной вины. Мюллер был жертвой токсичного отца и недостатка раф-кофе. Официантка стала символом феминистского сопротивления. А сюжет — просто фоном для «эмоций в кадре».
— Осталось только решить, — сказал Игорь, закрывая ноутбук, — какой у нас жанр.
— Драма, — сказал Лёва.
— Триллер, — сказал креативный директор.
— Комедия, — пробормотал стажёр.
— Абсурд, — прошептал кто-то в углу.
— Нет, — улыбнулся Игорь. — Это мета-рефлексивный пост-драматический контент-эксперимент с элементами ностальгии и вовлечением через дискомфорт.
— Звучит дорого, — кивнул креативный директор. — Поставим цену на билет выше.
Через час сценарий был отправлен режиссёру. С пометкой: «Плакать в каждом кадре. Даже если герой заваривает чай».
——
На съёмочной площадке студии «Гиперболоид-фильм» царил тот особый хаос, который бывает только тогда, когда много людей с разными задачами пытаются создать искусство, но в итоге получают что-то, напоминающее аварию на химическом заводе.
Площадка была оформлена под Берлин 1943 года, но с современным уклоном: фонари светили синим светом, как в клубе, на стене висел плакат с надписью «Нацизм — это не решение», а где-то в углу стоял дрон с камерой, который, по замыслу режиссёра, должен был «снимать реальность глазами мыши из прошлой сцены».
Режиссёр, молодой и амбициозный выпускник ВГИКа по специальности «Арт-кино и цифровая травма», стоял на возвышении в кожаной куртке, чёрных очках и наушниках, хотя музыки не играло. Он говорил в мегафон так, будто обращался ко всему проклятому миру.
— Нет, нет, не так! Штирлиц — он же рефлексирующий! Он не просто сидит и думает, как в том убожестве 73-го года! Он должен страдать! Он должен сомневаться! Он должен внутренне кричать! — он поперхнулся. — Мы должны чувствовать евоную боль!
— Его, — подправила какая-то девушка.
Актёр, игравший Штирлица, бывший дублёр Юры Борисова и лауреат премии «За лучшую мину» на фестивале «Кино без слов», нервно поправил галстук и спросил:
— Но… он же разведчик. Он не может просто сидеть и плакать в камеру. Это же шпионаж. Это же… дисциплина.
— Это кино 2040-х! — вскричал режиссёр. — Все должны плакать в камеру! — он побагровел.
— Но у меня в сценарии написано: «Штирлиц делает сторис для Геббельса». Это вообще возможно? Он же в 1945 году!
— Это контент, — холодно ответил режиссёр. — Штирлиц — не просто шпион. Он стал инфлюенсером глубокого тыла. Он снимает сторис: «Как я пережил очередной день в гестапо, не сойдя с ума». Ставит фильтр «Ностальгия по СССР». Пишет: «#шпион #одинвстрою #москва #кофесутра».
— А Геббельс это… кто?
— Глава советской разведки. Он в телеграме. Он ставит лайк. Иногда... дизлайк, если Штирлиц не тот угол выбрал для съёмки.
Актёр молча сел на стул. Потом встал. Потом сел снова. Потом начал тихо плакать. По сценарию? Нет. По ощущениям — да.
---
В другом углу площадки разворачивалась драма, достойная отдельного фильма. Оператор, бывший киноман и фанат Тарковского, стоял у камеры и смотрел в видоискатель с выражением человека, только что узнавшего, что его бабушка была главным спонсором фашизма.
— Всё должно быть в тёмных тонах, — говорил режиссёр. — Никакого уюта. Никакого света. Никакого кафе «Элефант»!
— Но это же кафе! — возразил оператор. — Там люди пьют кофе. Там уют. Там… солнце.
— Солнце — это старый пережиток! — закричал режиссёр. — Нам нужна атмосфера чумы! Всё должно быть в сером. Всё мрачно. Всё, чтобы зритель чувствовал: «Я не хочу здесь быть, но я не могу оторваться».
— Но тогда непонятно, где происходит действие! — почти плача, сказал оператор. — На улице? В подвале? В аду?
— Так и надо!— торжествующе воскликнул режиссёр. — Зрителю должно быть некомфортно! Это же погружение! Он должен чувствовать, как Штирлиц понимает: «Я один. Я враг. Я… не знаю, где я».
— А можно хотя бы включить одну лампу?
— Только если она мигает. И если от неё идёт запах гари, — нервно разрешил режиссер и, повернувшись на сто восемьдесят градусов, ушёл наставлять на путь истинный других.
Оператор медленно опустил камеру. Потом достал из кармана флешку с черновиком оригинального «Семнадцати мгновений» и поцеловал её. Как будто прощался.
---
Ассистент режиссёра, девушка по имени Аня, которая мечтала снимать документальное кино о дельфинах, судорожно листала сценарий.
— Мы вообще уверены, что этот эпизод с танцующим гестапо будет хорошо воспринят?
— Это же символизм! — ответил режиссёр, не отрываясь от монитора. — Танцующий фашизм. Это абсурд власти, это будет визуальная рефлексия.
— Но они же танцуют под трек Happy Birthday to You, — возразила Аня.
— Тем более! — вскричал режиссёр. — Это контраст, это ирония! Это постмодерн! Они танцуют, но их движения будут жёсткие, как шаги марша. Они хлопают в ладоши, но с выражением лица, как будто их только что приговорили к смерти.
— А почему Мюллер в финальной сцене танцует с плюшевым зайцем?
— Это его внутренний ребёнок! Он танцует с тем, кем он мог бы быть, если бы его отец не говорил: «Ты не достоин раф-кофе»!
Аня закрыла сценарий. Она больше не верила в кинематограф, она верила только в дельфинов.
----
Последний день съёмок. Главная сцена, финальный монтажный кадр, который должен был «взорвать интернет».
Штирлиц стоит на платформе. Поезд уходит. Он смотрит вслед. Но вместо трогательной грусти — хромакей.
— Включить метавселенную! — крикнул режиссёр.
На заднем плане вспыхнул цифровой Берлин. Появились аватары. Один в форме гестапо, но с кроссовками Nike. Другой — Шефлендер в виде дракона с логотипом Telegram на крыле. Третий, мышь из первой серии, теперь в очках и с микрофоном.
— Штирлиц, — сказал режиссёр, — теперь ты должен выйти из тела, — вдруг сказал режиссер.
— Что? — удивлённо переспросил актёр.
— Твой аватар должен взлететь. Пройти сквозь облака. Встретить свою цифровую душу. И сказать: «Я не знал, что чума — это метафора моей боли».
— А потом?
— Потом ты делаешь репост вечности.
Актёр молча кивнул. Он уже давно перестал понимать, где заканчивается сюжет, а где начинается бред.
---
Когда премьера прошла, отзывы были очень … интересные.
— Наконец-то свежий взгляд на классику! — написал блогер с 500 тысячами подписчиков, зарабатывающий на рекламе «элитного» энергетика. — Штирлиц — не герой. Он... простой человек. И это делает его сильнее.
— Это не ремейк. Это надругательство, — написал кинокритик, которому было стыдно за свою профессию. — Вы стёрли достоинство, вы заменили смысл трендами. Вы превратили Штирлица в сторис-блогера. За что?
— Почему Мюллер рефлексировал? — недоумевал третий. — Он же злодей! Он же фашист! Он же… ну, в общем, он же Мюллер!
Фильм провалился в прокате. Сборы были меньше, чем стоимость кофе на съёмочной площадке за неделю. Но зато он ненадолго стал мемом.
В тиктоке появился челлендж: «Попробуй повторить танец гестапо под Happy Birthday to You, но с серьёзным лицом». 7 миллионов просмотров. В «ВКонтакте» состоялся опрос: «Что хуже: фильм или ваша прошлая работа?» Большинство выбрало «фильм».
---
А через два месяца студия «Гиперболоид-фильм» анонсировала новую экранизацию.
На экране чёрный фон. Медленно появляется текст: «Место встречи изменить нельзя… во вселенной Властелина Колец. В апреле, во всех кинотеатрах страны!»
Голос за кадром, как у пророка из прошлого:
— Он вернулся, не в Москве, не в двадцатом веке. Он в Средиземье. Он — в вашем сердце. И он требует… встречи.»
Пауза.
— «#местовстречи #изменитьнельзя #номыпопробуем»
Зрители застонали. Сценарист Вова, сидя дома, открыл бутылку дешёвого вина...
— Они не остановятся, — прошептал он себе под нос.
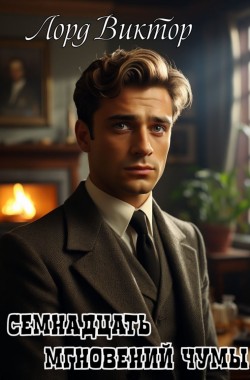







 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

