Читать онлайн "Короткое свидание"
Глава: "Глава 1"
Свидерский Сергей Владиславович
КОРОТКОЕ СВИДАНИЕ
(События и персонажи выдуманы, совпадения с реально существующими лицами случайны.)
Произведение не окончено
Часть первая
НИНА
1
Никогда прежде, как добираться из Якутска в Москву выбора передо мной не стояло. Покупал билет на самолёт; шесть часов утомительного полёта под размеренный гул турбин и вот тебя встречает аэропорт Внуково, город Москва. А именно в этом году такая сомнительная мыслишка закралась в мои думы и пустила ростки.
И начал я задумываться над этой дилеммой, что было тут же замечено друзьями и сослуживцами. «Миша, - спрашивали те и другие, - какой думой загрузился и пребываешь в печали?» Легко им спрашивать! А вот попробуй ответить легко, быстро и непринужденно. Поначалу отмахивался и отнекивался: «Мелочи; лёгкая прострация». А вот придя домой, и рюмкой ирландского купажированного самогона сняв дневное напряжение, смотрел в тёмную даль окна, на севере крайнем день и ночь принципиально неотличимы, и впадал в задумчивость. В итоге, когда расспросы друзей наскучили до вкуса редьки, выдал: «Так, мол, и так – говорю им, - хочется при поездке в отпуск внести хоть какое-то разнообразие. А то всё время самолётом да самолётом; из Якутии быстро добраться на материк, в прежние времена только так и говорили, можно именно так».
– Вот те на! – ответили друзья. – Миша, не забывай про такой вид транспорта, как поезд; от Нерюнгри до Москвы пять суток пути, но зато какие незабываемые впечатления; попутчики добродушные и разговорчивые, это если повезёт; страну всю увидишь почти от Тихого океана и до самого Балтийского моря, не забудь только взять фотоаппарат; заодно отдохнёшь в дороге, выспишься. Знаешь, как крепко спится под перестук колёс?
Мне да не знать, как спится! Из Москвы в Донецк зачастую доводилось добираться именно поездом, чаще скорым; реже – пассажирским; романтика! А интересные попутчики встречались постоянно; тут Судьба благоволила ко мне.
Во время одной дружеской попойки решился и громогласно заявил:
– Решено, черти! уболтали! Буду ехать поездом. Действительно. Когда ещё придётся пересечь всю страну, смотря на её красоты из окна купе.
– Мишань, – возразили мне, – для полноты ощущений и пущей радости нужно ехать в плацкарте; но если хочешь комфорта, тогда бери купе или СВ.
– Ага! – произношу задумчиво. – СВ! это замечательная идея!
И начал настраивать себя к длительному путешествию в Москву: мистично, оптимистично и радостно.
Определился с датой отпуска; написал заявление и отнёс кадровику Полине Аркадьевне, старушке божьему одуванчику, вечно бухтя, всегда чем-то недовольная, тем не менее, она упорно держала свои рабочие позиции и никому сдавать не собиралась.
В чем была причина её рабочего долгожительства?
Одни говорили, есть родня в составе учредителей, другие утверждали – контрольный пакет у неё в руках; но мне кажется, дело в ней самой: как бы Полина Аркадьевна ни бухтела-ворчала, понося всех и вся, давая перцу и генеральному, работу любила, знала чётко. Ночью разбуди и спроси, выпалит как автомат на какой полке, в каком шкафчике находится нужный документ; за прошедшие десять лет она помнила наизусть все приказы по предприятию; у нынешней молодёжи такого усердия не наблюдается.
– Что, Михаил, в отпуск собрался? Заявление ещё б до Нового Года принёс. – В своей привычной манере встретила меня Полина Аркадьевна.
– Вам работу облегчаю, Полина Аркадьевна. – Кладу на стол плиточку горького шоколада от Коркунова.
– Вот сиди я дома, ты за меня всё тут делай, а денежки я получай – от такой помощи не отказалась бы, - шоколад исчез в чреве стола. – Ладно, иди; поедешь в свой отпуск как положено, лягушка-путешественница.
Для себя решил, будет СВ, выкуплю купе и вот тогда это будет отдых в пути. В купейных вагонах остались только верхние места; в СВ – одно место. «Ну, что ж, – решил для себя, – такой вариант тоже неплох». Домой возвращался, купив в магазине бутылку виски, отметить это радостное событие.
***
С февраля по конец апреля жил в предвкушении то ли эйфории, то ли ещё чего-то сверх приятного.
Ночью снились сны, в основном дорога; я одет легко и практично; мерным шагом отмеряю вёрсты, не ведая устали. Впереди огромные пространства земные, упирающиеся и теряющиеся где-то за горизонтом, также позади - километры пройденных дорог и направлений.
Последний день работы пришёл незаметно; сослуживцы ненавязчиво напомнили, что нужно обмыть отпуск, чтобы дорожка была лёгкая.
В кабинете накрыли стол; ассортимент вина и водки повторил магазинный, колбаса, балык и прочая снедь выставлена на стол в разовых тарелках, расставлена посуда под питьё.
Первую выпили за удачно отработанный год, правда, без премиальных, что несколько снижало градус праздничности при ежемесячном денежном вознаграждении за труд.
Вторую за виновника торжества; я взял слово, старался быть кратким, но увлёкся и растянул речь на двухсерийный индийский фильм с песнями и танцами и счастливым финалом; попытки слушателей жестами дать понять, регламент исчерпан, отметал не менее красочными и убедительными фигурами рук.
И вот апофеоз: «Спасибо за внимание».
В кабинете тишина.
Пытливо так интересуюсь: «Что застыли? Выпьем!» третью и последующие помню смутно; тосты и темы были настолько разнообразны, вспомнить их дело затруднительное. Да и не к чему!
Ближе к полуночи, осоловевшие, порядком раздобревшие и прилично опьяневшие, самые стойкие из оставшихся единодушно решили: пора закругляться. Быстро засобирались домой, вызвали такси; на прощанье, сказав: «Удачи!», удалились.
Посмотрев на остатки пиршества, философски заключил, уберут сами, пошел домой.
На выходе зацепился языком с охранником и проболтал с ним полчаса. Добираться решил пешком; погода весь день стояла солнечная, май радовал теплом; изредка небо затягивали редкие облачка, но они сразу разгонялись резвым весенним ветерком и снова ярко светило солнце.
– Миша! – снова тормознул охранник. – Может, всё-таки, вызвать такси. На грудь ты принял достаточно; мало ли, какая неприятность случится в пути; время нынче, сам знаешь какое.
– А! – махнул я рукой. - Толик, и средь бела дня можно на звездюлину нарваться. Я – человек мирный…
–… с бронепоездом на запасном пути, – закончил Толик.
И мы рассмеялись.
– Видишь, ты и сам всё прекрасно понимаешь, – я спустился с крыльца и бодро зашагал по дороге.
Ночное небо было украшено легкими облачками, немного подкрашенными в багровые тона последними лучами зашедшего солнца – северные ночи больше вечер, чем ночь; приятно освежал лицо свежий бриз.
– Так, может, все же такси! – крикнул Толик в спину. – Доберёшься быстро, спать ляжешь. Утром бодрым и счастливым поедешь отдыхать.
– Нет! – отреагировал я вяло на его назойливость. – Спасибо за заботу, Толян, но уж если решил пешком, никто не заставит решение поменять. И никакое соблазнительное предложение: «А может…» не будет иметь успеха.
Махнул ещё раз рукой и двинул пёхом; размеренно шагая, напевал под нос песенку:
– Идут, идут три курицы, шагает впереди вторая за первою, а третья позади; а я одна сидю на плитуарте и видю, что: идут, идут три курицы…
И так далее.
Где можно, срезал путь. Шёл через дворы. Возле некоторых подъездов кучковалась молодежь, сидя на перилах юноши и девушки пили пиво, нещадно дымили сигаретами, о чём-то довольно громко спорили и смачно выражались матерно. Вслушиваться в их речь смысла не было, так как она наполовину нашпигована сленгом, как буженина морковью и чесноком.
В пути пару раз утолял жажду пивом; во втором часу ночи открыл дверь ключом и как был в одежде, завалился спать, успев на тонкой грани сна и яви снять туфли. За минуту до звонка будильника открыл глаза и сказал себе: «Доброе утро, ясновельможный пан отпускник!»; принял душ, привёл себя и мысли в порядок; ещё раз проверил саквояж на предмет, не забыл ли чего: всё было на месте.
2
В девять тридцать, в компании шестерых попутчиков, выехал навстречу приключениям в славный город Нерюнгри. Впереди нас ожидали почти сутки тряски по идеальной дороге, которыми так знаменита русская земля, с дремучей древности до наших дней, когда полёт на Луну скоро станет обыденностью; когда из Якутска в Москву полет занимает шесть с половиной часов; когда при помощи мобильного телефона можно связаться с любой точкой мира; наши дороги готовы радушно принять дикие орды любвеобильных кочевников и миролюбивых крестоносцев.
Да что говорить! русские дороги, что грунтовые, что заасфальтированные все ещё радуют российского автолюбителя ухабами, ямами и рытвинами. И какие бы титанические усилия не принимались властью, какие бы многонулевые суммы не вкладывались в ремонт дорог - российские дороги будут направлениями с легким шармом и колоритом. Будут и впредь оставаться труднопроезжими для любого вида транспорта – национальной гордостью.
Виды из окна маршрутки открывались великолепные: снег сошёл, и повсюду весело зеленела трава. Кое-где в затенённых ложбинах, куда днём с трудом проникал солнечный свет, все ещё лежал грязно-белый слежавшийся снег. Сосны и ели украсились свежей хвоей. Березы и тополя, одиноко и группками растущие по обе стороны трассы, шурша изумрудной листвой, радостно встречали и с грустью провожали проезжающие машины.
В пути было две больших остановки: в Томмоте и Алдане, где аппетитно отобедали в придорожном кафе. И пара непродолжительных по времени между ними, размять ноги и полюбоваться природой.
А уж любоваться было на что: между Томмотом и Алданом с гор стекали ручьи и горные речки; обширные пространства занимал зеленеющий тальник; за Алданом тальниковые заросли сменили густые березовые и тополиные рощи.
На самом подъезде к Нерюнгри, тайга заполнила всё видимое взгляду пространство. Сумерки взорвали день! Свет фар освещал дорогу. На безоблачном небе ярко засияли звёзды и, грустно повисла Луна, глядя унылым взором на спящую землю, лия на неё серебристый магический свет. Ровно в полночь закончился наш вояж и связанные с ним мучения. Пропев тормозами восхитительный туш, микроавтобус остановился возле железнодорожного вокзала города Нерюнгри.
Вокзал представлял собой здание, построенное в стиле позднего социалистического классицизма пятидесятых годов прошлого века. Высокие арочные окна; кирпичные стены выкрашены в синий и белый цвета; крыша двускатная, жестяная, никаких модных сейчас ондулина и мягкой черепицы. Здание имело два входа-выхода на перрон и в город; внутри единственный зал ожидания с пятью рядами металлических кресел для пассажиров; в зал выходят три окошка билетных касс; линейное отделение милиции расположено с торца.
Внутри нет буфета и ресторана, зато находятся два автомата для продажи горячих напитков и бульонов.
Ожидающих пассажиров было мало, большинство разместились, видимо, в расположенной неподалёку гостинице; на улице делать было нечего, рынок закрыт и мне он был ни к чему. Всё необходимое купил заранее и в малом количестве; питаться был намерен в вагоне-ресторане; предусмотрительно взял с собой на первое время лапшу «Доширак», для пищевого разнообразия и малой экономии средств.
Примерно час сидел внутри вокзала, разгадывая кроссворд и подремывая по ходу дела. Пару раз выходил освежиться под прохладным ветерком, гадая, кто будет моим попутчиком. Согласитесь, от этого зависело, как проведу в дороге время: скучно или весело. Долго на этой мысли рационально не зациклился; возвращался в зал к увлекательному разгадыванию шарад и загадок.
В пять пятнадцать утра поезд отошел от перрона. Из громкоговорителя бодро звучал марш «Прощание славянки», провожая нас радостно в путь. Я прошёл в купе, на данный час предстояло ехать одному и вопрос: «Кто мой попутчик?» дамокловым мечом продолжал висеть в воздухе. Расстелил постель, чувствуя усталость, хотел отдохнуть. Взял у проводницы стакан, в купе налил на два пальца виски, запасливо взял в дорогу пару бутылок, и выпил залпом. Улёгся; приятное тепло растеклось по телу; послевкусие от виски мощным снотворным подействовало на уставший организм. Уснул моментально; вагон покачивался, будто колыбель качала нежная материнская рука. И дорога навеяла сны…
– Ау-у-у! – кричу я, что есть мочи.
– У-у-у! – полетело эхо со всех сторон, отражаясь от стен домов.
– Эгей! Есть кто живой? – снова крикнул я и пнул жестяную банку ногой.
Банка покатилась по тротуару, подняв шум. Мелкими осколками эхо рассыпалось и зазвенело.
Нахожусь в незнакомом городе. Стою посреди проспекта, оба его конца теряются в туманной перспективе на горизонте; справа и слева расположены дома, они поражают взгляд жемчужной белизной стен; окна домов наглухо зашторены; двери подъездов закрыты, бронзовые ручки блестят в лучах восходящего солнца, радостно отражая его лучи. Асфальт и тротуарная плитка мокрые, видимо, недавно прошел дождь, но в воздухе нет той освежающей нотки, которая обычно бывает даже после непродолжительного ливня. Трава на газонах коротко скошена; на стеблях сияют бисеринки воды, словно кто-то разбросал щедрой рукой маленькие алмазы; декоративные кусты подстрижены в форме идеального шара и ни одного деревца…
Подхожу к двери подъезда ближайшего дома, пытаюсь открыть. Попытка напрасна. Дверь крепко заперта изнутри на засов. Иду к следующему подъезду, повторяю попытку: двери повсюду закрыты. И странная гнетущая тишина давит на слух… С досады ударяю ногой дверь со всей силы: звук растворяется внутри глухой пустоты дома.
– Чёрт возьми! – возмущаюсь я. – Что за…
Не успеваю закончить. Сверху на меня опускается легкая серебристая шаль. По телу пошли иголки, будто через меня пропустили электрический ток. Встряхиваю плечами, пытаюсь сбросить шаль. Неприятная свинцовая тяжесть наливает ноги, хочу сделать шаг и не могу. Силюсь поднять руку, как она тяжелеет мгновенно и повисает плетью. Верчу шеей, вращаю глазами, взор заволакивает красный туман. Смешная мысль проскакивает в мозгу: «Красный закат к ветреному дню». Опускаюсь на землю. Тошнота подходит к горлу; захожусь в кашле, сухом и режущем гортань и, выплевываю, наконец, комок неприятного желтого цвета. Сразу становится легче; в глазах проясняется; тяжесть покидает тело. Становлюсь на четвереньки, голова все ещё кружится и, вдруг слышу звук приближающегося автомобиля.
Быстро отползаю к стене дома, осматриваюсь по сторонам и не вижу никакого авто. Возле меня раздается противный визг тормозов. Удар, скрежет металла, сверху на меня посыпались мелкие оконные стекла. Закрываю глаза, чтобы уберечь их от острых осколков…
***
Поезд резко качнуло, и он замедлил ход. Выглянул в окно – станция Тында.
– Сколько продлится стоянка? – спрашиваю у проводницы.
– Три часа, – отвечает та, – можете выйти, сходить в магазин. Купить, что забыли.
Смотрю на бейджик, написано: «Яшкина Татьяна Петровна, проводник».
– Татьяна Петровна, а если я ничего не забыл? что тогда посоветуете?
– Обращайтесь ко мне, не особо беспокоя по пустякам.
– Чай-кофе? – продолжаю разговор.
– Несомненно. В вагоне-ресторане днём комплексные обеды. Не нравится - меню не хуже ресторанов, - проводница остановилась. – Вы откуда?
– Из Якутска.
– Мало, похоже. Да, в Якутске не была, но не хуже, чем в ресторанах Владивостока или Хабаровска. – Закончила Татьяна Петровна и начала движение от меня.
– Постойте! – беру её за руку. – Вы сказали: «Мало похоже», это вы на что намекали? Не похож на якута? Так позвольте, в Якутии не одни якуты живут, состав жителей многонационален, как и наша Родина - Россия.
– А вы не хохол, случаем? – усмехнулась Татьяна Петровна.
– Украинец с польскими корнями, – отвечаю. – Это что-то меняет?
– Дорогой гражданин пассажир польский украинец, повторяю лично для вас, – она посмотрела на часы. – Стоянка длится три часа… у вас в запасе – два часа тридцать минут. Всего хорошего!
Проводница вошла в вагон; посмотрел ей вослед и подумал одобрительно: «Хороша штучка!»
Но тут вернули меня к себе мои бараны: понял, что нахожусь под гипнотическим воздействием сна и никакой трёп с проводницей не был отвлекающим маневром. К чему вся эта чепуха в самом начале пути? что сон хотел сказать, от чего предостеречь – непонятно. В вагон никто не вошел, и я так понял, что придётся ехать ещё какое-то время, действительно, в приятном одиночестве. Никуда не пошёл, ходил по перрону и наслаждался весенними видами Южной Якутии и совершенно ни о чем не думал, позволил себе такую роскошь. Время стоянки пролетело незаметно. Спотыкающийся свист локомотива известил о скором отправлении. О том же сообщил приятный женский голос из станционного репродуктора.
– Мужчина! пассажир польский украинец, - с учтивой язвительностью обратилась ко мне проводница Таня. – Поезд отправляется; или вы решили остаться?
– Разве можно себе позволить остаться здесь и без вас? умру от скуки! – быстро протиснулся мимо неё в вагон.
– Такие, как вы ни от скуки, ни со смеху не умирают! – хохотнула Таня мне в лицо.
– Спасибо, – говорю ей.
- За что? – удивилась Таня.
– За правдивую, непредвзятую характеристику, – объясняю я. – В большинстве своём мы, люди, льстецы и лгуны. И как ни странно, это не мешает многим мирно уживаться со своей совестью.
Таня посмотрела на меня продолжительным, изучающим взглядом.
– Либо я что-то не поняла, либо… причём тут совесть?
– Ничего страшного, – успокоил я Таню. – За пределами непонятности лежит ключ к разгадке. – И прошёл в своё купе, с первой минуты, ставшее почти родным домом.
Поезд плавно начал ход, без дёрганья и резких толчков. Едва заметно заплескался виски в бутылке на столе. Снова налил в стакан на два пальца; на этот раз выпил медленно, смакуя во рту каждый глоток; затем закусил фисташкой, лёг, взял в руки книгу и незаметно для себя задремал.
3
Над морем, крича визгливо и протяжно, кружатся чайки. То пролетают над самой водой, касаясь крылом пенной волны, то резко взлетают в выгоревшую изумрудную высь неба.
Юг! море! пляж! жара!
Горячие волны набегают на берег. Расплавленный воздух обволакивает тело. Расположился удобно на лежаке, расслабился. Кручусь, временами подставляя под жаркие лучи то один бок, то другой. Красота! Такого отдыха жаждал давненько, но всегда что-то мешало. Одни не предсказуемые вводные, как в армии: «Взвод! вспышка справа; отделение, вспышка слева!» А тут, лепота! поначалу было немного не по себе; острое ощущение забытости и покинутости не оставляло ни на миг, ощущение странное и приятное. Мобильник отключил, удалил батарею: – Всё! Я потерян в пространстве для всех.
Вокруг кипит суетливая жизнь отдыхающих, не лежится им на одном месте; рядом интересная компания, семейка неугомонных спортсменов, только вышли из воды, как раздаётся возглас: «А давайте сыграем в волейбол в воде!» и бултых, в изумрудную зелень волн, со щенячьими криками и кошачьими визгами, глаза полны бесконечностью радости и беспредельностью восторга.
«Пусть им! – думаю лениво и переворачиваюсь на другой бок. – Меня не беспокойте, черти неугомонные».
Дремлю. На лицо падает тень. Приоткрываю глаза: загораживая солнце, стоит невысокого роста, полный, круглый как мячик, мужчина в соломенной шляпе, лихо сдвинутой на затылок, открывая глубокие залысины. В соколке белого цвета и светло-синих бриджах; руки в карманах брюк. Вид его источает благодушие; на полном лице задорно блестят глубоко посаженные глаза, между щёк теряется широкий нос; нижняя губа немного оттопырена, указывая на капризный характер.
– Мешаю? – улыбается незнакомец, обращаясь ко мне.
– И что с того? – отвечаю, намеренно растягивая гласные.
– Представьте себе, – ничего! – незнакомец растянул рот в улыбке, обнажив два ряда белоснежных зубов.
– Потрясен; что дальше? – я приподнялся на лежаке, облокотился на правую руку, ладонью левой, козырьком, прикрыл глаза от солнца. – Was wollen Sie, herr Doppelganger?
Незнакомец явно игнорирует мой вопрос.
– Как бы вы отреагировали, если бы все вокруг внезапно исчезло? – и описал круг рукой.
– Вот так сразу, – вопрошаю я, – раз, и в дамки?
– Отчего бы и нет! – незнакомец расстегнул соколку, явил миру приличных размеров пивной живот. – Как по мановению волшебной палочки, – и резко меняет тему. – Согласитесь, излишняя жара вредна чрезвычайно.
– Так вот ты какой – олень лесной! – восклицаю я неподдельно. – Фокусник, инфернальная смесь Кио и Акопяна! Жара для связки слов в предложении?
– Не только, уверяю вас, – незнакомец слегка наклонился, насколько позволял живот, – я намного талантливее каждого из них и даже вместе взятых. Хотите убедиться?
– Знаете, чего не хватает именно сейчас, так это убедительных доказательств, – пытаюсь съехидничать. – Демонстрируйте ваши фокусы, престидижитатор.
– Извольте! – незнакомец начинает совершать пасы руками.
Затем останавливается и хорошо поставленным голосом произносит:
– По убедительным просьбам зрителей, представление продолжается!
Незнакомец преобразился, из добродушного, располагающего к себе толстячка, превратился в фигуру-мумию: черты лица вытянулись и обострились, хищно изогнулся нос, губы вытянулись в две тонкие ниточки; с ланит сошёл румянец, кожа посерела и по лицу пошли морщины; светлые одежды стали черным балахоном.
Незнакомец резко выбросил вверх руки, развёл в разные стороны и брызжа слюной, выкрикнул:
– Чундра-чучундра! Ундра-учундра! Ндра-чундра!
На солнце набежала тень. Ощутимо похолодало. С моря потянуло дождевой сыростью, запахом гниющих водорослей. В воздухе повисли маленькие пузырьки, переливающиеся всеми цветами радуги. Повисев неподвижно в воздухе, пузырьки начали медленно, один за другим, лопаться. С каждым лопнувшим пузырьком исчезал один небольшой фрагмент мира: лопнул один – летит чайка без одного крыла, другой – волна накатывает на пустоту, туда, где был песчаный берег, лопается третий – я увидел над своей головой в появившейся черной дыре огромные ночные звёзды и горячий пот острым холодным лезвием прошёл между лопаток.
И пошло-поехало…
Мир, яркий и солнечный, наполненный жизнью, начал исчезать. Его место занимали чёрные глубины космической пустоты. Я уже разглядел и узнал появившийся ковш Большой Медведицы, Вегу, Стожары. Увидел далёкий свет, идущий от умерших звёзд и исчезнувших туманностей. Через некоторое время посреди чёрной пустоты остался небольшой пятачок песчаного пляжа, где я сидел на лежаке и рядом со мной незнакомец. Он беспристрастно наблюдал за происходящими переменами.
– Хочу поинтересоваться, – обращается ко мне незнакомец, – смутны мои предположения, только вы в силах развеять их: вы довольны происходящим?
Молчу, не отвечаю, ибо уверен, это всё сон. А во сне может произойти всё, что угодно - на то он и сон. Но понимаю, незнакомец ждёт от меня ответа и именно от него зависит исход событий. Сажусь на лежаке, ноги повисают в пустоте. Подошвами ног чувствую ледяное прикосновение вечности; по телу прокатился озноб цунами.
– С удовольствием поверил бы в происходящее, – начинаю издалека, – если бы на моём и вашем месте была пустота, а вокруг продолжалась жизнь. – И заканчиваю неожиданно для себя, протягиваю ему руку. – Возьмите мою руку и уйдёмте прочь – что исчезло, пусть вернётся на своё место.
Незнакомец шарахается от меня в пустоту. Яркая вспышка слепит глаза. Слышу знакомый голос:
– Взвод, вспышка слева!
Ко мне возвращается зрение - всё на своих местах. Незнакомец с удовольствием возится в песке с тремя милыми пузатыми, мальчуганами.
Почувствовав мой взгляд, незнакомец смотрит на меня и улыбается, и заговорщицки моргает левым глазом. Пока я плавал в эфемерном море сна на утлом чёлне, пока мне грезились чудные и дивные видения, пока я радовался зримому, восхищался им или в испуге хотел вырваться из цепких пут сна, моё одиночное плавание в каюте, – тьфу! – в купе закончилось.
Да! вот так, как-то буднично, незаметно.
Без оркестра и цветов.
Без душевных тёплых слов.
***
Лёгкий звон ложечки о стакан, как луч маяка, указывающий кораблю в бурю верный путь в бухту спасения, освободило от наркоза сна. Приоткрыл глаза: напротив, за столом сидел молодой человек лет тридцати, славянин, приятной наружности. Густые русые волосы аккуратно зачёсаны назад, высокий лоб говорил о большой работе ума; взгляд синих глаз дружелюбен, добр, но устремлён куда-то вглубь себя; задумчивость лёгкой тенью отразилась на лице.
«Мужчина. – С досадой подумал я и сразу же себя осадил. – А кого ты хотел? женщину? Трали-вали во время пути, шампанское для снятия комплекса замкнутости и для расширения темы общения; шампанского столько, чтобы она, в конце концов, утомлённая и раздобревшая, прошептала эротично на ушко: – Милый Миша! вина больше не нужно; я такая, как тебе надо. И вот тут-то и открыл бы гостеприимно свои двери вагон-бордель класса люкс на колёсах!» От таких мыслей я протяжно вздохнул, чем вывел из задумчивости соседа. Он улыбнулся и произнёс:
– Я вас разбудил? простите!
– Да что уж там! – возражаю ему. – Время на закат, можно проспать весь ночной сон; так бабушка говорила. - Произношу и смотрю в окно.
За окном тянулись горы, укрытые лесом и украшенные изредка белыми шапками снега. Я не художник, но не лишен восприятия природной красоты, особенно в тех местах, где человек не смог оставить постоянных следов своего пребывания. Иногда жалел, что бог не дал мне этого дара, но трезво рассудил: без меня достаточно мастеров кисти, радующих массы своим талантом и обошёлся скромно без излишних рефлексий. Солнце играло в купе золотистыми лучами, отчего было душновато. Решил открыть дверь для доступа свежего воздуха. Только собрался это сделать, как мой сосед, то ли угадавший мои мысли, то ли сам решил освежиться, вышел из купе.
Приведя себя в порядок, вышел следом. Сосед стоял возле открытой форточки и смотрел наружу, ветер трепал его шевелюру, играясь с ней; было видно, он снова углубился в свои думы. Решил соседа не тревожить. Вернуться в купе не хотелось, потому пошёл в ресторан. Решение моё было, скажем так, несколько необдуманное. Время для массового посещения раннее и я в ресторане был один. Меня сразу оккупировали две официантки, довольно миловидные бабёнки под сорок, с макияжем, умело скрывающим возраст. В форменной одежде они смотрелись великолепно: в одинаковых светло-бежевых платьях, кружевных белых фартучках, идеально отглаженных и накрахмаленных; голову украшали белые кружевные короны.
Взяв меня в кольцо, начали пытать:
– Водка, вино, шампанское? есть-пить будем? Сегодня великолепная солянка с лимоном и сметаной; жульен из белых грибов в сливках; семга малосоленая с икоркой…
Я прервал их перекрёстную словесную стрельбу и заявил, что хочу выпить просто пива. Без нагрузки.
– Пива? – переспросила одна, состроив кислую мину. – А у нас, касатик, от пива изжога.
– От чего изжоги нет? от шампанского? – было ясно, куда она клонит.
У самого родня работает в ресторане, и такие штучки были знакомы. Развод первого клиента, дело святое. Поэтому решил сдаться в плен с контрибуцией, тем более вторая официантка очень уж восхищённым взором глядела на меня. «Одна романтичная ночь тебе уготована, Ромео», – посмеялся про себя и обнял за талию обеих.
– А и ладно! гулять, так гулять! но… - поднял палец вверх. – Пьём, девочки, вместе со мной, без отговорок! – и слегка шлёпнул ладонями девушек ниже пояса. – Вперёд, боевой авангард общепита!
Уселся за столик и мысленно прикинул, во что выльется это «гулять!»; повертел виртуальными цифрами и так, и этак, пришёл к выводу: все будет хорошо. Только бы ту, скромнее и стройнее, увести ночью, прогуляться на широкие поля любви. Мои отважные принцессы шествовали с разносами, уставленными тарелками со снедью, закусками и салатами; рюмками, фужерами, стаканами для сока, бутылками и графинами с питьём. «Вот это размах! – ошарашено и в то же время удовлетворительно подумал я. – Как это там, в песне поётся: - Прощай, моя блондинка!» Вторая официантка, действительно, была блондинка (natural blonde); стройная, выше среднего роста; фигуристая, было глазу за что зацепиться; белый локон выбился из причёски и игриво свисал на левый висок, подрагивая при ходьбе; специально это было сделано или чётко продуманный стратегический ход, меня не интересовало – выбор сделан. Первая официантка, крашеная брюнетка, с прической каре в стиле леди-вамп, полновата; видно сразу, фигуру её подкорректировали не только роды, а и желание вкусно попить-поесть.
Принесённое пиршественное великолепие девушки расставили на столе, сели вдвоём напротив меня с ожиданием во взоре. Им, видимо, хотелось, чтобы я оказался Копперфильдом и явил фокус. Увы, я обычный человек, и единственный фокус, который мне всегда удаётся, это выпить больше, чем хочу, но меньше, чем могу, утром проснуться без головной боли и весь день прогонять прочь амнезию, силясь вспомнить события прошедшего дня, как нарочно, ускользающего от меня, будто кусок мыла из мокрых рук. Взял графин с водкой, разлил по рюмкам и произнёс тост:
– За знакомство, девочки! Михаил – прошу любить и жаловать!
– Нина, – произнесла понравившаяся мне официантка тихим, приятным голосом.
– Альбина, – представилась вторая, в стиле леди-вамп и я подумал, что это имя подходит ей больше всего и сразу сложилась рифма: «Альбина – убей меня дубиной».
Выпили, закусили, а так как между первой и второй перерывчик небольшой, то повторили по третьей. Следом за водкой пили шампанское, затем вино, снова водку – вот такой вот коктейль. Говорили легко и непринуждённо о всякой чепухе, смеялись над глупыми анекдотами, острили тупо и прямо в глаз; спорили. Я не заметил, как Альбина оказалась рядом со мной и всё норовила прижаться ко мне поближе. А мои мысли отдельно от разговора витали рядом с думами о Нине. Я мысленно раздевал её и вторгался в расслабленное страстью тело, податливое как глина под руками мастера. Нина смотрела на меня не менее выразительным взглядом и в душе моей бушевали нешуточные ураганы страсти. Наконец Нина встала и сказала просто и тихо:
– Пойдём!
– Куда? – не поняла Альбина, обратив на Нину взор и пытаясь собраться растрёпанными мыслями.
– Я не к тебе обращаюсь, – всё также тихо проговорила Нина и протянула ко мне руку. – Пойдём же!
Я встал, взявшись за руки, мы вышли из ресторана. Перед её купе остановились. На лице Нины читалось едва заметное замешательство и следы внутренней борьбы.
– Если сомневаешься в правильности – отложи и забудь. – Сказал я, обняв её за плечи.
Нина поборола нерешительность. Открыла дверь.
– Проходи; всё правильно.
Я вошёл в купе следом за Ниной. И раздался взрыв; свет поблек перед глазами; слух ушёл из ушей; остались только чувства и нервы, обнажённые страстью. Мы лежали рядом на узком, ставшем сразу жестким и неудобном диване, казавшимся до этого просторным ложем, укрытые простыней. Мы были одни во всём белом свете. Только стук колёс возвращал нас из волшебного мира грёз в серую явь.
– Где ты был так долго? – спрашивала Нина, целуя меня.
– Там, где, возможно, никогда уже не буду, – отвечал я, целуя её тонкие красивые пальцы, бархатистую кожу шеи и щекотливые кончики волос.
– Где ты был так долго? – повторила Нина.
– Растрачивал себя по мелочам, глупо и бездарно. Не щадил себя. Во мне ничего уже не осталось: пустота в душе, одна пустота.
Горький ком подступил мне под горло. Я гладил её плечи, нежная кожа реагировала на мои прикосновения легкой дрожью. Я поцеловал Нину в глаза и ощутил вкус соли. Нина плакала, слезинки катились по её лицу, оставляя мокрые следы. «Эти слёзы погубят тебя, - почему-то подумалось мне, – и тебе не спастись…» Раздался еле слышный стук в дверь.
– Нин, закругляйся; мама нервничает, – раздался из-за двери пропитанный завистью голос Альбины. – Я сказала ей, что у тебя разболелась голова, но она не верит. Говорит, мол, иди, зови Нину, пора работать.
– Уже иду! – почти выкрикнула Нина.
Посмотрела на меня, вытерла слёзы и спокойно произнесла:
– Вот и сказке конец, кто дослушал – молодец… Ты прости меня, Миша, бабу-дуру…
Я хотел было ей возразить, но Нина положила на мои губы ладошку:
– Молчи, ничего не исправить, и назад не вернуть.
Раздосадованный, расстроенный вернулся в купе. Сосед отсутствовал. Вечерело, усталость и пережитое сделали своё дело, и я уснул, успев прошептать:
– Прости, Господи, грехи наши…
4
Бывают сны, не успеешь закрыть глаза, как сразу окунаешься в бездну тишины без снов и звуков. Проснёшься утром, а чувство душевной тяжести за ночь тебя не покинуло. Поздно ночью, на каком-то полустанке состав стоял довольно долго. Открыл глаза, в купе один, дверь чуть открыта. Слышу голос соседа: «Что случилось? Почему скорая помощь возле вагона?» Проводница отвечает: «Не знаю, видимо, кому-то плохо; обычно стоянка здесь две минуты, стоим, как минимум пять».
Завыла сирена, и звук постепенно растаял вдали. Состав дёрнулся и начал набирать ход. Я снова погрузился в бездну. Вагон покачивался из стороны в сторону. Проснулся давно, лежал с закрытыми глазами. Вставать желание категорически отсутствовало, неприятно ныли мышцы, поэтому лёжа выполнял гимнастику: поочерёдно напрягал, затем расслаблял мышцы ног, рук, спины, - это помогло. Открыл глаза, в купе темно. За окном серые сумерки. По стеклу струятся дождевые струи. Сейчас бы дома валяться под пуховым одеялом, пить кофей с коньяком и смотреть телевизор! Мысли хорошие, но несвоевременные, пришедшие с опозданием вместе с дождём. Раздался негромкий настойчивый стук в дверь.
Молчу.
Стук повторился. Дверь открылась, в показавшемся проёме показалась голова проводницы:
– Михаил, вы спите? – спрашивает шепотом.
– Нет, Таня, не сплю, – шепчу ей.
Таня протягивает руку с зажатым сложенным листком:
– Возьмите – это вам.
– От кого? – спрашиваю.
– Передали из ресторана, – отвечает Таня и неплотно закрывает дверь. Через щель в купе льётся узкая холодная полоска света. Положил листок на стол. Отвернулся к стене с мыслью: «Детский сад какой-то! Записки, бумажки». Но покой был нарушен. Сложенный вчетверо тетрадный лист магнитом притягивал моё внимание. Затылком чувствовал его притягательную силу.
Лежать, мучаясь неизвестностью мочи нет. Сел на диванчике и уставился на лист долгим задумчивым взглядом. Из мечтательности вывел довольно громкий ворчливый женский голос:
– Нет; всё-таки, нужно было лететь самолётом! И быстро, и удобно; сегодня же встретились с Машенькой, с внуками…
– С Леонидом, – добавил мужской голос.
– Со своим любезным Леонидом встречайся сам, – отреагировала женщина.
– Как ни крути, Лёня наш зять, – аргументировал мужчина.
– Зять! – презрительно произнесла женщина. – Не за что взять!
«Соседи с самого утра завели перепалку; неважно, дома ты, в гостях, привычки, нажитые с годами, держат нас на коротком поводке. Вот и эти, наверняка, дома обсудили и перемыли косточки всем и вся, даже в поезде не желают расстаться с любимым занятием вести спор, – думал я. – Люди – рабы самих себя!»
– А тебе его брать ни за что нет необходимости, – мужчина снова скрестил словесную шпагу, – дочь давно взяла и, как видишь, отпускать, не намерена, даже в угоду собственной матери! – явно сострил мужчина в пику жене. – Вопреки всем твоим психологическим экспромтам и этюдам, она оказалась разумнее и практичнее…
– … кого? – грозовые тучи, наплывая с Байкальских берегов, сгущались в соседнем купе.
Я даже представил себе женщину-фурию из соседнего купе: пенсионерка, за шестьдесят; любительница обращать всех в услужение себе; муж, уверен, подкаблучник (бедняга!); судя по высказыванию «психологические этюды», доктор-психиатр; такие матери – сущее наказание для детей, так как часто путают воспитание собственных чад с лечением больных, семью с работой. И потому меряют поступки родных и близких с точки зрения симптомов душевных расстройств.
– Да тебя! – сказал, будто сбросил с плеч тяжкую ношу мужчина. – Тебя, моя драгоценная! Это ты понукаешь мной с момента первой задержки и вплоть до замужества Машеньки. Благодарю бога, что он не дал нам больше детей; что ты была всегда занята своей работой: диссертаций, затем защитой. Участь наших детей была б незавидной! Машка молодец, окончила школу и прочь из семьи нашей; институт с красным дипломом открыл ей большие перспективы, замуж вышла и создала семью не по образу и подобию нашей; а так, как они с Лёней видят; а не так, как хотелось тебе.
А ещё Маша трижды молодец, – мужчина явно раздухарился, расчувствовался и многое прочее, видимо, долго ждал этого прекрасного дня высказываний супруге в лицо всего накопившегося в душе за долгие годы, – что не пошла по нашим стопам. Медицина – для нее тупиковый путь саморазвития личности!
– Ты полагаешь, – женщина-гюрза приняла боевую стойку, женщина-кобра раскрыла украшенный капюшон и выпустила в жертву яд, – ты полагаешь, вся наша совместная жизнь была для тебя и дочери – каторгой? Я, тонкое и ранимое создание, с чуткой душевной организацией, на самом деле была жестоким деспотом, - речь прекратилась, повисла затянувшаяся пауза, - жестоковыйным, безжалостным жандармом от психиатрии, угнетавшим вас своим авторитетом?
– В точку! – произнёс мужчина голосом победителя.
Послышались всхлипывания и рыдания.
– Заинька, ну, прости, милая; признаюсь, несколько погорячился! – произносит мужчина, в его речи слышится тепло и нотки примирения.
– Ты забыл сказать, что был неправ! – хлюпнула женщина носом.
– Милая, я был совершенно до безобразия неправ! – следом за словами раздался нежный поцелуй.
***
На листке, красивым и разборчивым почерком было написано следующее:
«Мишенька! Встреться мы намного раньше, моя жизнь сложилась бы по-другому. Нина».
Взглянул на часы – шесть утра; все спят; ресторанные работники тоже; идти будить ни свет, ни заря, разбираться, выяснять отношения категорически не хотелось; вот уж не думал, ни к чему не обязывающее увлечение может вылиться в такую игру чувств. На месте не сиделось; пошёл, умылся; привел в порядок себя и мысли; холодная вода освежила; настроился на оптимистичный лад.
Кипятком из титана заварил чай. Открылась дверь купе проводника. Поздоровался ещё раз:
– Доброе утро, Татьяна Петровна! Кому ночью вызывали «скорую»?
Проводница странно посмотрела на меня и проговорила осевшим голосом:
– Кому-то из ресторанных с сердцем плохо стало.
– Кому? – допытываюсь я. – Танечка, слова нужно щипцами тянуть?
– Не знаю; сказали: из ресторана.
Сердце неприятно кольнуло и бешено застучало; кровь прилила к лицу, оно зарделось; в висках застучали молоточки и затылок налился свинцом. Острое ощущение непредвиденной беды заполнило меня, пустой коридор вагона, зарождающийся рассвет за окном. Вернулся в купе; сосед спал; сел на диван, стараясь не скрипеть. «Нина, – подумал именно о ней, – Ниночка!»; в ушах шумело, казалось, шум этот разбудит весь спящий крепким сном состав; лицо пылало, поднеси бумагу, она вспыхнет; предательски дрожали руки. Так мерзко не чувствовал себя очень давно; с тех пор когда, как мне казалось, предал друга. В далёком восемьдесят четвёртом году. И корил себя, и терзал, но оттуда я вернулся живой, а он – в свинцовом ящике; многие тогда из нашего взвода вернулись домой раньше срока вечно юными и молодыми.
Шесть месяцев реабилитации в госпитале; лечение контузии; память возвращалась на своё место медленно и неохотно; но наша военная медицина сотворила чудо – я выздоровел, дослужил оставшийся срок в Союзе и вернулся домой… только, чудо произошло с телом, но не с душой и памятью.
Пытался лечить душу в ущерб другому, не помогло; помогли занятия аутотренингом; лет пять-шесть назад контузия снова напомнила о себе легкими барометрическими болями в голове; в такие дни особенно сильно хотелось дико напиться, зарыться с головой в подушку, лишь бы воспоминания раскалёнными железными щипцами не ворошили затухшие угли памяти.
Вагон-ресторан открывался в десять утра; с трудом дождался этого часа. Альбина встретила меня в дверях ресторана с взглядом, полным ненависти и злобы:
– Что ты ей сделал, ублюдок? – зашипела она.
– Остынь, - остановил её. – Объясни, в чём дело. – Посмотрел на пустой ресторан. – Давай присядем за стол, в ногах правды нет.
– Давай! – уже мягче произнесла Альбина, выпустив пар.
– Рассказывай; ничего не упускай; слушаю. – Я догадался, кому вызывали карету скорой помощи.
– Ну, ты ушёл; всё шло как обычно; обслуживали клиентов, ей шоколадку подарили, два военных моряка сидели до закрытия; поставили шампанское нам.
– Без этого никак, – сыронизировал я.
– Не перебивай! повторюсь, всё было как всегда, работа у нас разнообразная, соскучиться некогда.
– Дальше, что дальше, – тороплю Альбину.
– Как что? ресторан закрыли, начали уборку; посуду со столов убирать, скатерти. Нинка, прости господи, – Альбина перекрестилась, – взяла разнос с посудой, сделала шаг-другой, пошатнулась. Я подумала, запнулась о дорожку, такое частенько бывает, и внимания не обратила. Нинка снова пошатнулась; спрашиваю: – Нин, с тобой всё в порядке? А она оборачивается, белая как мел, в лице ни кровиночки; молчком, ни слова, ни говоря, с разносом, как былиночка, подломилась и упала на пол; без единого звука.
Я в крик, заголосила: – Ой, люди добрые, помогите! Нинке плохо! Бармен наш, Виталик, тот сразу за аптечкой; буфетчик дядя Гриша давай окно открывать, кричит: – Свежий воздух нужен! Несите тряпку и уксус!
Я стою, меня всю дрожь бьёт; руки трясутся, коленки подкашиваются; тут наша «мама», заведующая рестораном, Юлия Петровна и говорит:
– Сердце у бедняжки хватануло, самим не управиться; «скорая» нужна.
Пытаемся Нинке губы разжать, валидольчику влить, бесполезно; мёртвой хваткой челюсти свело: – Ой! – Альбина перекрестилась, – не приведи господь. Дядя Гриша, давай ей грудь и виски тряпкой с уксусом растирать; смотрим, лицо розоветь начало, а глаза закрыты и губы все также ниточкой.
На следующей станции остановка по расписанию, сообщили начальнику поезда, тот передал сообщение по рации, чтобы на станции ожидала карета скорой помощи.
Фельдшер посмотрел. Пульс проверил, укол сделал и заключил:
– Необходима срочная госпитализация.
Мы смотрим, Нинка шевелится, рукой машет, губами двигает; дядя Гриша разобрал ее шепот и говорит: – Альбина, тебя Нина зовёт. А её на носилках из вагона вынесли; сунула она мне в руку листочек и попросила тебе передать; уж не знаю, что у вас такое произошло…
– Она была сердечница? – спрашиваю.
– Да, – Альбина вытерла набежавшие слёзы.
– Лечилась?
– Да как мы лечимся! С нашей-то работой! Так и она, подлечится чуток, поглотает таблетки горстями и прекратит на этом. Ох! – Альбина горько вздохнула. – Говорили ей, ляг в больницу, обследуйся, пройди диспансеризацию. Найдут чего, назначат лечение; а она, знай, своё твердит, что это ей в наказание.
– Какое наказание? – интересуюсь я.
– Давно это было, от ребёнка она отказалась, оставила в роддоме. – Альбина передохнула и продолжила. – Никому никогда ничего не рассказывала Нина о ребёнке, о сыночке, кровиночке родненькой, а мне как-то поведала. Видимо, время пришло душу свою облегчить от страдания. Вот и не лечилась толком, умереть хотела, тяжело было ей крест этот нести.
Альбина замолчала, утирала украдкой набегающие слёзы и изредка всхлипывала. Я решился прервать молчание:
– Аля, принеси, пожалуйста, графин водки; выпьем за здоровье Нины, – и сунул в руку тысячную купюру.
– Убери, не бедные, чай, – отбросила мою руку Альбина и добавила, – а за здоровье Ниночки грех не выпить. И ребят заодно позову, чтоб вместе, значит.
– Ребят не надо; потом; давай только ты и я, посекретничаем, – прошу Альбину. – И расскажешь о ней всё, что знаешь.
Альбина ушла; я смотрел в окно и ничего не видел, мои мысли были на той безымянной для меня станции, на которой скорая увезла Нину в больницу; увезла её от меня в никуда.
– Миша, что задумался? – Аля тронула меня за плечо и указала взглядом на рюмки с водкой. – Давай выпьем за нашу Нину, за нашу красавицу.
Аля выпила рюмку мелкими глотками, запила водой и тихо заплакала. Я тоже выпил, сделал глоток кофе и начал ждать, когда Аля успокоится. Наконец, мне надоело ждать.
– Аля, Алечка! хватит плакать, жива она; заболевания сердечные успешно лечатся; и лекарства сейчас хорошие и доктора, – потряс Альбину за плечи, пытаясь вывести её из состояния шока.
Она шмыгнула пару раз носом; высморкалась; налила ещё по одной.
– Вот теперь, Алечка, – начал я, – ты Нину хорошо знала?
Аля утвердительно кивнула головой и зашлась в плаче.
– Аля, – в моём голосе появились жесткие нотки. – Приди в себя, быстро! И, пожалуйста, расскажи о Нине всё, слышишь? всё, что знаешь.
– Нина, – Аля дёрнула воздух носом. – Нина, – Аля ещё раз вздохнула, - хорошая она была баба. Ой! прости, Мишенька, пожалуйста!
– Проехали, – резко оборвал Алины нюни, – продолжай. Была или есть, не суть важно на данный момент.
Протянул Альбине салфетку; она вытерла слёзы; зачем-то поправила причёску, одёрнула кофточку и начала рассказ.
5
В наш город Нина приехала лет пятнадцать тому. Одна, без семьи; как берёзонька во поле одинокая; профессии никакой, потому устроилась поначалу мыть полы в нашей конторе; заработок небольшой, а всё ж лучше, чем без денег сидеть; старательная и трудолюбивая – это было заметно.
Если с нами бабами разговаривала, на шутки отвечала, то с мужиками очень неприветлива была, в глаза сразу бросалось. Мужики, Миша, сам знаешь, если видят, баба одна, да ещё без прицепа, то не упустят шанс получить своё; начали было к ней клинья подбивать. Да не тут-то было! не на ту нарвались! Видел, Нина женщина симпатичная, хороша собой, чистоплотная; конечно, хотелось некоторым на дармовщинку мясца поесть. Да Нина была не про их честь: возьмут, бывало, её за руку, или обнимут за талию, она так даст по ручкам по шаловливым. Взглянет так, ажно мурашки по коже, так и отпадает охота в чужом саду яблоки воровать.
За неприступность, за суровый взгляд прозвали Нину «Горгоной». А уж когда слух прошел промеж людей, мол, Нинка то, та ещё девочка с плеером; не раз в тюрьме сидела, двоих хахалей за неверность ножиком порешила, глазом не моргнув, то мужики к ней близко подходить перестали.
Некоторые, на словах храбрые, выпив в своём узком кругу, рассуждали следующим образом: неплохо бы Горгону проучить; подловить, прибить маленько, чтоб не сопротивлялась, и пустить по кругу; отомстить за погубленных мужиков, которых в глаза не видели, что бы знала, сука, как изводить род мужской. Однако все эти смелые проекты так и остались в пьяных головах; отпор Нина давала не только мужикам. Языкастым и сверх меры любопытным бабам так рты затыкала – любо-дорого смотреть.
Не касаясь прошлого, начальство, видя усердие и трудолюбие, предложили перейти работать в столовую посудницей; аргументировали, не всю же жизнь тебе, Нина, полы мыть. В столовой и питание лучше и зарплата выше; откормишься, была Нина на тот момент кожа да кости: ключицы и рёбра сквозь кожу выступали вместе с синими веточками вен.
Скажу тебе, Миша, Нина и в самом деле приехала, худа как вобла, казалось, при ходьбе переломится пополам; стройной опосля стала, как в столовую перешла посудницей работать; со временем перевели в официанты.
Да, днём была столовая; вечером вешали на окна плотные шторы, столы скатёрками-салфетками украшали, приборы выставляли; всё, как положено в ресторане, чин-чинарём. Тебе ли не знать, официант не одной зарплатой живёт, но и чаевыми. Скупой натурой Нина не слыла, то с уборщицей бабой Капой чаевыми поделится, она внуков троих одна воспитывает, зять с дочкой в тайгу по ягоды пошли, да там и сгинули. Искали их, сердешных, искали да не нашли; то чаевые поварам полностью отдаст. Те ей мясца-маслица дать старались, отказывалась Нина: зачем? мне одной много не надо, здесь поем и хватит. Жила поначалу в общежитии, койко-место дали, затем профком комнату выделил; повторюсь, Миша, хороший человек Нина и работник отличный. Но вот радости в жизни её, ну, никакой не было. Она так и говорила всегда, когда собирались погулять у кого на квартире:
– Упустила я своё время; сейчас же ни к чему оно всё! Пустое!
– Да как же – пустое? Ты молода и красива; надо тебе, Нина, выйти замуж; ребенка родить, – убеждали многие из нас.
Но она как услышит о ребёнке, сразу замкнётся в себе, лицом посуровеет и сразу домой идёт. И не остановить её, не уговорить остаться; она ни в какую, вам, говорит, праздничать и повеселиться хорошо; а моё веселие давно закончилось. Через десятые уши узнали, судима была не за убийство, а за наркотики; бабам нашим легче стало; мужикам своим рты заткнули, чтоб не лезли не в своё дело; мы, бабы, меж собой и без вас разберёмся. Правду скажу, Миша, нас тожет интерес разбирал, за что всё-таки Нину судили; гадали.
Предположения строили; не тянула она на Никиту российского масштаба; тихая, скромная; спиртное пила в таких дозах, комар тверёзый будет, это к тому, мало ли, по пьянке завалила одного, затем другого. Примеров таких пруд пруди. Наш Араньевск взять, к примеру, от других городов ничем из обоймы не выбивается. А про наркоту узнали, сразу полегчало; хотя тоже дело не очень-то благородное, но не убийца всё же… Песни пела Нина, заслушаешься! голос у неё такой чистый, звонкий; как заведёт песню народную какую-нибудь, у всех слёзы на глазах.
Аля прервала рассказ, задумалась и вдруг запела:
На столе стоит посуда чайная,
Милый спрашивал: - Чего печальная?
Милый спрашивал, а я ответила:
– Ты с другой стоял, а я заметила.
– Эту песню чаще всего пела; могла и раз, и два, и три подряд; а исполнит – молчок, слова не добьёшься, – Аля перевела дух, по лицу поползли слёзы, вытерла их платочком, а они текут…
– Аля, не плачь, всё образуется, – что пришло в голову, то и сказал.
Аля продолжила.
– А пуще всего любила Нина песню одного певца; названия песни не помню, как и песню, но врезались в память такие строки:
Спасибо, жизнь, за праздник твой
Короткое свидание с землёй.
И как она слезами после этих слов зайдётся, не остановить. Как-то она сказала:
– Девочки, большая просьба у меня такая к вам, когда умру, попросите, чтобы слова эти на табличке написали и к кресту прибили; ни фото моего не надо, ни дат жизни. Хорошо, девочки?
Мы чуть от страха не облезли, с чего бы это вдруг ты решила умирать (дело было, Миша, аккурат после Рождества). А она в ответ: – Ангел нынешней ночью ко мне приходил. Встал в дверях, облокотился о посох, взором грустным смотрит на меня. Я молчу, пошевелиться страшно, язык к гортани прилип. А ангел смотрит и молчит, смотрит и молчит. У меня, сперва, на душе тревожно стало; затем улеглась тревога и так на душе посветлело!.. Вдруг ангел молвит: - Прощаются тебе грехи твоя, дщерь божия. Разворачивается и сквозь дверь уходит, только после его, ангела, ухода в комнате свет небесный остался; до утра уснуть не могла, не шёл сон в очи. В Бога я никогда не верила, девочки, а тут слова молитвы «Отче наш» сами полились из уст; вспомнила, как бабушка молитву эту читала, проснувшись утром и перед сном. Раз прочитала молитву, другой, на душе легко и поняла, не зря ангел приходил; вышло время моё земное; пора идти к престолу божию за других молиться.
Сидим мы, бабы ресторанные, рты раззявили, слова вымолвить не можем. С того дня переменилась Нина, лицо у неё такое стало, - Аля замолчала, подбирая нужное слово, - одухотворённое! Плавность в движении появилась, в речи слова употреблять новые; в церковь ходить начала. А ведь до этого говорила: - Россказни всё это пустые, байки поповские. В апреле домой пригласила; приходим, а у неё стол накрыт скатёрочкой льняной, приборы с тарелками, рюмки-стаканы, бутылки с вином. Глаза у нас из орбит повылазили, челюсти отвисли до груди…
– Mandibula, – произнёс я.
– Чего? – не поняла Альбина.
– Mandibula – по латыни нижняя челюсть.
– Ты это к чему, Миша? – удивилась Альбина.
– Сам не пойму; ты говоришь, мол, челюсти отвисли, а у меня в голове: mandibula, – так красивее. – Отвечаю Альбине. – Так, ты продолжай, продолжай! Извини, перебил.
– Итак, челюсти … мандибулы отвисли до груди: Нина, что такое? Мы в недоразумении. А она, знай себе, хлопочет, проходите, подруженьки милые, за столом рассаживайтесь. Некоторые из нас с детьми пришли; так Нина от детей не отходит; «Любочка, принцесса ты моя, какая ты нарядная! Коленька, да тебя не узнать просто, подрос, ну, прямо жених! Жанночка, певунья ты наша, кто тебе косы так красиво заплёл?» И всё вертится вокруг нас, а всё больше с детьми; то конфетку даст, то тортик на тарелочку подложит и сок в стакан нальёт; вся от радости светится, а в глазах грусть озером бездонным плещется и взор неподвижный, будто в одну точку устремлён. Не одной мне казалось, другим тоже, готова была Нина разрыдаться, да удерживала в себе слёзы.
Посидели мы хорошо, поговорили; было к полуночи, начали собираться, а Нина и выдаёт: – Останьтесь, до утра останьтесь; если одна буду – руки наложу, худо мне на сердце.
Голос обычно звонкий, звучал глухо и тревожно; переглянулись между собой и остались; деток в спальне спать уложили; снова за стол сели, Нина накрыла его к чаю. Поставила самовар, в запарнике чай заварила, сладости выставила. Сидим, ждем, что делать, ума не приложим; Нина сидит руки скрестила на животе и смотрит на нас, Миша, не передать словом, мурашки по спине. Тут Нина поднялась, включила бра, погасила люстру: «Так мне, девочки, будет легче перед вами высказаться». А мы сидим, как на иголках; и страшновато как то, и интерес разбирает, что Нина поведать хочет. Походила Нина по комнате в задумчивости; у окна остановится, в него поглядится; к столу подойдёт, постоит и снова комнату мерить ногами. С мыслями она собиралась, не знала с чего начать; и мы, молча, сидим, чай уж в чашках остыл, спины занемели и ноги затекли.
Подошла, наконец, Нина к столу, села и начала рассказ, глядя мимо нас в дали, нам неведомые.
***
В семье я была единственным ребенком, поздним; мама болела и долго не могла понести; лечение результатов не приносило, и решили родители в детдоме, взять на воспитание ребёнка, девочку удочерить; больно мама хотела дочку, папа с ней был согласен. Однажды во время очередного посещения врача, лечащий доктор отвёл отца в сторону и говорит:
– Поздравляю, ваша супруга в положении!
Папа опешил и потерял дар речи. Доктор рассмеялся, похлопал папу по плечу:
– Поздравляю! Теперь главное, уберечь плод; но это уже наша забота; ваша – оградить жену от лишних волнений, в питании увеличить присутствие витаминов и самое главное: никаких эмоциональных взрывов. Есть возможность, езжайте на курорт, на грязи; отдохните, одним словом.
Наступил день, и не только папа, но и вся родня (такой момент пропустить было бы полной глупостью), пришли в роддом взять маму и меня домой. Подарки врачу и персоналу, вплоть до санитарки; папа от охватившего возбуждения готов был одарить весь свет. И начались для родителей дни радостные и счастливые. С именем для меня голову не ломали, будучи на третьем месяце, мама сказала:
– Доченьку назовём Ниночкой.
Возражать папа не стал, ему и самому имя понравилось. Так появилась на свет божий я, Нина, дочь мамы Лены и папы Андрея. С малых лет обращались ко мне по имени-отчеству: Нина Андреевна, и для меня это было вполне естественно. Братика или сестрички быть не могло, мама родить больше не могла. Незаметно для окружающих во мне развивался эгоизм в самой изощрённой форме; всё должно было вертеться только вокруг меня – я была центром Вселенной; почитание и обожание – для одной меня; если что-либо и делалось, с оглядкой, как на это посмотрит Нина Андреевна. Сначала это казалось игрой, потом вошла во вкус. Родители сами способствовали развитию эгоизма, передавая без остатка всю свою родительскую любовь единственному чаду.
Учёба давалась легко. В аттестатах об окончании начальных классов стояли одни пятёрки. Четвёрки появились позже, в классе четвёртом-пятом; не регулярно, в дни лени и капризов. Хорошая успеваемость плюс примерное поведение – родители готовы были из кожи вон вылезть, только бы выполнить любое моё желание. К морю в Сочи или в Анапу ездили каждый год; снимали жильё недалеко от моря, чтобы спросонья, не снимая тапок домашних пойти освежиться и домой кушать. А всё из-за климата Сибири, нужно выезжать в отпуск, в края с тёплым климатом, для восполнения сил организма; первично для меня и затем для мамы особенно, но вторично. Но всегда, во время этих вояжей к морю, вспоминала Ангару, её холодные речные струи и подруг-друзей, оставшихся дома. Я завидовала им, а уж как они завидовали мне. Милее любимого города, казалось, нет ничего в мире; друзья считали наоборот, везёт же Нинке, каждый год смена впечатлений, южный равномерный загар и умопомрачительные россказни с незначительной примесью преувеличения о пляжных приключениях. Так на своих друзьях была до совершенства отработана школа вранья: обман становился моим коньком; бабушка Катя говорила так, первой заметив во мне этот удивительный талант: – Ниночка как шагнёт, так и соврёт. И была права.
Пришла беда – отворяй ворота. Так говорят в народе. И подкралась беда незаметно. Осенью, когда пошла в восьмой класс, в нашем доме в соседнем подъезде поселились новосёлы; муж и жена работали на оборонном заводе ведущими инженерами, перевели их откуда-то из Центральной России; но не это главное. Центром внимания всего двора стал их сын Евгений; ничем особенным не выделяясь, разве что модными шмотками и развязным поведением, привлёк он на себя взгляды всех девчонок от тринадцати лет и выше. Было Жене восемнадцать лет, но выглядел намного старше; ходил медленно и, сутулясь, руки держал в карманах брюк или куртки и смотрел на окружающих оценивающе, словно в магазине выбирал вещь.
Родители Жени постоянно были на работе. Поэтому у него дома собиралась небольшая компания его сверстников. Некоторые приходили открыто; другие, таясь и воровато оглядываясь. Сколько невероятных и фантастических слухов ходило об этом Женьке! Интерес сладеньким червячком разъедал наши неискушенные души. Со временем, в их мужской компании появились ярко раскрашенные девицы, в необъяснимых одеждах, девицы курили модные сигареты и пили импортное пиво из бутылок.
С какой завистью смотрели мы на этих девиц и, сокрушаясь тем, что Женька совсем нас не замечает; а мы, девочки-подростки, считали себя ничуть не хуже его подруг.
И вот, как-то в октябре, возвращаюсь из школы, вдруг возле меня останавливается машина, в марках тогда совсем не разбиралась, открывается окно водителя и, кто там сидит – Женька собственной персоной!
– Девушка, уделите минуту внимания, – обращается Женька ко мне. – Мы живём в одном доме, но не знакомы. Вам не кажется это странным?
– Нет! – отвечаю я.
– Как же так! а мне кажется, – деланно возмутился Женька. – Позвольте представиться – Евгений!
– А я знаю! – озорно состроив глазки, выпалила я. – И как тебя зовут и всё-всё-всё о тебе!
– Очень интересно! – Женя выставил голову в окно. – Что же вы, милая леди, знаете обо мне «всё-всё-всё!», чего, могу допустить, не знаю я?
«Милая леди» - это обращение выбило у меня землю из-под ног; так ко мне ещё никто не обращался: «милая леди». Да, я была милая, довольно симпатичная, если без преувеличений девушка. И мальчики ухаживали за мной, портфель из школы носили; но было это всё не всерьёз, по-детски; я мечтала о большой любви, о принце на белом коне при шпаге и королевстве – сказывалось чтение всевозможных любовных романов о новых золушках нашего века.
– Так что знает обо мне милая леди? – повторный вопрос вывел меня из страны грёз.
– Ну, – смутилась я, порозовев до кончиков ушей, что не ускользнуло от Евгения, – всё; то есть, мало… но много…
– Даже так! – Евгений состроил умную мину. – Мало, но много. Теряюсь в потёмках стыдливого интереса, может быть, объясните невежде, человеку темному и неискушённому знаниями.
Евгений вышел из машины, открыл дверцу и жестом пригласил сесть.
– Родители запрещают садиться к незнакомцам в машину, – заявила я, горя от нетерпения сесть в пахнущий кожей салон автомобиля.
– Какой же я незнакомец? вы ведь пару минут назад заявили, что знаете обо мне «всё-всё-всё!» я вам представился, вы – нет. – Наигранно удивился Евгений. – Неприлично так поступать. Ведь вы из хорошей семьи и обучены манерам?
– Нина, – выпалила я, ещё больше заливаясь густым румянцем. – Нина Андреевна!
– Сражён наповал! Нина Андреевна, прошу садиться, – жестом руки повторил приглашающий жест садиться в машину, – карета подана!
Садясь в шикарный автомобиль, на тот момент я не знала, что с этого мига началось моё падение.
С того дня Женя ежедневно подвозил меня из школы домой, однако, во избежание лишних разговоров, просила забирать меня вдали от школы и не подвозить к самому подъезду. Моё пожелание было встречено с пониманием: Женя был учтив и галантен; изредка дарил одну розу или угощал конфетами в коробке; разговоры ведёт со мной на самые нейтральные темы, никогда не касаясь секса; даже не предпринимая попыток обнять и поцеловать.
Если прогуливались по городу или шли в кино он предлагал взять его под руку. Меня это несколько коробило; считая себя девушкой симпатичной, вполне допускала, что он меня поцелует хоть раз, как-то выразит свои чувства; получалось же наоборот, он встречается со мной из каких-то непонятных побуждений, и я для него не представляю интереса.
Лезть целоваться самой, было стыдно, поэтому принимала его ухаживания такие, как есть. На мои вопросы, чем он занимается, где работает или учится, Женя отвечал уклончиво, сводя всё на шутку, и просил не загружать свою прелестную головку ненужными мыслями. Как ни скрывайся и не ухитряйся, о наших отношениях скоро стало известно многим. Подруги в школе и во дворе завидовали чёрной завистью, поэтому в один из вечеров имела длинный разговор с родителями на эту тему.
– Ниночка, что ты можешь нам сказать, – начал папа, – по поводу твоих встреч с молодым человеком. – И посмотрел на маму, та одобрительно кивнула, поддерживая его.
– Мы просто дружим, – объяснила я, – и всё.
– И всё? – удивился папа. – Ты понимаешь, Нина, этот юноша старше тебя.
– И что? – удивилась я. – Ты старше мамы на пять лет.
– Это другое; разговор сейчас идёт о тебе; этот юноша нигде не работает, ездит на машине, вот скажи мне, пожалуйста, чем он занимается? – задал папа вопрос, на который я у Жени ответа не получила.
– Наверное, работает, – начала я неуверенно.
– Работают его родители, уважаемые люди; но их сын, как правильно выразиться, – папа начал ходить по комнате, – тёмная лошадка, что ли. Посмотри на его друзей, подозрительные темные личности.
– Папа, ты всё преувеличиваешь! – заступилась я за Женю, – Женя хороший!
– Позволь поинтересоваться – чем? – вступила в разговор мама. – Ты была с ним близка?
Я вспыхнула и отошла к окну. Ничего больше не говоря, папа и мама вышли из комнаты и уединились в спальне; они вели беседу шепотом, о чём, плохо было слышно из-за двери. Дело в том, меня кольнула совесть: не правильно веду себя с родителями, но укол совести был краток, и я сумела совладать с собой; я, как всегда, была права. И все же с непонятным беспокойством улеглась спать.
6
На зимние каникулы меня отправили к двоюродному брату папы в Киренск, где тот работал в аэропорту. Надо отдать должное, родители не подымали тему наших отношений с Женей. И я на время прекратила с ним все контакты. В школу, из школы шла с подругами; перемены проводила с ними же; после занятий оставалась в кружке английского языка и начала брать уроки игры на гитаре в музыкальной студии при школе. Так незаметно подошли Новогодние праздники с праздничной ёлкой, игрушками и подарками. Я забыло о Жене; он, казалось, полностью забыл обо мне.
– Нин, что остановилась, али забыла, что? – спросила Катька.
Мы на неё зашикали, остановилась, значит, надо так, с мыслями собирается, может и всё подряд рассказывать не нужно. Мы просто подруги; не батюшка в церкви, чтобы перед ним исповедаться и душу излить.
Нина помолчала минуту и продолжила.
Второе полугодие прошло в режиме усердной учёбы: нужно было определиться, учиться дальше, оканчивать десятилетку или идти в ПТУ. Иностранные языки давались легко, поэтому решила учиться дальше и поступать на иняз: или в Иркутске, или ехать в первопрестольную. Кем быть, вопрос чётко передо мной не стоял: переводчик, преподаватель или гид. Впереди было два года учёбы и время определиться было предостаточно.
Женю видела редко; больше издалека; с ним всегда были его сомнительные друзья и подруги. Подходить к нему не хотелось; он на меня внимания тоже не обращал, и не вполне созревшее чувство любви к нему усохло на корню. Так мне казалось… Лето пролетело незаметно. Внутренне чувствовала, стала взрослее; начала замечать усиленное внимание одноклассников и ловить на себе заинтересованные взгляды мужчин на улице, в автобусе, в магазине и в кино. «Вот это штучка! – не раз слышала восхитительные возгласы за спиной». Это льстило, это так льстило эгоистичному самолюбию!
Первого сентября 19**года после школьного звонка, за воротами школы меня встретил Евгений с букетом цветов ярко-алых роз.
– Я без машины, – начал Женя, – предлагаю пройтись; погода замечательная.
– Цветы кому? – с пренебрежением поинтересовалась я.
– Ах, прости! – Женя, чувствовалось, немного нервничал. – Поздравляю с праздником знаний, Первым Сентября!
– Спасибо! – отвечаю немного высокомерно, с чувством собственного достоинства, я знала, чего стою. – Думала, грешным делом, забыл обо мне. – Но цветы не взяла.
– Что ты, Нина! дела всё: верчусь, как могу, жизнь устраиваю; время на месте не стоит, разрешили коммерцию; пробую себя на этом поприще. – Затараторил Женя. – Цветы возьми, для тебя самые лучшие купил.
– Самые лучшие – говоришь, – сыронизировала я.
–- Да.
– Так оставь себе, раз они самые лучшие, – вылила в костёр болтовни ковшик воды, – а я без цветов как-нибудь проживу.
Цель моей жизни вырисовывалась отчетливо на жизненном горизонте, и визит Жени наложил отпечаток далёкой тревоги, лёгкий холодок которой приняла за мимолётное пустяшное ощущение. Всю дорогу Женя пытался шутить и острить, но выходило это у него коряво и наигранно, будто шутки выдавливал из себя силой. Возле дома попытался взять меня за руку; с силой выдернула свою руку, дав понять, это лишнее.
– Можно, буду встречать тебя из школы? – спросил Женя. – Когда будет время. Повторюсь, бизнесом занялся, на деловые вопросы порой дня не хватает.
– Когда будет время, – в тон ему проговорила я, безразлично и спокойно. – Пока…
– До встречи!
– Пока, – бросила через плечо и вошла в подъезд.
***
До первых белых мух Женя не показывался на глаза; оно понятно – бизнесмен! и мне было легче; ходила по субботам на танцы, целовалась с мальчишками; ох, как возбуждали их мои поцелуи; а мне что? на них смешно было смотреть, помани мизинцем, на коленях подползут, пуская слюни; любое желание выполнят, только изъяви.
Но мне, девочки, ничего от них не было нужно. Выражаясь нынешним языком, думала о карьере, а не о любовных переживаниях с соплями и слезами. В понедельник выхожу из школы с подругами, смотрю, напротив школьных ворот стоит красивый автомобиль, на капоте сидит Женя с букетом роз; увидел меня, замахал букетом и быстро перебежал дорогу.
– Пожалуйста! – протянул мне цветы.
Подруги с восхищением и с завистью посмотрели на нас, и отошли в сторону.
– Какой сегодня день? – поинтересовалась я, не беря протянутый букет.
– Понедельник, – обескуражено говорит Женя.
– То, что понедельник, знала с утра. Праздник, какой или в стране что-то произошло, и я это, из-за занятости уроками, пропустила?
– Тебя решил встретить, разве не праздник?
– То, что ты с цветами – ещё не праздник.
– Цветы возьмёшь?
– Цветы? – переспросила я. – Да, возьму. Спасибо. Я домой. Подвезёшь?
– Ниночка! – растёкся Женя в улыбке. – Купил новый авто; дела идут, контора пишет; процент прибыли идет в гору. Прошу, Ниночка, прокачу с ветерком!
– С ветерком не надо, – говорю, сажусь в машину. – Главное, в целости и сохранности доставь домой.
Подруги слышали весь разговор, глаза их вылезли из орбит, рты раскрыты в удивлении; они были растоптаны, разбиты и ошарашены. Проехали пару кварталов; Женя предложил пересесть на заднее сиденье; я согласилась, внутри меня словно какой-то чёрт резвился.
– И… всё? – спросила, раскованно разместившись на сиденье-диване. – Как зовут коня?
– «Мерседес».
– Ежу видно – «Мерседес», – продолжаю развлекаться. – Это всё, что в нашей сегодняшней программе?
Тут Женя извлекает бутылку шампанского и бокалы:
– «Вдова Клико», брют.
– И ты, Брут?
-– Не брут, а – брют.
– Слаб ты в истории, Женя, – подвожу черту и интересуюсь, – а то, что ты за рулём – это как?
– Выветрится, – отвертелся Женя, – от бокала ничего не будет.
Выпили на брудершафт.
– После брудершафта положено поцеловаться, – голос Жени зазвучал откуда-то издалека, пробиваясь с трудом через вату из пустоты, и в эту пустоту медленно проваливалась я, теряя в падении себя и поворачивая выключатель сознания.
Вернулась внезапно; словно из темноты резко вывели на свет, глаза слепнут, и ничего не понимаешь; приглушённо льется музыка из динамиков, тихо работает мотор; рядом лежит Женя и нежно касается шеи губами.
– Зачем? – резко спросила, отпрянув от него.
– Затем, что люблю тебя; люблю давно.
– Очень заметно, - провела рукой по телу, что нужно снято. – По-другому никак нельзя было?
– Пригласи тебя домой, откажешься ведь, точно; а так, – Женя провёл рукой круг, – «Мерс» тот же дом, только на колёсах.
– Так, всё разъяснено доходчиво, – грубо обрываю Женю. – Взял своё, рыцарь на белом коне. Теперь доставь девушку-простушку туда, где взял.
– Да ты что, не поняла? – воскликнул Женя. – Я люблю тебя!
–Твоя любовь на статью уголовную тянет.
– Какую статью? я серьезно говорю – люблю! – Выходит из себя Женя.
– Так и я не шучу. В камере тебя полюбят настолько серьезно, на унитаз сам не сядешь! Вези на место! – неумолимо отвечаю Жене. – Наказание грядёт неотвратимо.
– Нет, Нина, подожди. Отношение серьезное к тебе, сомнения отмети сразу; окончишь школу, учиться дальше пойдешь, тогда и распишемся; а пока будем встречаться, - Женя выстреливал слова быстро, как автомат пули, на едином дыхании. – Нина, я вправду тебя люблю!
– Ждать ты согласен, пока школу окончу? – с металлической язвинкой в голосе переспрашиваю Женю.
– Да! – с пылом выкрикивает он.
– А когда учиться поступлю, свадьбу сыграем; в путешествие свадебное поедем? – смотрю на Женю, а саму чуть смех не разбирает.
– Да! – в азарте кричит Женя.
– Нет! – отрубаю все пути назад. – Нет! это какой-то плохо режиссированный адюльтерный фильм с отвратительно играющими артистами-любителями в главных ролях, – назидательно говорю Жене и резко отрезаю, – повторяю для слепоглухонемых: взял своё, доставь девушку на место!
7
На счастье, родителей дома не оказалось, следы любви смыли горячие струи воды в душе. Мысль: – Не залетела? Отчаянно билась в мозгу; по идее, должна была обеспокоиться другим, кому отдала невинность; но, повторюсь, Женя мне нравился и рефлексивных вопросов на эту тему не возникало.
С этого дня встречи стали регулярными; новые пути достижения удовольствия открывались с применением защиты; вопрос: – Залетела? Не залетал в мою голову. Учеба ладилась; дома и в школе старалась вести себя так, чтобы о произошедших со мной переменах не догадывался никто; ни словом, ни полусловом, ни полунамёком повода не давала. Знали, куда тут денешься! что меня подвозят домой на машине, и больше – ничего.
В один из ноябрьских дней, когда пурга мела снега, смешивая снежинки, как костяшки домино игроки, мы катались на машине; Женя рассказывал анекдоты, как вдруг на светофоре резко сменил тему:
– Нина, мне нужна твоя помощь, это касается моего бизнеса; брал деньги в долг у одного приличного человека и сегодня нужно вернуть; я хочу попросить тебя отнести ему деньги, они в пакете, – Женя взял с заднего сиденья пакет-майку со свертком. – Как, выручишь?
– А почему не отнесёшь сам? – спрашиваю Женю. – Боишься, приличия его при твоём визите напрочь исчезнут?
– Нет; почему сразу боишься, – замялся Женя. – Не хочешь, отнесу деньги сам; насильно заставлять не буду.
– Ну, ты что, Женька! – засмеялась я и поцеловала его в нос. – Отнесу твои деньги, бизнесмен-конспиратор!
На тот момент, скажу вам как на исповеди, девочки, втрескалась в Женьку по самые уши; ночью спала, и все сны были с участием Женьки; а сны снились такие умопомрачительные!.. правду говорят в народе: «Любовь зла – полюбишь и козла».
***
На звонок в дверь открыл среднего роста мужчина в черной шелковой рубашке и черном вязаном кардигане, в потёртых джинсах и тапках на босу ногу. Лицо маловыразительное, одутлое, можно было предположить, он не выходит из запоя, но запаха перегара не чувствовалось. Глубокие залысины, высокий лоб; большие оттопыренные уши, чуть не рассмешили, еле сдержалась. На носу водружено пенсне в золотой оправе. От него приятно пахло дорогим одеколоном.
– Что угодно, сударыня? – поинтересовался мужчина хорошо поставленным голосом оперного певца.
– Женя… Евгений просил передать вам пакет, – сбивчиво произношу, стараясь при этом разглядеть прихожую, тонущую в тусклом свете светильника.
– Кто просил? – переспросил мужчина и сразу же проговорил: – а, Мошна! Почему сам не пришел?
– Простыл.
– Ага! Заболел; с людьми и не такое случается. – Мужчина посмотрел на меня, – Вы, выходит, его новая пассия?
– Ещё чего! никакая я не пассия! – дерзко отвечаю, раздосадованная услышанным новым словом.
– Ну да! ну да! простите великодушно! любовь, высокие чувства, слёзы в подушку и примитивные стишки в девичьем дневнике. – Возразил мужчина. – Как это до боли знакомо!
Я молчу, смотрю на него, он смотрит на меня.
– Константин Альбертович, – первым прервал молчание и представился мужчина. – Семипядьев.
– Нина, – просто ответила я. – Конотопова.
– Какое прекрасное имя – Нина! Проходите, Нина, не стоит стоять на пороге, – пригласил Константин Альбертович меня в квартиру. – Предлагаю выпить чаю с мёдом; чай у меня замечательный; вчера привезли из Китая!
– Женя ждёт в машине, – начала, было, я.
– Значит, этот стервец, сидит в машине? – воскликнул Константин Альбертович. – Струсил, всё-таки…
– Нет, не струсил, – заступилась я за Женю.
– Я слышал – он захворал; успокойтесь, Ниночка, подождёт ваш Женя; никуда не денется, – успокоил меня хозяин. – К тому же, мне нужно написать ему записку, это займёт время, и кое-что передать нашему общему знакомому.
Посреди гостиной находился круглый стол с придвинутыми стульями с мягкими подлокотниками и резными ножками; «Мебель антикварная; пусть вас, Ниночка, это ничуть не смущает, садитесь безбоязненно», - радушно предложил Константин Альбертович; паркетный пол украшал удивительной красоты ковер; «Ручная работа, ковру двести лет», - объяснил Константин Альбертович, проследив мой взгляд. На стенах, окрашенных в нежно-бирюзовый цвет, висели картины; с потолка с плафона с розетками цветов и листьев свисала хрустальная люстра; свет, проходя через подвески, играл на стенах всеми цветами радуги. Возле одной стены стоял огромный кожаный диван, одним своим видом манил он сесть и отдохнуть; с противоположной стороны стояли два кожаных кресла с журнальным столиком посередине. Ни телевизора, ни мебельной стенки с посудой, то, к чему привыкла я у себя дома, в гостиной Константина Альбертовича не было. Нина отодвинула стул с высокой спинкой и села; сидеть на мягком стуле было приятно; она положила руки на подлокотники и откинула голову на спинку. С кухни доносился неразборчивый голос хозяина квартиры; он что-то увлечённо рассказывал, думая, что она его слушает. Незаметно для себя Нина задремала, так уютно и комфортно было в гостиной.
– Вот, чай готов! – вывел меня из дрёмы голос Константина Альбертовича. – О! да я вижу, вы спите! Pardon!
Нина быстро вскочила, покраснела, будто застали её за каким-то постыдным делом.
– Ой! Простите!
– Полноте, Нина, голубушка! Откушаем чаю! – дружелюбно проговорил Константин Альбертович.
Хозяин квартиры чай пил с блюдца; следом за ним с блюдца начала пить чай и она; из хрустальных розеток брала мёд и варенье красивой серебряной ложечкой.
– Остались от бабушки, – упредил её вопрос Константин Альбертович. – Купила их после войны; видите надпись: «С Победой!» Дедушка привёз два серебряных подстаканника после войны; «Трофей, – гордо говаривал дед»; один подстаканник благополучно потеряли, второй хранится бережно: семейная реликвия.
Константин Альбертович отхлебнул чаю с блюдца и поинтересовался:
– А у вас, Нина, есть семейные реликвии?
– Наверное, есть; точно не знаю, – Нина тоже отпила чаю.
– Поинтересуйтесь при случае у родителей, Нина; когда есть семейные реликвии – это очень хорошо.
– Угу, обязательно. Константин Альбертович, вы сказали про один подстаканник «благополучно потеряли» – почему?
– Сказать – украли, звучит как-то неблагозвучно, а «благополучно потеряли» – вежливо и благородно. Удовлетворил ваше любопытство, Нина?
Помогая одевать Нине пальто, Константин Альбертович предложил приезжать в гости просто так, попить чаю и поговорить; есть ещё коллекция старинных книг и монет. Но Нина вежливо отклонила предложение; взяла конверт с запиской для Жени и завёрнутый в газету небольшой свёрток.
– И всё-таки, Нина, прошу не отклонять так категорично моё предложение; неудобно одной, заходите с Евгением. Буду рад! – Константин Альбертович на прощанье поцеловал ей руку.
– Почему так долго? – поинтересовался Женя, когда она села в машину.
– Чай пили с мёдом и вареньем; Константин Альбертович рассказывал про семью; картины у него на стенах висят дорогие и ковер старинный на полу. Знаешь, что? – Нина хитро прищурила глаза.
– Что? – насторожился Женя.
– Он меня попросил приезжать к нему, когда захочу; чаю попить; коллекцию книг и монет посмотреть. Вот!
– Вот старый хрыщ! – смачно выразился Женя. – Ты ему что ответила?
– Как что? Одна не приду, пусть и не думает, а вот с тобой – пожалуйста!
– Молодец! – похвалил Женя. – И что он?
– Да ты что заладил: что ты, что он! Со мною бы пошел и узнал из первых уст. – Рассердилась она.
– Хорошо, не серчай; и всё-таки…
– Ну, ты и гад, – смягчилась Нина. – Говорит, раз не можешь одна, пожалуйста, приезжай с Евгением. Жень?
– А?
– Почему Константин Альбертович назвал тебя поначалу как-то странно – Мошна?
– Карман.
– Что – карман?
– Мошна – это карман, – объяснил Женя. – Хватит, поехали, прокатимся!
– А записка; а сверток? его же нужно срочно отвезти, – затараторила Нина.
– Записку прочитаю потом; свёрток потерпит до завтра, –Женя завёл мотор, машина плавно выехала со двора. – Значит, приглашал одну в гости? – будто перепроверяя услышанное, спросил Женя.
– Ты что, оглох? Уже говорила – да!
– Вот козёл старый! – импульсивно отреагировал Женя. – Носит же таких земля!
– Зря ты так, очень дядечка хороший, – заступилась Нина за Константина Альбертовича.
– Ты скажи ещё – положительный! – рассмеялся примирительно Женя.
8
Три раза в неделю по просьбе Жени я относила в разные квартиры по разным адресам свёртки, сумки с вещами, записки. На мои вопросы Женя отвечал всегда одинаково:
– Нина, это – бизнес; у него такие правила; помогли тебе, значит, ты помогаешь другим. Принять помощь, но отказать в ней – непростительное свинство.
К новогодним праздникам, что в школе, что дома, готовились основательно: в школе вешали гирлянды на стены и потолок, ставили лесную красавицу елку и украшали её игрушками, снежинками из цветной бумаги, ватой, имитируя снег, верхушку украшали красной звездой. Дома делались заготовки для салатов, мариновали поросёнка; покупали щук для фаршировки; в кладовой стройными рядами стояли бутылки с напитками с шампанским, водкой и ликёрами – праздник собирались встречать во всеоружии. Продуктовая мобилизация любые непредвиденные неудачи сводила к нулю. Попить-поесть основательно и с размахом, от всей души гульнуть – наш народ совсем не любит!
Я ещё нежилась в постели, воскресенье любимый день, как до меня донесся звонок телефона; сердце у меня радостно забилось, Женя уехал в командировку и должен был на днях вернуться; но голос мамы меня встревожил:
– Нину? Представьтесь, пожалуйста! Какой такой Константин Альбертович? Старинный товарищ друга Ниночки Жени?
Я стояла рядом и впитывала взглядом всё негодование мамы, ясно читаемое в глазах.
– Тебя, – мама протянула мне трубку.
– Слушаю, - тихо произнесла я.
– Ниночка, вы помните адрес, по которому я проживаю? – быстро спросил Константин Альбертович.
– Да.
– Вам нужно срочно приехать, это касается Жени; нет-нет, с ним всё в порядке, но ему необходима ваша помощь, -– голос Константина Альбертовича был крайне взволнован, и волнение передалось мне. – Возьмите любое такси и приезжайте; платить вам не придётся; назовёте водителю адрес и скажете слово «Бурелом», он поймёт. Жду вас немедленно!
Я продолжала держать трубку возле уха, хотя слышала в ней гудки отбоя; кровь прилила к лицу; в висках застучали молоточки; мыслей никаких не было.
– Кто звонил? – мамин вопрос вернул меня из размышлений.
– Дядя Жени.
– В таком случае, почему он назвался старинным приятелем твоего друга? – сурово спросила мама.
– Откуда я знаю! – слезы потекли из моих глаз.
– А я знаю, ты связалась с дурной компанией и твой Женя…
– Мама, не начинай! С Женей что-то случилось, я чувствую, а дядя говорит, всё в порядке. Я еду к дяде!
– Нина, – мама стала поперёк коридора, – никуда ты не поедешь.
– Поеду! – Выкрикнула я. – Дядя сказал нужно срочно приехать.
Я быстро оделась и выскочила в подъезд. Хочу сказать одно, если бы папа на тот момент был дома, я никуда не поехала бы; он единственный иногда проявлял твёрдость в общении со мной; но на мою беду, его дома не оказалось – с друзьями поехал на подлёдную рыбалку.
Громко хлопнула дверь подъезда, проведя черту между прошлым и будущим.
***
Остановилась первая попавшаяся машина; водитель-армянин масленым взглядом рассмотрел меня с головы до ног; затем спросил слащавым голоском:
– Куда едищь, красавиц, а? садись, дорогая. Давизу пачти биспалатно!
Я назвала таксисту адрес. Он назвал сумму. Немного поколебавшись, нагнувшись к окошку, тихо прошептала:
– Бурелом.
Таксист побледнел, лицо осунулось. Взгляд из слащавого, мигом стал заискивающим, без акцента; лакейским голосом с извиняющимися нотками говорит:
– Прости, дорогая, не понял адрес сразу. Да? Думал, да? ослышался; конечно, садись; довезу осторожно, как вазу хрустальную!
В знакомый подъезд влетела как ракета, как оказалась возле нужной квартиры, не помнила, как и то, когда открылась дверь, и в проёме двери показался Константин Альбертович, я давила на кнопку звонка побелевшим от надавливания пальцем.
Константин Альбертович аккуратно взял меня за руку и ввел в прихожую. Из гостиной пахло табачным дымом, благовониями и дорогой мужской парфюмерией. Константин Альбертович помог снять пальто. Сапоги я сняла сама и обула меховые домашние тапки.
– Ниночка, – начал Константин Альбертович, проведя меня на кухню, - хочу предупредить, чтобы ты ничего и никого не боялась: зла тебе никто не причинит. Ничему не удивляйся, в гостиной находятся мои знакомые, очень важные и, в первую очередь, весьма интересные люди. Они тебе сразу понравятся, но и ты тоже должна понравиться им.
– Зачем? – удивилась я.
– Ты хочешь помочь Жене? не так ли? – вопросом на вопрос ответил Константин Альбертович.
– Да.
– Значит, будь умницей; веди себя правильно и понравься моим друзьям.
Константин Альбертович вывел меня из кухни, открыл дверь в гостиную и слегка подтолкнул меня, шлёпнув мягко ниже пояса.
Я обернулась и сердито взглянула на Константина Альбертовича, но он мигнул глазом и улыбнулся ободряюще. Я вошла в гостиную. За столом сидели трое мужчин приблизительно одного возраста с хозяином квартиры.
– Позвольте представить нашу гостью – Нина! – пропел, растягивая гласные, Константин Альбертович.
– Здрасьте, – только и могла сказать я, застыв как мумия.
Первым поднялся из-за стола гость справа от меня. Короткий ёжик седых волос, гладко выбритое лицо с ярко выраженными глубоко посаженными карими глазами. Нос с лёгкой горбинкой, на скулах кожа натянута, того гляди лопнет. Сухопарый и высокий. Гость цепким взглядом окинул меня с головы до ног и произнес:
– Барсуков Игнатий Алексеевич; предприниматель и коллекционер.
Следом за ним представился гость, сидевший посередине стола. Он был полная противоположность Барсукову: круглый, как мяч, лицо напоминало грушу, нос приплюснут, полные губы бантиком, глазки маленькие, пальцы толстые как сардельки, украшены золотыми перстнями. Долго меня он не рассматривал, произнёс, смешно хрюкая:
– Хр-хр! Кабанчик Петр Петрович; как вы сумели догадаться, тоже предприниматель и коллекционер. Интересы мои разнообразны…
Закончить ему не дал третий гость, не вставший из-за стола:
– Довольно, Петя! Мы все коллекционеры: и ты, и я, и Костя, вон. Любого на улице останови, и он окажется коллекционером. Всё зависит от вкуса и направления коллекции. Итак, милая барышня…
– Нина, – подсказал Константин Альбертович.
– Милая барышня Нина тоже из коллекционеров, но сейчас она не догадывается, в чём заключается её интерес, – гость взял трость и с трудом поднялся из-за стола. – Шмидт Роберт Генрихович. Моя коллекция началась с травмы ноги в далёкие годы бурной молодости, и ежедневно пополняется. Дня, Ниночка, не проходит, чтобы в коллекции что-нибудь не прибавилось. Вот и сегодня приобрету интересный экземпляр.
– Что именно? – поинтересовалась я.
– Всему своё время, – своим ответом Шмидт разжёг интерес ещё больше, - всему своё время.
Не назови имени-отчества-фамилии, Шмидта и так можно было легко идентифицировать как отпрыска древних германских кровей: прямой, как линейка, белокурый, с первого взгляда не определить, седина это или естественный цвет волос. Под костюмом легко проглядывалось накачанное тело. Кисти рук сильные, ухоженные, с маникюром и веяло от его особы тем, что называют мужественностью. Красивый голос, чистая, без акцента речь.
Меня усадили за стол, Константин Альбертович налил чаю; я выпила, все ждали этого и Шмидт начал:
– Ниночка! Вот вы интересовались, что я приобрету сегодня; так вот, сегодняшнее мое приобретение – вы! Да-да! не удивляйтесь так! Ваш друг Ойген, простите, Евгений, он, кстати, находится в соседней комнате, не вышел к нам просто из природной скромности; скромность – это хорошее качество, но … далеко не всегда.
Я попыталась было встать, да не смогла, точно приклеили к стулу; попыталась двинуть рукой, не вышло; сознание заволокло сладкой пеленой; глаза закрылись; но голос Шмидта слышала отчётливо:
– Скромность украшает девушку, не мужчину; мы решили узнать, как это сделать, лишить скромности мужчину, именно Евгения. Хотите узнать почему? Женя должен крупную сумму денег, начал увиливать от назначаемых встреч, скрываться, проявляя чудеса конспирации; нам, – Шмидт обвёл рукой мужчин в гостиной, – показалось это очень странным, и мы поняли вдруг, ему мешает природой врождённая скромность показаться нам на глаза и прояснить ситуацию, почему не может отдать долг. Знаете, что нам должен Женя?
– Деньги, наверное, – предположила я.
– Правильно, – Шмидт налил себе чаю и отпил глоток. – Деньги. Отдать долг не может, он вырос; но долг платежом красен. Женя пошёл на отчаянный шаг и предложил отдать долг натурой. Признаюсь, мы были несколько обескуражены его предложением. Подумали и немного его поучили; все здесь собравшиеся мужчины натуралы. Мужские бёдра, в отличие от женских ножек, с ума не сводят, и покоя ночью не лишают. Когда Женя пришёл в себя после преподнесённого нами урока, объяснил суть дела, и мы пришли к выводу: предложение очень заманчиво, хотя и несколько попахивает статейкой. Нас Женя заверил, что был с вами не единожды близок и что близость с другими мужчинами, более опытными, чем он, подымет вас в собственных глазах и прибавит авторитета. Вот с этим поспорить было трудно, и мы любезно согласились. Также Женя согласился наблюдать за происходящим в качестве зрителя. Поверьте, Нина, для нас деньги не столь важны, но коль взял, то верни. Не можешь, объясни, отложим на время возврат; убегать, скрываться, прятаться – дурной тон; за это надо наказывать. Вот и решили мы Евгения наказать; в наказание входит созерцание наших с вами эротических игр. Ну, так как, вы согласны помочь вашему другу вернуть долг?
Шмидт подошёл ко мне, взял за подбородок, приподнял его:
– Костя, ты с чаем не переборщил, случайно?
– Роб, какой взгляд у Нины: пустой и рассеянный?
– Кажется, да. Хотя не совсем уверен. Химик – ты.
– Всё в порядке. Можешь не сомневаться: Нина готова. Мастерство не пропьёшь, оно с годами улучшается.
– Нина, вы согласны помочь вашему другу вернуть долг? – повторил вопрос Шмидт.
– Да, – ответила я, чувствуя себя не самой собой; будто кто-то во мне появился второй, руководящий моим телом и поступками.
Кабанчик потёр пухлые ладошки:
– Ну, что? перейдём к приятной части наказания?
Шмидт остановил Кабанчика:
– Лекарство окончательно начнёт действовать через полчаса; подождем; это время роли не сыграет. Костя! – Шмидт снова обратился к хозяину квартиры. – Ты гарантируешь, она не будет сопротивляться?
– Роб, когда я подводил? – возмутился Константин Альбертович. – Нина всё будет понимать и всё исполнять, единственное чего не сможет – сопротивляться; а к утру все воспоминания рассеются как дым. Петя, – Константин Альбертович окликнул Кабанчика, – вспомни-ка ту тунгусочку в лагере; как её ни играли, а она была неугомонна и исполнительна!
-– Вспомнил тоже! – довольно протянул Кабанчик. – То – дикое дитя природы; для неё у настоящего мужчины сыграть на флейте – уже праздник. Я умолчу про другое, обошлось всё тогда, как я помню, без твоих химических штучек.
– Ну, не скажи, Петя, – вмешался в разговор Барсуков. – Действительно, Костя, гарантируешь, что девчонка не сковырнётся, сердце не выдержит?
– Фирма веников не вяжет – гарантирую!
Шмидт приблизился ко мне, снял кофточку и стиснул соски сильными пальцами, я только застонала:
– Этот станок и не выдержит?
Затем сжал мне щёки пальцами, губы мои округлились, рот приоткрылся:
– Эти губки да не сыграют на флейте?
Затем Шмидт посмотрел на часы:
– Всё, мальчики, пора. Девочка в боевой готовности. В полном сознании, но в полном не сопротивлении. Костя, пойдём в твои прекрасные альковы!
Нине Шмидт тихо сказал на ушко:
– Встань и иди за Костей, умничка девочка.
Нина вошла следом за хозяином квартиры в спальню, когда глаза освоились с полумраком, увидела Женю. Он сидел привязанный к стулу. Лицо опухло и в засохших кровоподтеках. Левый глаз полностью заплыл. В окровавленном рту тряпичный кляп.
9
На тот момент во мне присутствовало две Нины: одна – это я обычная, эгоистичная натура, привыкшая всеми повелевать; другая – марионетка, руководимая невидимыми нитями неизвестным кукловодом и она, вторая Нина, занимала в моем сознании главенствующее положение.
Первая не могла сопротивляться; вторая – рада была выполнить любой каприз.
Первая я хотела спросить Женю: «Что ты здесь делаешь?» Как вторая опередила: «А не всё ли тебе равно?»
Вторая я огляделась, так как было всё интересно: комнату разделял тяжелый занавес из бархатных пурпурных штор пополам.
В первой половине кроме привязанного к стулу Жени находился телевизор на подставке и глубокое большое кресло. На экране телевизора разворачивались события в какой-то гостинице. Два постояльца пытались совратить горничную, предлагая последней неземные радости, от которых та отказывалась и не соглашалась быть невинной жертвой насилия.
Наконец её уговорили, горничная быстро выскользнула из шерстяного плена платья и явила себя нагую ошеломлённым дивной красой её тела постояльцам.
Поборов наигранно внутреннее сопротивление мужчины быстро обнажились и начали тискать и целовать горничную, гладить по груди, по спине, между ног. Не устояв под эротическим натиском двух жеребцов, горничная бухнулась на кровать. На неё, как коршун на жертву, набросились мужчины. Началась эротическая вакханалия.
– Нравится? – участливо спросил Константин Альбертович. – Сейчас повторим то же самое; сначала с каждым по отдельности, затем маленький свальный грех – одна молоденькая самочка и три опытных самца. Давай, милая, снимай белье.
Я стояла посреди комнаты нагая, послушно исполнив приказание хозяина квартиры. В комнату вошли один за другим полностью обнаженные гости.
Шмидт уселся в кресло, посадил меня себе на колени и спросил:
– Никогда не играла на флейте?
– Нет. Учусь играть на гитаре, – ответила я, чем вызвала громкий смех у мужчин.
– Сегодня умение играть на гитаре не пригодится, – продолжил Шмидт.
– Всё поправимо, Нина, – вставил слово Барсуков. – Играть на флейте, это повторить происходящее на экране, – и указал пальцем на телевизор, где женщина делала, минет.
– Вот это и значит играть на флейте. – Шмидт поставил меня перед собой на колени, - видишь флейту? играй! только медленно. Не люблю быстрый темп исполнения.
И я принялась играть. Остальные мужчины расположились на полу, тихо беседуя и ожидая своей очереди. Женя задёргался на стуле, замычал, начал вертеть головой. Барсуков поднялся и подошел к Жене:
– Не нравится зрелище? Сейчас выну кляп и играй сам. Знаешь, сучёнок, иногда вафлирую, таких как ты, учу уму разуму.
Женя отрицательно замотал головой.
– То-то, сиди и смотри, как твоя девочка прилежно отрабатывает твой долг, – высокомерно усмехнулся Барсуков, взял пальцами свою флейту и покачал ею перед лицом Жени. – Сиди и смотри!
Шмидт застонал, откинулся на спинку кресла и прошептал:
– Удивительная, непревзойдённая игра. Какое мастерство! Теперь ступай к Косте. Он любит звук швейной машинки. Костя, дай ей вина, пусть сполоснет рот.
Константин Альбертович расположился у стены, закинул руки за голову и закрыл глаза:
– Ниночка, приступай!
После хозяина квартиры на четвереньках подполз Кабанчик, развалился на полу и пропел сладким голосочком:
– Я люблю и быстро, и медленно. И танго, и кадриль. И много раз подряд. Не разочаруй меня, девочка! Трудись, музыкантша!
И тонко и дробно рассмеялся, успевая хрюкнуть между смешками.
***
Что было потом, девочки, помню плохо, всё происходило как в тумане. Запомнились только слова «вертолёт» и «барабан». Особенно последнее после того, как Шмидт, потянувшись, произнёс:
– Пришла пора исполнить партию на ударных. Как дела обстоят с барабаном?
И сильно вошёл сзади. Неимоверная боль скрутила меня, в глазах потемнело, хотела закричать, но сумела выдавить хрип.
– Роб, ну, ты и садист, – осуждающе сказал Барсуков. – Это ж тебе не на зоне молодого опускать.
– Долги нужно отрабатывать, Игнаша. За не отданный долг наказывать вдвойне, чтобы другим неповадно было честных людей на бабло кидать.
– Нин, как же так? – вскрикнула Танька посудница. – Это сколько же тебе годков было, когда через такое прошла?
– Да теперь-то какая разница, – Нина вяло махнула рукой, – ничего, что прошло, не исправить.
– Дальше что было? – нетерпеливо спросила Катька кладовщица. – А что? интересно, просто… конечно, если неприятно вспоминать…
– Да зачем бы я вас тогда позвала, девочки? – Нина вытерла набежавшие слёзы. – Для того и позвала – выговориться.
– Может, по рюмочке, –- неуверенно предложила Аля.
– Наливай по полной, – за всех ответила Нина.
10
– Как тебе понравились наши незатейливые экзерсисы, Нина? – спросил Шмидт, делая мне укладку волос. – Удивляешься, откуда такое мастерство?
Шмидт довольно рассмеялся.
– Еще на зоне, детка, перед тем как отшпилить пидора, – не лишать же процедуру эстетической составляющей? – делал ему укладку волос. Выбривал начисто личико, наносил макияж. Яркой помадой красил губки: мне нравится окунать перо в красные чернила…
– Роб не боялся быть загаженным, как пидор. – Барсуков вступил в разговор. – Всегда плевал на такие старомодные рассуждения.
– Не боялся, Игнаша прав, – Шмидт закрепил причёску лаком, – мне всегда было плевать на какие-то правила и устои. Для меня существовали правила, установленные мной, и, если кто не был с этим согласен, мог свободно высказать своё мнение, отведав вкус моего пера. – И продолжил.
– Уроки стрижки и макияжа брал там же, на зоне. Сидел в 19**том году в N-ском ИТЛ за любовь к малолеткам знаменитый на весь Союз мастер-парикмахер и визажист, как это модно говорить ныне, Тихонов Геральд Самсонович.
Всему бомонду столичному увядшую красоту возрождал буквально из небытия. Чудеса творил неимоверные! на конкурсах внутри Союза и в странах социалистического лагеря первые места брал, впоследствии принимал участие, но более весомо – членом жюри.
Закрывали глаза на его шалости – любил свободное время от трудов праведных проводить с малолетками, совращать которых смысла не было, сами сошли с пути верного.
Предупреждали, конечно, чтобы не зарывался, знал рамки. Звезда звездой, но и звезды часто гаснут. Следовал этим правилам наш Геральд Самсонович, да прокололся на одном пидоре малолетнем. Оказался тот, то ли сынком видного партийного бонзы, ищущим острых ощущений на свою представительную попу, то ли племяшом генерала из влиятельных внутренних органов. Что уж там у них случилось между Геральдом и тем пиндосом, кто знает. Остался пидор неудовлетворённым или Геральд перестарался – тайна. Но узнали наверху про это и решили дать время нашему искусному цирюльнику подумать, а заодно и уберечь от излишнего гнева родственничков, пока накал страстей не утихнет. Вот и определили в наш лагерь севильского цирюльника от глаз подальше. За любовь неординарную строго наказать следовало Геру, но, когда в лагере узнали, чьим родственником был малолетка – оставили, как есть. Погоняло дали Геральду – Тиша, от фамилии. Тиша рассказчик превосходный был, а может, и есть. Скучно зекам ночью, вот он байки про жизнь светскую и травит, живот порвёшь со смеху. Порядок навёл на головах нашей бродяжной братии: фирменные причёски от мастера, да где? на зоне! От мастера международного класса! Не зона была, а выставка причёсок. А чтобы Тиша не скучал, иногда подгоняли ему материал для развлечения, чтобы плоть не иссохла, и чтобы не подох бедняга, отягощённый тяжёлым житием зоны.
Закончил Шмидт рассказ, осмотрел меня со всех сторон и заключил:
– Братья-коллекционеры, это моя лучшая работа!
Затем обратился к хозяину:
– Костя, дай шприц с зельем, пора девочку приводить в чувство.
***
Сделали, девочки, мне укол и снова вернулась на место прежняя Нина, вернулась в своё тело, а оно, тело, болит. – Нина заплакала. – Стало мне обидно, что первая любовь боком вышла. И оттого ещё больнее, что использовали, как животное лабораторное.
Слово «экзерсис» – упражнение по-латыни. Не хочу разговор с родителями пересказывать. Тяжело вспоминать всё это: крик стоял дикий, впервые за всё время отец так ремнём отстегал, еле на кровати лежала, сесть не могла. И пожалела: раньше нужно было ремнём учить, пользы было бы больше, но поздно – оборвалось внутри что-то, пусто на душе стало.
11
Пакеты с деньгами, которые я носила, оказались выручкой от продажи наркотиков; а пакеты – пакеты с разной всякой этой гадостью.
Догадался до всего этого Женя, мол, на девочку никто и не подумает, и прав оказался; всё шло гладко. Была я, девочки, как оказалось, обычным наркокурьером. После групповухи, стала ещё и проституткой. Со временем, прозвище прилипло – Флейта. Был такой сутенёр, Гриня-дирижёр, с неоконченным консерваторским образованием. Так он всем девочкам давал имена инструментов: Валторна, Фагот, Скрипка, Тарелка.
С горем пополам окончила школу. Не без родительских истерик, криков и слёз матери. Но было мне тогда всё равно: на гору идти тяжело, сил истратишь уйму, под горку катишься легко, без усилий. Ушла из дому к Жене. Была с ним не жизнь – плевок самой себе в лицо. Однако быстро привыкла и начала находить свои прелести и радости. Была я не первой на этом скорбном пути и, уж точно, не последней. Женя сел на иглу. Денег часто не хватало. Чтобы купить ему дозу, торговала тем, что имею. Проститутка, наркокурьер – подходящее инженю для эгоистки, которая прежде видела только себя и никого вокруг не замечала.
***
В одной из поездок с товаром Нину задержали. По наводке или совпадение, до этого шло всё гладко, не важно. Время прошло, всё позади. Привезли Нину в *5 отделение г. Иркутска. Посадили в камеру с какой-то старухой, одетой в хорошие, но изрядно поношенные вещи. Слово за слово, разговорилась Нина со старухой. Рассказала о себе сколько нужно. Старуха ответила тем же. Оказалась она вовсе не старуха. Было ей всего пятьдесят, но образ жизни и годы наложили свой иезуитский макияж. Дежурный сержант услышал шушуканье в камере, пнул по двери, гул резиновым эхом разнёсся по коридору, да как заорёт в окошко:
– Прекратить разговорчики, гулёна-Матрёна!
Посидели, Нина со старухой пару минут, сели на нарах поближе, несчастье сближает, и шепотом продолжили беседу.
– Как тебя звать-то, дочка? – опомнилась первой старуха.
– Нина, – ответила Нина.
– Хорошее имя, – одобрила старуха, – я – Валя. Можешь звать просто – тётя Валя, – и тихонько дробно рассмеялась.
– Чего смеётесь? – спросила Нина.
– Да, так, – попыталась принять серьёзный вид тётя Валя, – судьба зла. С кем захотела, с тем и свела…
До их слуха донеслась музыка. Звучали блатные песни. Слышался пьяный громкий хохот.
– Праздник у них, что ли? – Нина подошла к двери и прислушалась.
– У них, чертей окаянных, что ни день, то праздник. – Тётя Валя подошла к Нине. – Видать, день рождения отмечают. До государственных ещё далеко.
– Чей день рождения? – поинтересовалась Нина.
– Да уж не твой – точно! – тётя Валя коротко всхохотнула и сделала серьёзное лицо, положив указательный палец на губы, обратилась во внимание.
По коридору шли, стуча дубинками, два милиционера – сержант и рядовой и вели вялую беседу. «Как-то сегодня, Колян, – цедил слова сержант, – скудно с уловом». «Ага, – поддакнул рядовой. – Твоя, правда, Валера. Алкаши без бабосов. Блядей две и то одна развалина старая». Сержант гоготнул зычно, срыгнул, искривил лицо. «Что, – участливо спросил Колян, – хреново?» «Да, – ответил Валера, – водка, кажись, не туда пошла». «Скоро полночь, время отдыхать, а баб нет, – гнул своё Колян. – Что ж, придётся и старуху пялить». «А то, – вылил слова Валера, – старухи они знаешь какие, думают, что каждый раз – последний и такое вытворяют! Вот и эта на вертеле не подохнет!» и снова заржал.
Тонко в камеру потянуло табачным дымком. Тётя Валя громко сглотнула слюну:
– Эх, закурить бы не помешало…
– Что там? – не выдержала Нина.
– Цыц, – отрезала тётя Валя. – Дай дослушать.
«Ты как хочешь, Валера, – протянул Колян, – старуху ети, всё одно, что хер в песочницу тыкать. Дадим огурец, пусть себя ублажает». «А ты голова, – Валера похлопал Коляна по плечу. – Мы ей вместо огурца, дубинку дадим – ментовской вибратор!» – и снова зашёлся ржаньем. «Молодую распишем на хор, затем на сольные партии, – фантазия Коляна била фонтаном. – Смычковые и духовые».
Шаги в коридоре стихли. Валера посмотрел на Коляна долго и задумчиво. Пожевал губами, свёл брови к переносице, переваривая предложение Коляна. Вдруг лицо Валеры осветилось простодушным светом. Шевельнул ушами пару раз – Колян присвистнул даже – и изрёк:
– Дело!
Покачал головой, поцокал языком. «Вот Муха-то обрадуется. – Колян важно, распушив хвост, повёл плечами. – Муха молодую так отшпилит – класс! – продолжал мыслить вслух Валера. – Сегодня он тебе покажет, как баб драть нужно!»
Шаги снова раздались и утихли в конце коридора. Недовольно буркнула побеспокоенная металлическая дверь. И – стихло.
12
Тётя Валя посмотрела на Нину испуганным взором:
– Не повезло тебе, дочка.
– С чего бы это? - насторожили Нину и взгляд, и бледность тёти Вали.
– А того, что день рождения отмечают. Наелись-напились. Теперь им зрелища подавай. Патриции… мать их… – ответила тётя Валя. – Развлечений захотелось орликам. Я для них стара. Ты – в самый раз.
Нину затрясло. Она, стуча зубами, произнесла, заикаясь:
– Может, передумают?
– Могут и передумать, соколики, коли водки много выпьют. – Тётя Валя замолчала. – Нет, не передумают. – Без сомнения в голосе заключила она.
– Это почему же? – удивилась Нина.
– Да потому, Ниночка, доченька моя милая, – треснул голос у тёти Вали и задрожал. – Старшим сегодня Мухарский Толик. Прапор. Муха-Цокотуха зовут его за глаза. Сука, скажу тебе, редкостная. Зверь, не человек.
***
И поведала тётя Валя Нине жуткую историю.
Что, не знаю, но что-то не сложилось у Толика Мухарского в молодости с девушками. То ли первая любовь не оправдала надежд, то ли что постороннее вмешалось и перемешалось всё в его голове в ералаш какой-то. Кто ж его, ирода, знает! Но клацнул у него в башке переключатель – бац! – и свет погас. Когда возвратился свет, Толик Мухарский смотрел на женщин уже другим, не влюбленным и заинтересованным, озлоблённым и уничтожающим взглядом. Даже мать евонная начала его бояться. Как только увидит, глаза в щелки у сыночка превратились, старается тотчас укрыться в спальне или в ванной. Так продолжалось пока не призвали Толика в армию. Занимался он в школе спортом, исправно посещал все секции спортивные от волейбола-баскетбола до дзюдо в Школе спортивного резерва. Упорный был в достижении цели. Первые места и призы грёб, такой талант у него был к спорту, но и жестокий. Хотя жестокость, как и добродетель, тоже можно отнести к одной из граней таланта.
Нина слушала тётю Валю, раскрыв рот. Та щёлкнула её по носу: «Закрой, а то муху проглотишь!» И осеклась. «Дальше», – попросила Нина.
Дальше вот что.
Военком с комиссией, видя его отличную физическую подготовку и зная о занятиях спортом, предложили ему проходить службу в десантных войсках. Он согласился. И через пару недель новобранец Мухарский был в *ском учебном отряде, где-то в Средней Азии. Отличился он и там. Опять-таки, по слухам, а им не верить грех. В общем, попытались старики-дембеля утвердить свою власть над духами, показать, кто в казарме главный. Вечером, после отбоя, затеяли обучение молодого пополнения. Другими словами, Нина, казарменная неуставщина, сломить волю молодого солдата и сделать из него покорного раба. Да не тут-то было! Да не на того нарвались! На первом «молодом» дембеля со счёта и сбились. «Эй, ти, дух, тащи сюда прижками сигарети!» – были их первыми и последними словами в тот вечер. Первым, как ты, Нина, догадалась, был Толик Мухарский. Заправляли ночью в казарме дембеля-кавказцы: ингуш, осетин и азербайджанец. Попытались они его сломить, и он их сломал. Тройка неудачных педагогов долго залечивала в госпитале переломы ребер, сколы челюстей; ингуш и азер – переломы рук плюс к рёбрам; осетину, самому непонятливому преподавателю, вставили титановую пластину в ногу и в лоб. Раздробил Толик ему железной кроватной дужкой в процессе ликвидации безграмотности голень с чашечкой и лобную кость. Но это уже как закрепление урока после слов осетина, что он, дух, не знает, с кем связался, что приедут из его аула бравые горцы и научат жизни. Челюсти у незадачливых учителей срастались плохо и на дембель ушли они со скобами во рту. Ох, как Толик лютовал над ними! Когда вершат расправу, дерутся, то орут. И для устрашения, и для подъёма боевого духа. А Толик – молча, лишь воздух со свистом через стиснутые зубы и ноздри вырывался. Оцепенение со всех в казарме сошло, когда три героя-кавказца были неподвижны, но Толик методично продолжал их бить. Вернее сказать, добивать. С трудом оттащили его от неподвижных тел и уняли. В санчасти Толику сделали укол и к нему спокойствие вернулось. Уголовное дело заводить не стали. Эта тройка «лихих горцев» достала до печёнки и прапоров и офицеров.
Чтобы полностью замять дело и прекратить слухи, Толику предложили перевестись в часть, которая должна была вскоре отправиться в Афган. Он с радостью согласился. А уж как в Афгане буйствовал! И геройствовал тоже! Орден «Боевого Красного Знамени» просто так на грудь не вешают, за красивый томный взгляд и интригующие речи. Там, в Афгане, высушил Толик себе мозги анашой полностью. Однажды напился ханки, палёной была, точно, накурился дури до отупения – и, что там ему взбрело в голову, какие мультфильмы словил, бог весть! – взял пару АКМов, рожков с десяток, рассовал лимонки по карманам и – вперёд! Что такое для обученного, выносливого десантника маленький марш-бросок ночью? Всё равно, что бешеному псу, десять вёрст не крюк. Именно в десяти километрах от расположения части находился небольшой кишлак. Если проживало там сто человек, и то хорошо. Вот этот кишлак, названия не знаю, и вырезал полностью. Никто и ничто его не остановило: ни дети, ни женщины, ни старики. Ножом порешил всех. Трупы сложил в одном жилище и поджёг. Отсалютовал стрельбой из автоматов и сколько смог, разрушил, бросая в каждый дом гранаты и стреляя по дувалам. Вернулся в часть с ушами убитых, нанизанных на верёвку. ЧП! Что делать? Только под суд! Афганские товарищи в негодовании, жаждут отмщения! И тут ему повезло! Как уж выкрутились командиры и особисты, но списали всё на спецоперацию по уничтожению банды моджахедов. А то, что пострадали мирные жители, что ж, нечего было прятать бандитов.
Мухе орденок сообразили. Госпиталь в Кабуле. Затем психушка в госпитале КГБ. Списали расстройство психики на боевые операции – и отправили с почётом домой.
Вернулся домой герой-афганец, куда ему идти? Или в бандиты, или в милицию. И он пошёл в милицию. Устроил его дядька, ментовской генерал. Слыхала такого – Барсуков Генашка? Тварь, племяш весь в него… Тётя Валя остановилась, передохнула. «Муха» – кличка от фамилии. «Цокотуха» – носит берцы с подковками титановыми на носках и каблуках. Идёт, пяткой по полу – искры летят. И цокот издалека слышен. Этими берцами не одного раба божьего инвалидом сделал или на тот свет спровадил. Всё с рук сходит! Дядя горой за племяша! Тётя Валя заметила, что Нину от фамилии Барсуков всю передёрнуло. Как руки её сжались в кулаки, лицо побледнело и напряглось.
– Что, дочка, вижу, знаком тебе этот изверг рода человеческого?
– Лучше бы не знать, – сквозь зубы ответила, дрожа телом, Нина.
Ведь после того раза, перед Новым Годом, когда её вчетвером истязали эти нелюди, её приходилось не раз бывать в той квартире и встречаться с компанией. Напоят чаем с гадостью, укольчик в вену – и глумятся, суки. А Нина, как послушная кукла, выполняет все их прихоти – сделай так, сделай сяк. Рассказала Нина тёте вале про своё первое знакомство с Барсуковым и компанией. Слушала её тётя Валя внимательно, иногда цокала языком и качала головой.
Когда Нина закончила, тётя Валя выдала:
– Всё-то им, нехристям, с рук сходит! И когда закончится?
– Неужто нельзя найти управу на них? – спросила Нина.
– Управу? – с сомнением переспросила тётя Валя. – О чём ты, деточка! Это – система. Очень могучая система. Своих не сдают, в обиду не дают, в горе не бросят…
– А законы, что же?
– Законы… - усмехнулась горько тётя Валя. – Все законы пишутся либо ими, либо под них. Слушай, дочка! – истерично вскрикнула вдруг она.
– А? – испуганно отреагировала Нина.
– Бэ – тоже витамин. Ты словно в другой стране родилась и сюда погостить приехала. Много кому знание законов дало? – тётя Валя, уперев руки в бока, уставилась на Нину.
– Так я их и не знаю толком то.
– Даже если бы и знала – дырка от бублика на потеху публике.
– Зачем вы так, тётя Валя? – обиделась Нина.
– Да, я и сама не знаю, - сникла, как праздничный шар, тётя Валя.
– Разговорчики прекратить, лярвы долбанные! – с силой пнул по ничего не подозревающей двери сержант. – Не то махом рты колбаской кожаной заткну! – и дико засмеялся, довольный своей остроумной шутке.
– Всё, начальник, молчим, молчим! – тётя Валя на нарах свернулась клубочком и втянула в острые плечи голову.
– То-то же, нахроты сраные! – шаги сержанта удалились.
13
Тётя Валя распрямилась и продолжила шёпотком.
Знаю я всю их кодлу поганую, Ниночка, не понаслышке. И порознь с каждым встречаться приходилось и со всеми вместе за свою долгую жисть. И то, что они звери, для меня не новость.
Она остановилась, пугливо оглянулась по сторонам, хотя, кто бы мог в камере подслушать и продолжила.
Познакомились все они на зоне.
Каждый из них тянул срок за своё. За исключением Барсукова, он ведь мент.
Костя, Константин, талантливый химик, да только не в ту сторону направил русло своего таланта. Знаешь, про таких говорят, что твои бы знания да на пользу Родине, цены бы тебе не было. Но он пошёл криминальной тропой.
Имея отличные познания в химии, готовил порошки, подмешивал в напиток понравившейся девушке. Та глоток-другой и в сетях паука. Что он ни говорит, выполняет. Желания-то были у него одни – сексуальные.
Стерёгся долго, да утвердившись в безнаказанности, расслабился. Однажды в каком-то баре подсыпал зельице-то, змей сластолюбец, да не той, как оказалось. Очнулась, красна девица, глядь, а она уже и не красная вовсе, да и не девица, к тому же. Не стала скромничать. Домой вернулась, бухнулась в ноги отцу-матери, сопли-слёзы, да всё такое сопутствующее праздничности момента и выложила. Не обошлось без гипербол, но это так, к слову. Вознегодовала маманя неподдельно, до мужа донесла, сгустив краски и добавив сочности. Отец девицы той оказался шишкой серьёзной в горкоме партии. Вызвал начальника УВД города, объяснил тому, какие ждут его светлые перспективы, если похабника не вычислят в отпущенные двадцать четыре часа для розыска. Объяснил доходчиво, без затей, вспомнив маму и папу начальника добрым словом, что руку будет держать на пульсе расследования. Взяли Костика за мошонку в туалете институтском. Молча, многоговорящими натренированными кулаками поведали проблему, его ошибкой вызванную. С красноречиво татуированным лицом, переломы рёбер не в счёт, после чистосердечного признания ошибок и короткого следствия, предстал Костя, Константин Альбертович Семипядьев перед самым справедливым на тот момент судом в мире. Так как не имел Костя в то время никакого блата и мохнатой руки, отмазывать его от срока было некому и на вопрос судьи, признает ли он свою вину, Костя ответил, что да, признаю и полностью раскаиваюсь. И по решению суда…
Тут тётя Валя скинула обувку и, отшлёпывая босыми ступнями чечётку, пропела:
И пошёл я себе в Коми АССР
По этапу в специальном вагоне,
Сигаретку подвесив на ихний манер –
Не ищите меня в Вашингтоне.
– Э! – донеслось издалека. – Да вы там что, хренов объелись, петь вздумали!
Тётя Валя остановилась, присела, развела руки в сторону и пропела:
– Ку-у-у!!!
– Ой! – прыснула Нина, прикрыв ладошкой рот.
Фильм «Кин-Дза-Дза» очень был тогда популярен. Залезла на нары с ногами, произнесла мантру, мол, неплохо бы сейчас соточку водочки да папиросочку. И без перерыва, плавно повела за уздцы рассказ далее.
Петюня Кабанчик должен был оправдать фамилию. Сидел, бедолага, за растрату. Да, не в этом суть. Собрались матёрые зэки рывок с зоны делать, где, как ты поняла, Петюня исправлял своё испорченное гражданское сознание. Ко всему подготовились они основательно, но вот с едой, почему-то, промашка вышла. Собирать хавку, время терять, а тут такая удача! Молоденький, пухленький, розовощёкий фраерок Петя Кабанчик. Что там ему языкастый главарь-зэк протёр по ушам, какие прелести побега разрисовал, какие блага неземные предложил, знает только он, но согласился Петюня идти с ними в побег. А ведь сроку ему было всего три годочка. Вечером собрались зэки в укромном месте, главарь объявил: «Представляю вам, бродяги, Петю. Искренне поддерживает он наши понятия и идёт с нами. Будет нашим «кабанчиком». А Петюня возьми и ляпни, дескать, я Кабанчик с рождения буду. Посмеялись зэки от души, похлопали по плечам Петюню, за брыльца жирные подержали: «Хорош «кабанчик», очень хорош и упитан!» Петюня не понял одного, причём здесь «упитан».
Тут Нина перебивает тётю Валю, и интересуется, что за слово «кабанчик». Та хмурит брови и говорит, что будешь, мол, перебивать, не ровен час, с мысли собьюсь – так хана! – ничего не услышишь. На что Нина извинилась. Тётя Валя махнула рукой, проехали, мол. «Кабан», «кабанчик» или «консерва» – это, милая, глупый молодой и упитанный зэк. Его берут на случай, если закончится питание, то пищей будет он. Его режут и им же питаются остаток пути, пока не доберутся до места. Жестоко, конечно, но как-то нужно выживать в этом мире. «Вы ели «кабана»?» – тихо спросила Нина. Тётя Валя отмолчалась. Нине стало дурно. Тётя Валя поинтересовалась, отчего это. Нина отвечает, что не может представить себе, как это есть человека. Тётя Валя философски заключила, что не можешь, не представляй. Ешь ведь свинину-говядину, не задумываясь над тем, что она была живой, бегала. Хрюкала-мычала, травку-помои кушала. Отбегала своё и стала пищей. Круговорот еды в природе. А вот Петюне повезло. Не стал ничьим горячим блюдом. Узнали от стукача о плане побега. Раскрыли заговор. Спас Кабанчика, Нина, наверное, догадываешься, кто. Не задумываясь, Нина выпалила – Барсуков.
Именно!
Вот он в приватной беседе за чифирьком и объяснил популярно Петюне, в качестве какого «кабанчика» видели его эти неунывающие братцы-сидельцы. Конечно, Петюне-то сразу стало плохо. Живенько он представил себе живописную, натуралистичную картину - шашлычок из своего бедра. Более недели в лагерной больничке лёжа не принимал пищи, всё блевал. А при слове «еда» его выворачивало наизнанку. Вот с этого момента и начал Петюня прихрюкивать при разговоре. Барсук, когда Петюня оклемался малость, предложил сотрудничать с ним. Перспективы сотрудничества были прозрачны и имели границы. Петюня и согласился. С его помощью Барсук много чего для своей карьеры сделал. Сам был в шоколаде и Петюню не давал в обиду.
***
Тётя Валя взяла тайм-аут. Передохнуть. Как Нина начала её пытать, а что же Шмидт? Провела тётя Валя по лицу ладошками, будто усталости грязь невидимую смыла и молвила. Поведала она, что Шмидт – разговор особый. Он – вор жестокий и безжалостный. Тюремную одиссею он начал с малолетки, с неё плавно перешёл на взросляк. Повсюду держался в отрицаловке. Перечил начальству, конвоирам, дерзил и задирался. Из карцера сразу в карцер. Так и шло его время. Чтобы не ходить на работу, показать полное неприятие закона, сломал сам себе ногу. Улучил момент, когда на пилораме, в промзоне народу было мало, лёг возле связки брёвен, проволоку подпилил, ломиком бревно из связки поддел… В общем, когда нашли Робика, был он в полной отключке. Стопа раздроблена, кость берцовая и голенная торчат зловеще алыми сосками сквозь разорванную кожу. Кровищи вокруг! Этим поступком в глазах нужных людей поднял свой авторитет Роберт и вошёл в доверие.
Отсюда хромота – кто будет лечить наглого зэка, слепили-соединили, кое-как и срослись кости неправильно. Где пути Шмидта и Барсука пересеклись, не знаю. Одно знаю твёрдо – дружат эти мерзавцы давно. Барсук у них главный. А про самого Барсукова, дескать, что знаете, спрашивает Нина. Такое знаю, что лучше и не знать. Спокойнее бы жилось, да ночью крепче спалось. «Что, прямо такие ужасы?» – не поверила Нина. Снова раздался голос дежурного, чтобы трындеть прекратили, бабьё вшивое. Не то, обещание своё, насчёт колбаски, выполнит. Тётя Валя понизила голос и сказала, что и прямые ужасы, и кривые. Точно ли, не точно, но люди сказывали, что ещё при Александре, царе-батюшке, предка Барсукова, Поликарпа Ионыча направили сюда, то ли в ссылку вместе с декабристами, то ли по службе чиновничьей. Был ли он с декабристами заодно и пострадал за это? Или узнал, да донёс вовремя – леший в курсе. Но очень хорошо Поликарп Ионыч здесь в Сибири устроился. Встал крепко на ноги. Были у него и охотничьи угодья с теремами для вельможных и сановитых гостей. Также сказывали, и прииски золотые в Бодайбо имелись. Но с ними не всё ясно. Товары по Лене возил в навигацию в Якутск. Оттуда древесину плотами гнал. Деньжищи в обороте у него были бешенные. В Киренске была своя база и лабаз. Спекулировал водкой, менял на меха – ничем не брезговал. Дед или прадед Барсукова, Никанор, принял революционные перемены в России с энтузиазмом и всей душой. Отрёкся от старого мира. Записался в комиссары и с пистолетом в руках отстаивал завоевания новой власти. Опять-таки, не без выгоды! Нос чуткий держал по ветру! Кто мог его перед новой властью скомпрометировать, своими руками в застенках ЧК замучил до смерти. Семьями изводил со свету. Ни деток малых, ни стариков не жалел. Усердие всегда поощряется. И пошёл Никанор Барсуков в гору, на высоты власти. И был он, как и отец его, богом в земном воплощении. Вот это всё, Нина, и передалось по линии от отца к сыну. Никто цепочку эту злодейскую разорвать не может. Они были всем! А ты говоришь – закон. Управы нету на них!
Тётя Валя махнула рукой и замолчала.
14
– Где они, эти прекрасные девушки? Покажите мне. Я хочу их увидеть! – камнепадом в горах прозвучал сильный, с пьяной хрипотцой голос.
Тётя Валя округлила глаза и с тупым выражением втянула голову в плечи.
– Муха, тать-мать, угомонись! – возражали визгливой трелью диссонирующие голоса оппонентов. – Там же старухи одни, тать-мать!
– Не, пацаны, бля буду, – отозвалось нестройным эхом из массы. – Сучку одну молодую на травке взяли!
– Вот её и покажите! – дурея, вопил Муха. – Покажите, и я ей засажу! – дико заржал он, тараща покрасневшие белки глаз. – Засажу по самые-самые помидоры – ха! – не жалея себя!
Дверь в камеру распахнулась, жалобно застонав от удара ногой и тихо всплакнув, ударяясь о стену. В проёме возник двухметровый детина в милицейской форме с погонами прапорщика. Дико вращая пьяными глазами, он никак не мог сфокусировать зрение на одном предмете. Видимо, чуя безуспешность этого занятия, втолкнул вовнутрь рядового:
– Прошка, ебёна мать, бери сучку за манду и тащи в кабинет. Я ей там… ик!.. кожаной иглой… ик!.. парочку инъекций… ик!..
Муху перекосило. Красное от водки лицо приобрело землистый оттенок. Он рванул на груди рубаху. С громким треском полетели вырванные с корнем форменные пуговицы.
– Проня, ты чё, козёл грёбаный, медлишь? Шевели бедрами, сука!
Проня, растерянно поводя глазами вокруг, нерешительно топтался на месте.
– Дяденьки! – истерично завизжала Нина. – Не надо, пожалуйста!
Истошный крик Нины вернул Муху в себя, и он пинком повалил Прохора на пол и сам влетел в камеру. С углов рта свисала запенившаяся слюна. Тяжело сопя, выдыхая удушливый перегар, он повёл лицом из стороны в сторону. Будто вынюхивая что-то. Нина сама испугалась своего крика, вызванного пароксизмом страха, и пыталась спрятаться за тощей фигуркой тёти Вали, свернувшись в клубочек.
– Это… кто тут у нас… такой умный и… борзый? – свистя шрапнелью, быстро сорвались с языка Мухи, тяжело давшиеся ему слова. Он ткнул пальцем в Нину: - Ты, сука, травящая людей ядом?
Нину бросило в жар. Тело покрыла густая, липкая испарина, запахом прели она ударила в нос. В висках загнанно забилась кровь, с трудом протискиваясь через узкие щели вен. Сердце просилось наружу, пытаясь взломать тонкую преграду тела.
И тут подала голос тётя Валя. Заискивающе, она обратилась к Мухе:
– Толенька, милый, ну, что ты, родненький… Прости её, дуру малолетнюю.
Муха со скрипом повернул напряжённую шею.
– Заткнись, Валя…
И крикнул, резко бросив голову вбок:
– Берите шалаву молодую. Тащите в дежурку. Старой наваляйте, чтоб не гундела без дела.
В камеру вошли два милиционера.
– Не дам! – тётя Валя вскочила с нар, раскинула руки в стороны, стараясь заградить Нину от беды. – Не дам…
Сильный удар кулака в лоб прервал пылкую защитную речь раздухарившейся старушки. Удар отбросил её к стене на нары. Она ударилась головой о стену, обмякла, свесила голову на грудь. Из носа тонкими струйками потекли ручейки крови.
– Ты! – угрожающе рыкнул на Нину Муха. – К ноге, быстро!
– Нет! – Нина в истерике засучила по нарам ногами.
По знаку Мухи, милиционеры схватили её под мышки, приподняли и поднесли к нему.
Тот, молча, закатил Нине подряд несколько пощечин. Голова бедняжки от ударов тяжёлой руки бессильно моталась из стороны в сторону. Только брызги крови летели на стены, оставляя памятные автографы. Вид крови возбудил и озлобил Муху. Он начал бить её в грудь и по животу.
– Муха, осади, – пытался остановить его один из милиционеров, державших Нину. – Убьёшь, ведь!
Муха в замахе остановился. Высоко занесённая рука зависла угрожающе, как топор палача. Судорога пробежала по телу Мухи. Он зло прорычал:
– Отнесите… в кабинет…
Сколько времени была в отключке, тётя Валя не знала. Но когда пришла в сознание, чувствовала себя гадко. Голова гудела, как растревоженный улей. В ушах стоял противный непрекращающийся свист, который переходил временами в гул. Во рту отчётливо стоял вкус железа. Тело ныло. Тошнота подступала к горлу. Постепенно тётя Валя начала соображать. И ужаснулась виду крови на полу, стенах и нарах. Длинные карминные росчерки – свидетельство состоявшегося преступления – говорил о многом. «Нина! – ужаснулась она. – Нина! Где она?» Но тут ей показалось, или в самом деле до неё долетел исполненный горечи и боли знакомый голос: «Прошу вас, не надо – о-о!..» И ещё более знакомый до рефлексивного потного озноба хриплый лай: «Надо, сучка, ещё как надо!» И услышала тётя Валя жалобный треск рвущейся в жестоких руках материи, барабанную дробь сильных ударов кулаками. Увидела тонкую ниточку крови, которая забито, вытекала из разбитого рта Нины. Почувствовала затруднённое, пропитанное аммиаком, дыхание Мухи и свисающие запечённые слюни, источающие смрад вседозволенности.
Яркие, впечатляющие картинки пьяной оргии вспыхивали перед взором тёти Вали. Возникали, озаряя ужасом сознание, и гасли, оставляя глубокий тёмный след. Видела она тяжело пыхтящие лица, с широко раскрытыми провалами ртов, с кислыми губами, которые слюнявили истерзанное тело Нины. Они зловеще улыбались. Оскал обнажал заострённые пики зубов, покрытые заразным нектаром безумия. А глаза… глаза… они были покрыты пеленой… неподвижные, с жутким, искажённым отражением изгнившего внутреннего мира, льющего антрацитовый свет. Он заливал всё вокруг густой чернотой, из болота которого выход один. Отражая зеркальной поверхностью слабые ростки надежды, свет умирал сам в себе.
– Чё, сука, неужто оклемалась? – в проёме двери на шатающихся ногах еле стоял сержант. – Ну, так… это… – он расстегнул молнию на брюках и поманил рукой: – Давай, покажи, какая ты есть на самом деле Марья-Кудесница! – затем зашёлся срывающимся смехом, странно подергивая плечами.
Затравленным зверьком смотрела тётя Валя на это жалкое подобие человека. Успокоившись, тот махнул рукой, с расстёгнутым гульфиком ушёл вихляющей походкой по коридору. Тётя Валя, молча, крестилась и пыталась молиться. Молитвы ни одной она отродясь не знала, зачем забивать голову ненужными глупостями, поэтому часто употребляла «Господи, спаси» и «Дева Мария», между ними вставляя все слова, что приходили на ум.
Тишину в коридоре снова разбудил пьяный гвалт. Милиционеры, не стесняясь выражений, красочно, колоритно, с матерком, с оттяжкой что-то доказывали друг другу. Хорохорились. Хвастались подвигами. Шаги прозвучали мимо камеры. Тётя Валя уняла поднявшееся сразу в груди волнение… И как подскочит, будто ужалила оса!.. Многострадальная железная дверь в который раз за день, было, не слетела с петель от удара. Муха, поводя безумными глазами, стоял в проёме, держа за волосы Нину, которая лежала у его ног. Он прошёл вовнутрь, волоча Нину по полу без напряга. Нина молчала. Левый глаз залит фиолетовыми чернилами синяка. Под носом и вокруг рта запёкшаяся кровь. Сорочка и юбка разорваны на мелкие клочья и ленты. Ещё тётя Валя рассмотрела сквозь рванье искусанные до крови груди со следами зубов и шею, с почерневшими следами рук.
Муха легко поднял Нину и со всей силы бросил на пол.
– Что ты вытворил с ней, ирод! – поборов испуг, выкрикнула тётя Валя.
– Отряхнётся, и пойдёт дальше! – отрыгнул комья слов Муха.
– Будь ты проклят! – крикнула ему вдогонку она.
Дверь отозвалась скрипом засова, и снова наступила робкая тишина.
***
Тётя Валя смотрела на изуродованную Нину, которая лежала посреди камеры, и не могла вымолвить ни слова, они комом застряли в горле, ни двинуться с места, будто впала в ступор. Только быстро и безмолвно шевелились губы. Немного погодя, она заметила движение. Нина пыталась подняться на руках, да не смогла. Упала. Раздался тихий плач, нет, это был скулёж. Плакать Нина не могла, сил было только скулить от боли и бессилия. Тело её содрогалось в мелких конвульсиях, дрожали руки, подрагивали ноги.
Она пыталась что-то сказать, изо рта вылетали одни кровавые пузыри, которые сразу лопались. Минуту спустя она снова повторила попытку подняться. Опираясь на дрожащие руки, она подняла тело. Голова мелко тряслась. Левый глаз-щёлка и правый, слегка припухший, смотрели перед собой в пустоту. Нина молчала, как и тётя Валя. Тишина не нарушалась тишиной. Сколько длилось молчание, сказать сложно. Нина нарушила его. С трудом выплёвывая с кровью боль, произнесла:
– Тётя Валя, что это за женщина рядом с вами сидит?
– Ой, дочка! – испугалась та, подумав, что Нина тронулась умом. – Кто ж может сидеть? Одна я. – и мгновение спустя добавила: – Неужто, ироды, тебе мозги свернули? – с опаской и плюнула через левое плечо: – Тьфу-тьфу-тьфу…
– Да, нет же, – настаивает Нина, грудь рвёт от кашля, – вот, рядом с вами сидит! В белых одеждах! – и указала пальцем.
Тётя Валя посмотрела в направлении руки. И опешила! Челюсть отвисла и затряслась, ледяной озноб когтистой лапой ласково погладил по спине. Глаза, если б могли, то выпали из глазниц. Рядом с нею сидела старушка в белых сверкающих одеждах, голову покрывал такой же ослепительной белизны большой плат, и тихая улыбка украшала её испещрённое острым резцом времени доброе лицо.
– Здрасьте! – нервно выпорхнули слова из уст тёти Вали.
– Здравствуй, доченька! – мелодичный голос раздался у неё в голове.
Тётя Валя хотела что-то ещё добавить, но старушка остановила её движением руки, все также тихо улыбаясь. Женщина встала с нар. Тёте Вале показалось, что она повисла в воздухе, не касаясь, пола. И двинулась, поплыла к Нине. Остановилась она возле неё, погладила по голове, и Нина услышала в себе нежный голос женщины: «Больно, милая?» «Да», – ответила Нина, тяжело шевеля губами. «Ничего, потерпи. Дорогая, – старушка продолжала гладить её по голове. – Сейчас всё пройдёт: боль исчезнет, раны излечатся, душа очистится». «Какие у вас теплые руки», – прошептала Нина.
Тётя Валя смотрела с удивлением на происходящее. Слышала не одну Нину, но и старушку. И думала: «Вот так вот и умрём от массового психоза. Девочке голову повредили, а она передала мне». С изумлением заметила кувшин в руках старушки. Тоже белый, он внутри переливался яркими искрами. Тётя Валя могла дать руку на отсечение, что минуту назад у старушки ничего в руках не было. Но не могла не верить глазам. Старушка наклонила над Ниной кувшин. Из него полилась чистая вода, в затхлом воздухе камеры запахло луговой травой и цветами. У тёти Вали зачесалось в носу. Она прикрылась ладошкой и чихнула. Сильно. Отчего перед глазами поплыли радужные круги. «И я туда же, – отрешённо подумала она, – трогаюсь. – И добавила услышанное невозможно давно стихотворение: – Тихо кровлею шурша, крыша едет, не спеша». И тихонько засмеялась. Но осеклась. На неё, улыбаясь, строго смотрела старушка. Тётя Валя выпрямилась, хотела произнести, что всё, успокаивается, как лишилась речи.
Вода из кувшина лилась не переставая. Грязные, слипшиеся волосы Нины под потоками воды очистились и шелковисто заблестели свежей чистотой. Вода, струясь по лицу, лечила раны, и они исчезли, будто их вовсе не было. Вода, стекая на плечи, исцеляла гематомы и укусы, смывала кровь, очищала тело. Вода вымыла и восстановила целостность одежды Нины. Сорочка стала такой же ослепительно белой, как одежды старушки. Юбка засверкала новизной пошива. Нина очистилась от ран и грязи. Но продолжала сидеть на полу. Она ощущала, прилив сил, тело наполнялось необъяснимой лёгкостью и ей казалось, что она вот-вот и взлетит. Старушка продолжала лить воду из кувшина. И вода стекала с Нины грязно-болотной.
Тётя Валя во все глаза смотрела на происходящее. Продолжая удивляться и с трудом верить им. Грязная вода от Нины растекалась щупальцами осьминога. Одни щупальца доползали до стен и уходили в перекрытия между ними. Другие упрямо лезли по стенам вверх и исчезали в межэтажных перекрытиях. Третьи просочились под дверью и, разделяясь на множество щупалец, переливаясь и играя в свете ламп всеми тонами серого и чёрного цветов, ползли по коридору. По полу, стенам, по потолку. Иногда они сплетались в загадочную вязь, если бы кто-то мог увидеть её, то легко принял за арабески. Чаще щупальца просто пересекались друг с другом и двигались дальше. Лампы под потолком моргали. Часто. Казалось временами, вот-вот, лопнут от высокого напряжения, и повиснет шаром темнота.
Щупальца, оплетя сеткой коридор, выбрались в общее помещение, миновав без труда ведущую туда сплошную металлическую дверь. Некоторые из них проникли сквозь неё и, извиваясь в загадочном танце, поползли вперёд.
– Что за хрень? – испуганно воскликнул дежурный офицер, когда несколько щупалец проползли через стекло окна с надписью: «Дежурная часть».
Дежурный хотел встать, но не смог. Щупальца хозяйничали в комнате дежурного. Его самого крепко привязали к стулу. Он дёрнулся, щупальца напряглись, тело отозвалось близкой болью мелких острых игл. В затылок что-то клюнуло, и он отключился. Крики и паника охватили всё отделение. Никто не мог выйти из кабинетов: щупальца заблокировали двери и окна надёжной сетью. На вид не прочные, щупальца удерживали на месте всех находящихся в кабинете: и дежурных милиционеров, и редких задержанных.
Шатаясь, некрепко держась на ногах, Муха пытался совладать с замком на брюках. У него плохо получалось, он крыл матом сквозь крепко сжатые зубы, громко скрипя ими. Выплёвывая клубки ругательств, он не сразу заметил, как по фанерным перегородкам кабинки и кафелю на стенах туалета движутся, очень неприятного вида, щупальца. Заметив их, Муха-Цокотуха пьяно удивился и отреагировал сообразно моменту: «Во, блин, дела!» – пнул ногой по кафелю. Щупальцам ничем не повредил, но вот по его ноге, переплетаясь жгутами, поползли тонкие и толстые щупальца, поднимаясь вверх к паху и поясу. Муха-Цокотуха встряхнул ногой, пытаясь сбросить щупальца, как увидел великое множество щупалец, гадливо шевелящихся на полу. По второй ноге уже ползли вверх другие щупальца, плотно оплетая её. Он запаниковал. Сделал попытку сойти с места. Сил хватило только дёрнуться. Невидимая сила легко удерживала его на месте. Неприятная тупая боль цунами прошлась по телу, разрывая его на острова и континенты. Щупальца оплетали тело Мухи-Цокотухи плотно, как мумию. Грудь, руки, ноги были укутаны в черный кокон. Одно щупальце, присматриваясь, готовилось обвить шею…
– А-а-а! – закричал беспомощно Муха-Цокотуха, но крик утонул в чёрной бездне его горла.
Муха-Цокотуха подавился горечью крика и зашёлся сухим, режущим кашлем. Алая беспощадность губ спасовала перед непонятной неизбежностью. Тонкие дуги губ дрожали, беспомощно звеня пустотой. Щупальца закончили оплетать тело Мухи-Цокотухи. Не тронутым оставили лицо.
Не зная слово «страх», он дрожал от этого неизвестного ему чувства.
Часто моргая веками, он не сразу заметил, как из фрески щупалец на кафеле выступило лицо пожилой женщины. Она мягко улыбалась, глаза источали доброту. Она молчала. Но Муха-Цокотуха слышал в своей голове её голос, тихий и спокойный, ввергающий дух его в бездну космоса: «Не ходи широкими дорогами тьмы. Иди узкой стезёй света».
15
Стук колёс начинал действовать, как снотворное, своей монотонностью: спи-усни, скорей, скорей… Спи-усни, скорей, скорей… Спи-усни… Я тряхнул головой, пытаясь сбросить липкие путы сна. Пока получилось. Аля замолчала. Уставилась задумчиво в окно.
Тонко звенела хрусталём серебряная ложечка в пустом стакане. Вагон-ресторан наполнялся посетителями. Из динамиков, поднимая настроение, лилась музыка Фаусто Папетти, Поля Мореа, задорная, с огоньком гитарная импровизация «Gypsy Flame» и его соперника из России «Ди-Дю-Ля». Люди обедали, пили водку и вино. Вкусно пахло жареным мясом, запеченной рыбой и откровенной, пронзительно-безукоризненной свежестью нашинкованных овощей. В общий оркестр ароматов, громко солируя маслинами, каперсами и копчёностями вплывала ария сборной мясной солянки. Ей вторила побочная партия украинского борща, заправленного тертым старым салом и пампушками с чесноком. Гул голосов перерос в гвалт, устойчивый, как доля заливного языка с хреном на сахарном блюдце. От вавилонского смешения запахов еды и ароматов спиртного у меня засосало под ложечкой.
Я попросил Алю на её выбор, принести первое. Она ушла, а я продолжил смотреть то в окно, наблюдая проплывающий пейзаж, вертя пустую рюмку в руках, то скользя взглядом по шумным гостям ресторана. Аля незаметно подошла, поставила горшочек с ароматной солянкой, две булочки в хлебнице, исходящие печёным духом. Графинчик с водкой, с радостно запотевшими кренделями бочков и новую рюмку. Пожелала приятного аппетита и ушла, сказав, что скоро обернётся.
С удовольствием выпил водки и съел солянку. Аля вернулась с кофейником, двумя чашечками, сахарницей с щипчиками и тарелочкой-вазой с засахаренным арахисом и миндальным печеньем. Разлила кофе по чашкам и села.
– Аля, – я отпил крепкий горячий кофе, – как смогла Нина родить от этого…
Аля промокнула салфеткой губы и сказала, что от Жени Нина не рожала. После тех загадочных событий в отделении милиции, он исчез из города на три месяца. Нина успела познакомиться со студентом Витей из Иркутского политеха. Сказала, что его фамилии не помнит, просто вылетела из головы, но Нина как-то упоминала. Как там Судьба распорядилась, встречались они, то в кафе, то в кино ходили, но первое свидание закончилось постелью в комнате общежития, куда их пригласили сокурсники Вити на чей-то день рождения.
Потом вернулся Женя, и Нина вернулась к нему. Зачем? Нам она и сама не могла объяснить вразумительно. Любовь, наверное, или какая-то привязанность. Снова начались поездки с пакетами по городу и пригородам. Приходилось пару раз ездить в Усть-Илимск и Ангарск. Но это к делу не относится. Аля перевела дыхание. Допила кофе. Да, ни к чему хорошему это привести не могло, и она снова попалась на наркоте. На этот раз ждала её «дорога дальняя, казенный дом». Когда был суд, не учли даже, что Нина была беременна.
Родила в тюремной больничке. Там же отказалась от сына. Как сказала, что себя саму в тот момент ненавидела, а не то, что ребёнка. Ей, конечно, доктора объяснили, что из всего срока, три года она проведёт с ребёнком в яслях при тюрьме. Что это намного лучше, чем жизнь в бараке на нарах. Контингент там, не приведи господь. Но она категорически отказалась. После отказа её вернули в барак, где она трижды пыталась свести счёты с жизнью, но каждый раз её спасали.
– А дальше ты, Миша, знаешь, – закончила Аля.
Тут к нам подошла заведующая рестораном, Юлия Петровна, и сообщила, что передали по рации начальнику поезда, что Нина находится в реанимации. Был инфаркт. Угроза миновала. Обошлось без операции, думали, что что-то серьёзное. Будут лечить, там, проводить курс интенсивной терапии. И предложила выпить за здоровье Нины. Подозвала бармена, тот принёс коньяк, рюмки, нарезанный лимон.
– За Ниночку, за светлую душу! – просто, без затей сказала тост заведующая.
И выпила. Мы с Алей и барменом следом. Поблагодарив, отправился к себе. По пути зашёл в туалет, освежить лицо. Холодная вода взбодрила. Я поднял лицо, чтобы посмотреться в зеркало, и отпрянул к стене.
Из зеркала на меня смотрел маленький, худенький, светловолосый мальчик лет десяти. Вокруг широко раскрытых глаз лежали тёмные круги.
Без страха и смущения его синие глаза с удивлением меня изучали. Я понял, он меня не видит. Мальчик тоже ополоснул лицо водой, вытер застиранным до серого цвета вафельным полотенцем. И только тогда заметил меня. Испуг отразился в его синих глазах, но сразу исчез.
– Дяденька, – вдруг высоким голосом сказал он, – вы поможете мне найти мою маму?
Часть вторая
КЕША
1
Своим глазам и верил, и не верил. Напротив, меня собственной персоной сидел, удобно расположившись на диванчике Юрий Лоза и, аккомпанируя себе на гитаре пел. И я его – его! – слушал. С интересом и раскрыв рот.
На заплёванном пустынном полустанке
От больших дорог и линий вдалеке
Мне гадала плутоватая цыганка
Грязным пальцем мне водила по руке
Не скажу, что являюсь страстным поклонником творчества Лозы, но в далёкое теперь время, благодаря своему приятелю, Женьке Ермилову, смог прикоснуться к первым его песням, которые он мастерски пел под гитару, внося своим слегка гнусавым голосом некий флёр и новое прочтение. Как удобно ныне выражаются, изменяя до неузнаваемости первоначально исполненную песню, лишённые таланта исполнителя певцы и певички. Некоторые песни Юрия, как весёлые, так и сентиментальные, создавали определённое душевное настроение. Поддерживали берущий за душу минорный миг.
Обещала мне в попутчицы удачу
Много денег и счастливых долгих лет
Мимо плыли поезда и чуть не плача
Все смотрел, смотрел им вслед.
Да… Герой Лозы скрывался на огромных просторах нашей Родины, а мест, где укрыться надёжно и надолго предостаточно, надо всего лишь проявить смекалку, от алиментов. За ним «мчался исполнительный лист». Ему было от кого и куда бежать. Мосты за спиной не сожжены. Впереди – огромное неосвоенное пространство… Но то, как водится, песня. В реалии, куда сложней. Я-то вот, куда бегу? От кого? Зачем? От себя не убежишь – убегая… Что-то незаметно поменялось в интонации голоса исполнителя. В нём появились новые нотки застарелого недолеченного ларингита. Сосредоточившись, понял – кто-то пел песни Юрия. Довольно-таки умело. Без фальши. Как оказалось, в купе был один. К этому уже и привык. Сосед вечно где-то пропадал. Голос неизвестного певца, приглушенный перегородками вагона, долетал, дробясь на ватные шарики звуков издалека до моего слуха.
Интенсивно протёр глаза ладонями, прогоняя остатки правдоподобного сна. Посмотрел на часы и чуть не присвистнул – они покалывали десять утра. «Вот это кимарнул! – думаю. – Придавил массу не по-детски. Эй, трубач, играй подъём!» И где-то далеко в глубинах памяти зазвучал знакомый голос старшего мичмана Пухальского, по кличке Пухлый: «Р-р-рё- о-о-т-т-та-а-а падыём, вашу мать!»; безукоризненная откидка одеяла, босые стопы холодит приятно дощатый крашеный пол; полусонное состояние махом исчезает от истошного ора Пухлого: «Подъём, подъём, товарищи матросы и старшины! Родина ждёт вашего самоотверженного исполнения своей святой обязанности – её Защите!» Утренний кросс – как обычно длинная дистанция – семь километров под уже палящими лучами солнца негостеприимной Средней Азии. Пот льёт в три ручья. От жажды мутнеет в глазах и хочется на всё просто-напросто плюнуть, остановиться и броситься в придорожную высушенную зноем траву и забыться сладкими грёзами о родной нэньке Украине!
Всё еще лёжа, по давнишней привычке сделал гимнастику для лентяев: поочерёдно то напрягая, то расслабляя мышцы тела, начиная с ног и постепенно выше – привёл себя в тонус. Затем сел на диванчике и интенсивными круговыми движениями рук растёр тело.
Тепло, живое и бодрое пошло вовнутрь. Лёгкой волной прибоя озноб рассыпался по телу. Небольшая встряска для нервной системы просто необходима для плавного перехода от сна к бодрствованию. Утренняя гимнастика, плюс «мыло душистое и полотенце пушистое» - замечательная кода в жизнерадостной симфонии «Утро» смыли мутный налёт происшествий минувших суток.
***
Напевая под нос незатейливый мотивчик, вернулся в купе.
Сосед сидел на своём месте, обняв гитару. Увидев меня. Приподнялся, улыбнулся и поздоровался:
– Доброе утро!
– Боже святый! – прорвало меня. – За столько времени в пути мы даже не знакомы! – исправляюсь. Здороваюсь и продолжаю. – Необходимо срочно исправить ситуацию! – эмоциональный натиск так и прёт из меня, протягиваю руку и представляюсь: – Михаил!
– Нестор! – взаимно представляется сосед. Пожимая крепким рукопожатием мою руку.
– Уж не Иванович ли Махно? – с шуткой предполагаю я.
– Иванович, – поддерживает шуточный тон Нестор, – но – Дахно! Вот и познакомились!
Человек понимает юмор – это уже хорошо. Скучать не придётся. Положительно подумалось мне. Мои мысли прервал Нестор. Он добавляет, продолжая речь, которую за мыслями я пропустил мимо ушей, что одна-единственная малюсенькая буковка, а так много значит. И резюмирует, от большого до малого один шаг. Я с ним соглашаюсь. Добавляю, что зачастую один знак препинания коренным образом меняет роль человека в его жизни и судьбе окружающих. «Какой знак?» – удивляется Нестор. «Такой… – вхожу в роль витии, – Такой, вот, как запятая. Пример, вошедший в наше бытие из детской сказки «Двенадцать месяцев»; можно сказать, классика взрослеющего детства: «Казнить нельзя помиловать». И победно уставляюсь на Нестора. Тот спокойно выдержал мой взгляд, но промолчал. «Универсальная формула решения трудных вопросов без привлечения излишних умственных усилий, – продолжаю я. – Как тебе это?» Нестор засмеялся, пожал плечами. Принял мои доводы, заметив при этом, что данная, как я выразился «универсальная формула» практически всегда лежит на поверхности. Стоит только поменять слова под нужную ситуацию. А запятая, маленькая, незаметная, ничтожная запятая сыграет роль главной скрипки – как топор в руках палача, последний и веский аргумент завершения спора.
Тут у меня вдруг резко засосало под ложечкой. Дал знать голод, заурчало в животе. «Голод не тётка, пирожком не угостит», – ответил я на вопросительный взгляд Нестора и предложил заказать у проводника чаю и позавтракать, чем бог послал. К тому же, он послал отличнейшие сушки и ароматное миндальное печенье «Danish Cake».
После непродолжительной заминки Нестор как-то странно отказался, но осторожно высказал довольно необычное предложение. Словно держал в намыленных руках ценную хрустальную вазу. Что ж, можно, отчего бы и нет, но предлагаю в компании двух замечательных девушек, что едут в одном с нами вагоне в двух купе от нас. «Как?» – поинтересовался он. На что я ему заметил, уж, не для них ли он заливался соловьём и взглядом указал на гитару.
Нестор несколько смутился, лицо чуть-чуть порозовело и, ответил, что в этом плохого и спросил резко, в лоб, так идём или нет, или…
… или пойдём, подхватил я. Что зря глазки строить. Последнего Нестор не понял. Развивать не стал и озвучил аксиому, что вчетвером веселее будет скоротать время в пути. Внутренне сомневаясь, «махнул сто грамм и сказал: «Согласный».
2
Девичье купе атаковало тонким, праздничным ароматом духов, таинственной аурой неизвестности и чётко выраженным ощущением того, что нас явно ждали! Узкая, не разъехаться двум авто улочка уходила плавно вниз к набережной, утопающей в сизой дымке прибоя. На тротуарах стояли чугунные вазы с живыми цветами. Из открытых окон легкий бриз выдувал паруса расшитых цветными узорами льняных занавесок и чужую, понятно звучавшую, как песня речь.
Ярко светило солнце. Едва уловимо пахло хвоистой утренней свежестью, смешанной с бодрящим запахом моря и синкопирующим благоуханием цветов. Две подружки-синички, девушки лет двадцати пяти, одетые в одинаковые бирюзовые майки с надписью «Girls» и потёртые джинсы, сидели по обе стороны столика и смотрели на нас, появившихся в дверях с ожиданием во взоре. Внезапно посетившая меня картина ушла от моего взора. Ему представилась другая: накрытый к чаю стол.
– Бонжур, милые создания! – вдруг выдал я, продолжая стоять на пороге.
Нестор беспардонно втолкнул меня в купе и сразу перешёл в наступление.
– Девочки, позвольте представить моего соседа – Михаил! – на последнем слове он раскланялся.
Сидевшая справа от меня, стриженная под мальчика шатенка, с удивительной глубиной бархатных карих глаз, произнесла с лёгким акцентом:
- Очень приятно, Михаил. Инга… Труус…
Взволнованные звуки арфы волной набежали на берег, покрыли его звонкой россыпью звуков, отхлынули и снова, набирая скорость, накрыли песок, нехотя, диминуэндо, ретируясь. И протянула изящную руку. Бережно, я пожал её теплую ладонь. Слева от меня девушка удивила тем, что протянула руку, как для поцелуя. Я слегка поклонился, взял аккуратно её руку, источающую едва чувствующийся аромат жасмина и, чётко считывающиеся положительные флюиды и едва прикоснулся к ней губами.
– Михаил Каминьский. К вашим услугам!
Наполняя внутреннее пространство извне звучащими басовитыми звуками, пела виолончель: глиссандо, чередующееся пиччикато, волновало и трогало. Она засмеялась, чисто и звонко, отчего украшавшие её голову разноцветно окрашенные хвостики-фонтанчики, стянутые резинками, пришли в движение. Ветерок, доселе мирно дремавший в волосах, проснулся.
– А вы, Михаил, прямо-таки, джентльмен, – произнесла она, успокоившись, и представилась: – Беата Мицкевич. – Поразив в очередной раз мой слух шёлковой мягкостью прибалтийского акцента.
Мандолина, торжественно звуча, сбавив темп, исполнила заключительную часть ознакомительной увертюры, легато перейдя с субдоминанты в тонику.
– Вот и замечательно! – в согласно исполненное струнное трио представления гармонично вписалось альтовое соло Нестора и, слаженно зазвучал квартет: – С официальной частью закончено. Переходим ко второй части Марлезонского балета!
Девушки разлили ароматный чай в фаянсовые чашечки, расписанные под хохлому. Помимо вазочек с вареньем, вишнёвым и брусничным, тарелочек с бутербродами с сыром и ветчиной, на столике разместились по-простецки пакет с сушками и художественно расписанная а-ля маленькие голландцы жестяная открытая банка с миндальными печенюшками «Danish Cake». Они гармонично дополнили стройный хор аппетитных закусок непритязательным колоритом и непринужденностью.
Пока чаёвничали, вели беседу. Между питьём чая и хрустом сластей. И беседа лилась как-то сама собой. И слова как пули вылетали. И смеялись удачной шутке и не совсем к месту, тоже. Всё хорошо в меру. «Как вам это печеньице, сладкий шедевр «Danish Foods Industries?». «Отлично! Очень мило – тает во рту!..» «А вы чаёк вместо сахара вареньем-то засластите. Уверяю, лучше не придумать!» «Да не может быть! И действительно – великолепно…» и снова горячий чаёк из фаянсовых чашечек, губы обжигающий. И снова печеньице с сушками. И снова ни к чему не обязывающий вагонный трёп…
В меру пикантные анекдоты с изюминкой. «Мужик просыпается, видит, на постели сидит хомяк. – А белочка где? – спрашивает. – На вызове, работы много, – отвечает хомяк и чешет спину. – Вот меня на подмену прислали». «Ха-ха-ха! – это вы, Миша, к чему?» «К слову, оживить обстановку». «А я думала, вы про утюг упомянете…» «Или, например, про весло…» «Ну, да, припоминаю… сидишь, тут, всякую … обо мне думаешь!» И смех. Звонкий. Чистый. Девичий смех. Как звон серебряного колокольчика, летящий над спящими лугами. Пробуждающий солнце, пробуждающий жизнь. «Так вы и не ответили…» «Вы это о печенье?» «Полно жеманничать. Правду и только…» «Да вкусное, не сойти мне с этого места!» «Куда вы собрались сходить?! Мы здесь как на подводной лодке!» «Серьёзно? А я и не заметила». Ха-ха-ха… Мелкий частый звон серебряного колокольчика, рассыпающего щедро жемчужины счастья. Ха-ха-ха… Заразительно – счастье!
И я сам смеялся от души шуткам девушек. И над моими шутками смеялись тоже. Но наступил миг, когда чай выпит, печенье-варенье съедено. Стол прибран. Повисла в купе тишина. Эпитет «гробовая» будет, выражаясь модно, не совсем корректен. Какая может быть «гробовая тишина», когда почти полдень за окном, в соседних купе голоса не смолкают, звуки шагов в коридоре раздаются каждые пять минут и бегает с криком весёлым детвора. Если поднапрячь фантазию, то через все эти звуки и стук колёс можно услышать пение птиц в лесу, шум двигателей авто, неразборчивый гул голосов людской толпы под пряным соусом шелеста листьев и кайенской приправой газонокосилок.
Но!.. Мы в купе. И поэтому круг фантазий сужается до размеров купе и чуть дальше – вагона. И что мы имеем в сухом остатке?
Если сильно захотеть, можно услышать из купе справа мягкий мерный перезвон пластиковых стаканчиков. Наполовину наполненных щедрой рукою наливающего изумительной чистоты aqua vita с этикеткой на плоской бутыли. Она говорит за себя – «Давай выпьем!» Нежный хруст малосольных огурчиков, заботливо взятых в дорогу вместе с любовью, запечённой до золотистой корочки курочки, для смягчения вкуса под кожу заправлены тонкие кружочки апельсина и лимона. «Слушай, – можно услышать, – моя жена так готовит!..» и можно запросто увидеть мужское лицо с выражением гордости за свою половину, слегка поджаты губы и закатаны глаза. «Пальчики оближешь!» «М-да, – скромно отвечает оппонент, испив живой водицы, хрустнув огурчиком и деликатно закусив кусочком курочки. – А вот моя супруга этим… Не так чтобы очень… Ну, да, не за это полюбил. Плоха в кухонном деле…» «…зато хороша в постели! – заканчивают за него. – Ну, что, ещё по сто грамм без суеты и можно это дело перекурить». «Ничего против не имею!»
Это то, что справа.
А что у нас слева? Не верю своим ушам. Да нет же! Им что, ночи не хватило?! Жалобный писк дивана, скрип пружин. И ночь удалась на славу. Дню пропадать зря, что ли? Нет. Тем и хорош вагон СВ, что чем хочешь в маленьком своём мирке, тем и занимаешься. Опять-таки, всё зависит от полёта фантазии. У этих вот слева она какая-то приземлённая. Точнее, придиваненная. Зачем слова? Из них шубу не выкроить…
А у нас… тишина. Разбавленная звуками, извне бесцеремонно летящими вовнутрь. Сидим долго. Минут пять. Пялимся друг на друга. Улыбаемся. А вот разговор дальнейший не клеится. Ложечки в чашечках позвякивают в такт колёсам.
– Миша, – решилась нарушить молчание Беата, – Серебро, платина? – дотронулась пальцем до запонки.
Из всех присутствующих Михаил был единственный в рубашке.
– Алюминиевые, – не задумываясь, отвечает Михаил.
То, что отразилось в глазах Беаты, затем у Инги, можно было прочесть как недоумение: «Как это?» у Нестора округлились глаза: «Миша, ты в своём уме?» Незатейливый юмор Михаила пришёлся не ко двору.
– Конечно же, серебро, Беата, – улыбнулся Михаил. – Сглупил. Простите!
Лёгкий выдох облегчения пронёсся по купе, словно птица, выпорхнувшая из клетки. Девушки снова заулыбались. Нестор заметно расслабился. Было заметно, как после слова «алюминиевые» он чуть-чуть напрягся.
– Ой, вы… ты знаешь, Миша, – прикрывая лицо ладошками, сказала Беата, – я ведь, в самом деле, подумала… Ты так серьёзно сказал…
***
– Проехали, проехали, – захлопала в ладоши Инга. – Давайте будем рассказывать о себе. Ну, не всё, то, что можно.
– Или нужно, чтобы услышать, – вмешался Нестор.
– Или, так, – согласилась Инга. – С кого начнём?
Михаил предложил, что бутылочку крутить не надо. Девушки спросили в унисон, мол, какую. На что Михаил, облокотившись о мягкую стенку дивана, ответил, любую. «Вот вы, Беата, - продолжил он. – Начнёмте с вас».
Беата рассказала, что они вдвоём с Ингой ездили во Владивосток. Во времена СССР их отцы служили срочную в военно-морском флоте, во Владике, так они говорят всегда в своих воспоминаниях, в бухте Золотой Рог. Отец Беаты часто рассказывал, как прекрасен океан в утренние часы, укутанный густым туманом. Михаил вставил слово, что там, где они, девушки, живут, тоже есть море – Балтийское. На его реплику Беата и глазом не повела. Отреагировала спокойно, да, море, но не океан. Тем более – Тихий. За весь рассказ Инга пару-тройку раз вставляла свои замечания. Пыталась дополнить упущенное Беатой. Слушать девушек было приятно. Их мелкий спор о том, что дома как нельзя лучше, как бы ни было замечательно в гостях. Гостили они у сослуживца их отцов. Дядя Коля был единственный в экипаже их призыва из срочников, родом из Владивостока. Инга рассказала, что дядя Коля, когда их встретил в аэропорту, сразу сказал: – Вот и приехали невесты моим сыновьям! Они у него оказались военными моряками-подводниками. «И что же вам помешало стать женами офицеров?» – поинтересовался Нестор. «Да вот, как на грех они оказались в боевых походах, – огорчённо проронила Беата. – Но зато мы видели их фото!» «Сколько же вы гостили?» – вставил Михаил. «Две недели. Посмотрели город. Ездили в настоящую тайгу. Видели живых диких зверей!» – запальчиво проговорила Инга. «Интересно, каких?» – спросил Нестор. «Белки, зайцы, птицы там разные, – перечисляла Беата, – а еще в заповеднике «Весёлые дебри» в питомнике кормили лосей хлебом с солью. Их, почему-то егеря называли – сохатые». «Да, много увидели, – улыбнулся Нестор. – А волков, лис, медведей? Тигра?» «А что, они тоже живут в тайге?» – искренне удивились обе девушки. «Они там живут, – пояснил Нестор. – И жили, горя, не ведая довольно комфортно, пока человек не загадил тайгу своим присутствием». Инга расстроилась, услышав его слова, сказав, что он очень страшно, до жути страшно говорит. А Беата, любопытная натура, поинтересовалась, как может человек загадить тайгу своим присутствием, если живёт в городе. И Нестор продолжил объяснение, что не только кострами наносится вред тайге, но и просеками, делянками, пожары выжигают огромные площади, а это их среда обитания, животных. «Да мало ли еще как, - закончил Нестор. – Лагеря, там…» «Пионерские? – изумилась Беата. – Посреди тайги?» «И пионерские тоже, – резюмировал Нестор и резко сменил тему разговора. – Почему решили возвращаться поездом?» Всё та же разговорчивая Беата рассказала, что решение такое приняли по совету дяди Коли. Он им сказал, дочки, если хотите увидеть некогда огромную страну, бывшую родину ваших отцов, то поезжайте поездом. Несомненно, добавил он, что самолётом быстрее и лучше. Девять часов лёта и здравствуй, Москва! Но сверху не всегда всё видно, как поётся в одной песне. Чтобы увидеть Россию изнутри, нужно взглянуть на неё снаружи. Убедитесь, что никакие аршины ни в какое сравнение не идут. Вот для этой цели подходит как нельзя лучше поезд. Всё увидеть тоже нельзя, пусть какую-то малую часть, но это будет Россия – от океана до моря. И ещё напоследок добавил, что впечатлений будет масса. И что мы наверняка не пожалеем, и скажем потом ему спасибо. Но когда уже доберёмся домой. Для запечатления впечатлений купили для фотоаппаратов флеш-карты большого объёма памяти. «Вот и всё», – закончила Беата речь и развела руки. «Ага! – не могла не вставить последнего слова Инга. – Всё!»
– Ну, что ж, – сказал Михаил, – тогда продолжу я.
В это время поезд резко затормозил. Сок, разлитый по стаканам, выплеснулся на стол. Довольно приличная порция выплеснулась Нестору на футболку. Он хмыкнул и произнёс, что наступил час смены одежды для дневного разговора. Вернулся он в майке-борцовке. Накачанные мышцы рук и груди были покрыты зажившими шрамами. «Ой, что это, ожоги?» – испуганно спросила Инга. «Нет, – как-то отвлечённо ответил Нестор. – Эти шрамы – немой укор моему прошлому. Тому, которое хочется забыть, но никак не получается». Присмотревшись, Михаил рассмотрел руки Нестора, некоторые фаланги пальцев отличались неестественной белизной. Очень было похоже на хирургическую полировку кожи. Возможно, подумал Михаил, сводились наколки кустарным способом. А уже затем – медицинским. Нестор проследил пристальный взгляд Михаила и кивнул головой. «Да-да, - промолвил Нестор. – Это тоже незаживающие следы ушедшей жизни».
Михаилу показалось, Нестор не очень хочет касаться этой темы. Но в его голосе сквозило сильное желание высказаться, с трудом им сдерживаемое. Излить душу. И голос его, показалось Михаилу, приобрёл новые звуковые оттенки. Нестор отпил из стакана сок. Помолчал, будто выдерживал паузу, и задал вопрос, немного удививший Михаила и девушек. «Фокус хотите?» Теперь настала очередь Михаила смотреть с вопросом удивления во взоре на Нестора: «Ты-то теперь – что?»
Девушки, наоборот, будто и не были оглушены вопросом. «Фокус? – закричали они. – Хотим!.. Хотим фокус-покус, как в цирке! Нестор, ты работаешь в цирке?» «Сейчас нет, – ответил он. – Но несколько лет тому назад трудился… да… даже похлеще, чем в цирке». Нестор сказал, что для демонстрации нужен гранёный стакан и чистый полиэтиленовый пакет. Инга сходила к проводнику, принесла стакан и предложила пакет из-под сушек. Нестор вложил стакан в пакет. Снял майку, поместил стакан между грудными мышцами, напряг их и … стакан раскололся, осколки прорвали пакет, поранили кожу. Из ссадин засочилась кровь. «Вот такой фокус», – произнёс, как бы извиняясь, Нестор и принялся вытирать капли крови влажной салфеткой.
Михаил, Беата и Инга сидели потрясенные увиденным.
3
Первой заговорила Инга.
– Нестор, очень, как это, сильно! Да! где ты так накачал мышцы? Какое питание употреблял? Я в этом немного смыслю.
– Питание, – криво усмехнулся Нестор. – Обычное питание: перловка с тушёнкой, компот и самодельные тренажёры.
– И всё? – не успокаивалась Инга. – Не поверю. Тут можно отследить приём протеина, других препаратов для набора мышечной массы. Нестор, ты точно не шутишь?
– Да уж, какие тут шутки, – спокойно отреагировал он. – Утверждённое питание для лагеря строго режима. Шесть лет. От звонка до звонка.
Повисла затянувшаяся пауза. Михаил, Беата и Инга всяк на свой лад переваривали услышанное. Нестор, молча, смотрел в окно на проплывающий весенний радостный пейзаж.
– Прости, Нестор, – снова прервала паузу Инга. – Выходит, эти шрамы, следы… – она запнулась на полуслове, подбирая или вспоминая нужное слово.
– Следы блатных татуировок, – за неё закончил Нестор. – Отголосок той жизни, которую я ни за какие коврижки не хотел бы прожить снова. – Он провёл ребром ладони по горлу. – Не поверите, сыт по самое не хочу… И сказал про лагерь не для произведения должного эффекта, нечем гордиться. Вырвалось. Пусть и не, само собой.
– Ещё раз, прости, – повторила Инга. – Не хотела, поверь, бередить старые раны. Они, даже зажившие, болят, с годами сильней и сильней.
– Не зацикливайся, – успокоил её Нестор. – Сейчас я женат. Дочери три годика. Я директор «Центра реабилитации» лиц, прошедших эту суровую жизненную школу.
Он отпил сок и продолжил:
– А вот рассказать есть, что. Только не знаю, нужно ли…
– Нужно, - тотчас отреагировала Инга и многозначительно посмотрела на молчащих Михаила и Беату. – Рассказывай!
***
Нестор вздохнул так, словно сбросил с плеч тяжкую ношу.
В общем, своему избавлению. Нет. Исцелению я обязан одному человеку. Кешке, по прозвищу «Страдивари». Играл он на гитаре, заслушаешься. И должно было бы, прилепиться погоняло «гитарист», но он ещё самостоятельно выучился играть на скрипке. Импровизировал, чертяка – ух! Мороз по коже. Слушаешь игру и времени счёт теряешь. Был с ним знаком лично, потому и могу о нём рассказать часть, а оставшееся узнал от других. Сорока на хвосте принесла.
– Не томи душу, Нестор, ну, миленький! – взмолилась Инга. – Начинай же!
– До определенного возраста способ моей жизни можно нарисовать так: как нажито, так и прожито.
– Ну, Нестор! – чуть ли, не визжа от нетерпения, прокричала Инга. – Пословицы и поговорки оставь на потом.
– Инга, в самом деле, имей терпимость, – вступилась за Нестора Беата.
– Терпение, – поправил Михаил. – Нестор, – уже обращаясь к рассказчику, – продолжайте, пожалуйста!
Инга надула губки, отвернулась к окну, но краем глаза следила за происходящим.
– Ах, если б я мог так же пройти мыслью по всем моим воспоминаниям, как провожу глазами по всем предметам этого купе! Я знаю, что эти воспоминания невеселы и незначительны, да других у меня нет. Пустота, страшная пустота!
Всё случившееся два месяца тому, показалось, произошло вчера. Что в сумке, она, конечно, догадывалась, но взялась за дело. Чёртик, сидевший внутри заведённой пружиной, не давал покоя ни на миг. Сорваться на крик, оскорбить на улице случайного прохожего – и с усмешкой победителя, плевать на всех, идти дальше, это было в порядке вещей. Вечерами, когда оставалась один на один с собой в огромной пустой квартире, все вещи проданы за зелье, приходило едва заметное отрезвление. С глаз спадали шоры, и совесть начинала колоть где-то между пятым и шестым ребром. Да так, что темнело в глазах.
Перед внутренним взором после калейдоскопа радужных колец, наплывающих одно на другое, вырисовывался угнетающе-серый орнамент прошлых дней. Тоскливо до жути становилось на очерствевшей душе. Из глаз стыдливо скатывались скромные слёзы. Тонкие мокрые полоски по щекам. В уголках приоткрытого рта ощущалась солёная горечь разочарования. Волна безутешной, безумной паники накрывала сознание. «Что делать?» - бился в висках настойчивый вопрос. – «Что делать?» Ответа не следовало.
И снова, вслед за волной устрашения накатывала новая волна безразличия. Слёзы были не так откровенно солёны. И горечь безысходности сменялась безудержным диким клёкотом, за которым с трудом угадывался смех. Это был гомерический, над самой собой смех. Над проявленной слабиной. Это проделки шкодливого чёртика. Это он всё никак не успокоится. И дёргает, дёргает, дёргает… Чёрт возьми!!! Дёргает за измученные струны души. Она жаждет покоя. Тихих, напевных мелодий. А слышит одну лишь какофонию звуков. Чёрт дёргает струны, не смысля в гармонии. Он просто рвёт их. И, раздражающий звук, разорвав тесные путы тела, прорывается наружу и несёт разрушение. Душа переживает. Она жаждет созидания…
4
– Гражданка… Нина Андреевна. Вы признаёте себя виновной?
– Признаю… – тихий скребущий шёпот.
– Говорите отчётливее! – голос судьи строг и безэмоционален, будто свист топора ката.
– Признаю … –- и заходится в кашле Нина.
– Можете сесть, – равнодушие в оттенках и однообразии окраски тембра голоса судьи.
«Сколько можно мучить?» Один вопрос. Но никто не даёт ответа. Зачем? Увяз коготок, всей птичке пропасть. Хоть кто-то подсуетился? Сообщал в письме, мол, не отчаивайся, в беде не бросим? Чёрта с два! За два месяца бесконечных допросов, в основном после полуночи, нервы расшатались так, что слышен отчётливо скрип. За два месяца ни одной передачи от родителей. Один раз принесли вскрытый конверт с запиской. Узнала почерк бабушки: «Храни тебя Господь». И – всё. Да – сохранит он. Без просьб и нудных продолжительных ночных молитв. Ни одну овцу не бросит в беде пастырь небесный. Тихая злость выливалась в острый скрежет зубов. Сокармерницы будили: «Подруга, ты, слышь, не особо менжуйся. Всё будет – чики-пики. На лесоповал не пошлют – и то радость. Пошьёшь рукавички, зарекомендуешь себя как надо у нужных людей – от звонка до звонка время пролетит незаметно».
Была в камере совсем уж пожилая старуха, зачем таких-то сажать? – та, кашляя беззубым ртом, вставные челюсти добрые омоновцы нечаянно разбили при задержании, вещала, шепелявя: « Фто слок? Фуйня! Ты фуфсе о тусе тумай!»
Оказалось, старая перечница приревновала своего дедка к молоденькой соседке. Один раз, по глупости бабьей и доверчивости, послала сама его за солью к ней. Потом он сам, – зачем-то – напросился сходить к соседке. И вот однажды застала их голубков, под ручку идущих из магазина. Что оставалось делать душе оскорблённой? Сообразила способ мести – приготовила ужин, купила предварительно бутылочку водовки. В неё – сыпь – крысиного яду – и на стол. Предложила мужу соседку позвать. Мол, дескать, что она всё одна дома сидит-то. Нехай приходит, веселее будет втроём. Старик, ничего не подозревая, на дрожащих от волнения ножках-то, полетел-таки, за соседкой. А старушенция наша быстренько стол накрывает. Только рюмки поставила мужу и супротивнице. Уселись за стол, муж нашей отважной отравительницы удивился весьма, что же это за столом вечеряющих трое, а рюмок – две. Отбрехалась, глазом, не моргнув прямой последователь инквизиторских развлечений, ой, что-то ей, дескать, сегодня не здоровится. Купились-таки, и муженёк, изменник коварный и гостья-разлучница! «А и ладно! – обрадовалась она. – Нам больше достанется!» И – досталось!
Всю ночь шепелявая сидела и наблюдала за агонией муженька и его полюбовницы. Пила чай с карамельками, да всё посмеивалась. Утром заря раскинула свои девственной красоты крылья над этим погрязшим в блуде миром. Шепелявая наша героиня решила проверить, утихомирились ли грешные. Как? Вопрос, безусловно, интересный… Ничего не могла придумать оригинальней, как раскалить на газе кухонный ножик и провести крест-накрест по лицу сначала мужу-изменнику, а уж потом, чувства, годами скреплённые никуда не деть, по красному личику соседки.
Удостоверилась, непонятливая – отошли грешные. Взяла из загашника припасённый на всякий случай – а оно вона как вышло, случай-то и под руку – шкалик медицинского и выпила, помянув при этом имена мужа и соседки. Когда прошла первая волна токсикоза, допила спирт, не пропадать же добру-то, вызвала сама милицию.
***
О душе думать всё как-то не время было. Пружинка сожмётся до предела – бац! – распрямится. И полетели брызги былых злодеяний.
Те сомнения, что посещали, гнала прочь Нина жесткой метлой бессердечности. Ночь-другую вызовут на допрос. То на краешек табурета посадят, сидеть неудобно, то к стене спиной заставят прислониться и прикажут на носочки приподняться. Долго ли так простоишь? Только опустится на стопу, ноги чтобы отдохнули, крик перегарный в лицо: «Встать, сука, как велено!» Возразит едва Нина: «Больно!» Как слышит в ответ: «А заразу людям продавать – не больно было?» и удар по лицу – щека горит, полыхает, хоть сигарету прикуривай.
Стоит перед ней молоденький следователь, ручкой ниже пояса начёсывает, ёрничает: «Что же ты всё, сучка, подельников скрываешь? Они, что, сильно о тебе позаботились? А? маляву какую-никакую оптимистичную с воли прислали? Нет! Не пришлют, не надейся! Ты, помёт песий, отработанный матерьял. Здесь не достанут, на зоне расправятся. Им лишние свидетели геморрой и только!» Едва тишина устоится, как снова дикий ор. «Что хавальник-то на замке держишь? Забыла, как им работать? Смотри, мигом память освежим! Есть, кому упорным лошадкам инъекции кожаным шприцем делать!»
Позже, в камере подтвердили, что очень, ну, совсем уж очень-очень несговорчивых отдают в мужскую камеру, где человек тридцать, вместо десяти, место найти не могут. И позволяют им всем вытворять, что душе угодно. Но с условием, чтобы были силы у жертвы утром давать чистосердечные показания. Кто-то из соневольниц припомнил вдруг, что одну сильно сопротивлявшуюся бабёнку, уже остывающую, прогоняли то ли по четвёртому, то ли по пятому кругу ненасытные сидельцы по ласке бабьей стосковавшиеся. «Вот такие дела, Нинка. Выдай этим иродам окаянным всё, что знаешь. Приври чуток. Они, тля буду, – советовала опытная воровайка, – догадаются. На то они и менты, но с тобой базарить полегче будут». Нина в ответ, что особо скрывать нечего. Опытная дурака включает, что, подруга, сама дурь везла, каналы пробивала? И предупредила, мол, что за то, что честной народ за чмырей держит … может раньше часа – ту-ту! – уйти под пол.
Нина держалась своего. Не она держалась. Чёртик внутри руководил ею.
5
– Гражданка Нина Андреевна, осуждается по статье… часть… пункт… отбывание в колонии… режима в городе Белореченске. Время нахождения … засчитать в срок. Нина Андреевна, вам последнее слово.
– Спасибо.
Тишину никто не посмел нарушить.
– Простите, не понял, – произнёс, задыхаясь от злости судья, маленький полный человечек в узкой чёрной мантии с большой залысиной и золотыми вставными зубами.
– Спасибо, – еще раз повторила Нина.
– Да она над нами издевается! – полетело из зала суда. – Пожизненное этой твари!
Судья стучит кулачком по столу, призывает всех к порядку. Но поднятую волну справедливого, неподдельного гнева ничем не остановить. В Нину полетели комки газет и бумаги. Защищаясь от них руками, она краем глаза заметила сгорбленную фигурку какой-то старушки. Бабушку она признала не сразу. Сильно та постарела и сдала. Видимо взгляд Нины был такой мощи, что бабушка уловила его и подняла голову и Нина увидела глаза, любимые бабушкины глаза, полные слёз и горечи.
Немая перекличка взглядами длилась недолго. Бабушка тяжело встала, повязала вокруг головы серый платок и, не оглядываясь, удалилась из зала суда. Сквозь гам и крик Нина услышала тяжёлый удар дверью, прошедший через неё громовым раскатом и вслед за ним тихие, шаркающие удаляющиеся шаги бабушки. Страх сковал Нину. Она хотела броситься вслед за бабушкой. Остановить её, целовать её руки и просить, вымаливать прощения! Но давящее чувство отрешённости взяло верх. Она села. Опустила голову. Обхватила её руками и затряслась в слезах.
То было не раскаивание, то были слёзы жалости к самой себе.
***
Уже в колонии Нина пыталась свести счёты с жизнью.
Вечером, после отбоя, тёмная тень скользнула по коридору в направлении туалета. Пальцы предательски дрожали от суеты и нервозности, когда Нина готовила петлю из сплетённых тонких полосок, разорванной простыни. Один конец веревки закрепила на трубе под потолком, другой обвязала скользящим узлом, натерла смоченным в воде мылом. Стала на табурет. Засунула голову в петлю. Подтянула узел к шее. Прислушалась. Никаких голосов Нина не слышала. Бабушка рассказывала ей, что самоповешенный слышит дьявольский голос, льстивый и сладкий, обещает блага неземные, и руками жертвы забирает себе его душу. Глубокий вдох. Закрыла глаза. Оттолкнулась ногами от табурета…
На этот раз, видимо, дьяволу не нужна была душа Нины. Она пару раз дёрнулась, из неё вышли экскременты и моча. Верёвка оборвалась, она упала в лужу собственных испражнений и потеряла сознание.
В себя пришла в лазарете. В горле першило и саднило. На вопросы врача, строгой женщины в форме полковника отвечала с трудом. «Нет, никто не давил, не бил, всё задумала и исполнила сама. Её жизнь – это её жизнь, и она вправе распоряжаться ею по своему усмотрению». Доктор сказала, что это большое заблуждение, что ни смотря, ни на какие жизненные трудности, нельзя спешить туда, где однажды все-таки будем. В отряде Нине доходчиво объяснили, что делать этого нельзя ни в коем случае. Что за такие выходки наказывают строго всех без исключения. Объяснили свёрнутыми особым образом вафельными полотенцами. Для усиления эффекта убеждения смоченными водой. Синяков на теле у неё не осталось, но внутри оно сильно болело.
Данный урок не пошёл впрок.
Второй раз Нина, как показалось, была умнее и не полезла в петлю: способ не зарекомендовал себя с положительной стороны. Она вскрыла себе вены.
Лёгкий сладкий туман укутал мягким пуховым одеялом сознание. По широкой, чистой реке Нина плыла в лодке между двух берегов, заросших буйной растительностью. Слышала чей-то голос, звучавший вдали. Силилась вспомнить, кому он принадлежит, не смогла. Вдруг она захотела зачерпнуть рукой воды, ополоснуть лицо, и заметила, руки прикованы кандалами к сиденью. Тяжелые цепи были коротки и не давали большого простора действия. В панике Нина заёрзала по лавке. Лодка зашаталась из стороны в сторону. Чем сильнее билась Нина, тем сильнее была амплитуда раскачивания. Вода через борта заплёскивается в лодку. Она медленно идет вглубь руки. Через зелёные воды окружающий пейзаж смотрится размыто, как на старых выцветших, выгоревших фото. Лодка опускается всё глубже. Свет – глуше. И вот установилась мгла. Тонкие холодные змейки заскользили вокруг тела, и Нина выпустила через нос остатки воздуха. Мелкими пузырьками он быстро пошёл вверх…
Вдруг мглу прорезал свет, Нина почувствовала его сквозь закрытые веки. Она открыла глаза и обвела вокруг. Она была в больничной палате на четыре койки. Две пустовали. Нина лежит на неудобной жесткой койке возле окна. Напротив – почти наголо выбритая женщина. Почти потому, что оставленный небольшой пучок волос на макушке заплетён в недлинную каштановую косицу с вплетённой в неё ярко-алой ленточкой.
Нина попыталась пошевелиться: ноги и руки накрепко привязаны к кровати широкими плотными вязками.
Соседка заметила Нинино движение.
6
– Что, подруга, с возвращением, что ли?
– Куда? – прошептала Нина.
– Сюда, – соседка обвела вокруг руками, – в прекрасный серый мир тюремной больнички.
Нина тихонько сквозь зубы завыла:
– Ненавижу… себя… жизнь…
Соседка поднялась. Натянула на голое тело видавший много женских тел застиранный и, местами штопаный, бывший когда-то серым фланелевый халат. Запахнулась глухо, села, опустила на пол тощие ноги и поёжилась.
– Зябко? – поинтересовалась Нина.
– С некоторых пор мне уже всегда зябко, – ответила соседка и зашлась противным мелким сухим кашлем, прокашлялась и сказала: – Эмма – будем знакомы.
– Нина, – ответила Нина. – Вы – немка?
– Если, да, то, что это меняет? – как-то неестественно засмеялась Эмма и обняла себя за плечи.
– Ничего, – Нина уставилась в потолок, – сейчас ничто не может повлиять ни на что. Тупик…
Эмма сидела на кровати и раскачивалась взад-вперёд. Покачается – застынет… и снова качается… взад-вперёд… взад-вперёд…
– Считай трещины, – вдруг она обратилась к Нине, – время быстрее пройдёт.
– Когда меня отвяжут? – спросила Нина. – Я в туалет хочу.
– Не так скоро, как хочется, – Эмма поднялась с кровати. – Я поставлю судно.
– Неудобно, – скривилась Нина.
– На потолке спать – согласна, – спокойно отреагировала Эмма. – Остальное – даже очень удобно. – Подошла с судном к кровати, приподняла халат и положила его на матрас. – Удобно, – констатировала и вернулась к себе и с места добавила: – Или под себя. Вариантов нет.
Послышались шаги в коридоре. Разговаривали мужчина и женщина. Её голос Нина узнала и незаметно напряглась.
– Откройте дверь, – приказал кому-то мужчина.
***
Плетёная крестиком из крупной арматуры дверь, скрипя и визжа, открылась наружу.
-– Ну-с, где наша упорная самоубийца? – - в палату вошёл крепко сбитый, коротко остриженный мужчина в белом халате поверх кителя. – Ого! – радостно произнёс он. – У нас прогресс – мы вернулись, - и слегка повернулся назад, -– Левадия Николаевна, входите, пожалуйста, и расскажите. А мы тут послушаем.
Мужчина уселся на стул и забарабанил пальцами по столу.
– Заключённая Нина… –- начала Левадия Николаевна.
– Мелочи отбросьте и перейдите к главному, – попросил мужчина.
– Хорошо, Аркадий Львович, – послушно сказала доктор. – Нина – беременна. Срок приблизительно девять недель. Если – коротко.
Аркадий Львович дружелюбно заулыбался и посмотрел Нине в глаза. Но от его взгляда ей стало очень неуютно, зачесались дико пятки, зазудело между…
– Что ж это мы, голубушка, то в петлю упрямо лезем, то вены вскрывать бросаемся? Заняться больше нечем, что ли? Полезным, чем-нибудь. – Мягко выговаривая слова, словно они были изготовлены из сладкой ваты, начал Аркадий Львович.
Нина отрицательно замотала из стороны в сторону головой.
– Как понимать изволите этот жест, голубушка? – ватные шарики его слов обволакивали сознание. – Нечем? Или – занять некому? – он снова посмотрел в сторону Левадии Николаевны и с укором той выговорил. – Безобразие, полное и открытое. Саботаж или что-то другое?
Левадия Николаевна работала и служила не первый год и не раз слышала это и подобное от Аркадия Львовича, всё зависело от ситуации. С серьёзным лицом она отчеканила:
– Прикажете – займём. Найдём – чем. Отыщем – кому.
– Вот видите, – снова обратился Аркадий Львович к Нине. – Вам надо сейчас о ребёночке заботиться, а не думать о том, как побыстрее да половчее вычеркнуть себя из списков.
– Каких? – испуганно проговорила Нина.
– Живых, – как нечто доступное без сложных объяснений произнёс Аркадий Львович.
На несколько минут в палате установилась тишина. Левадия Николаевна продолжала стоя листать какой-то журнал. Время от времени поправляя то причёску, слегка приглаживая свободной рукой, то очки, якобы съезжающие с переносицы. Аркадий Львович сменил позу. Положил ногу на ногу, скрестил пальцы, обхватил колено и уставился, почти не моргая, куда-то вдаль. Взгляд его упирался в белую, недавно выкрашенную стену. Но Нине казалось, стена вовсе не преграда для его взгляда. Препятствие – вроде стекла…
Эмма тоже замерла неподвижно на своей койке. Ни одна пружина не пропела ни одной фальшивой ноты.
– Ну, так, на чём это мы, собственно, остановились? – внезапно разорвал кисею тишины острый голос Аркадия Львовича.
Левадия Николаевна медленно оторвалась от пристального перелистывания журнала.
– Я распоряжусь насчёт чая.
– Чай, это знаете ли, весьма замечательно, – не глядя в её сторону, сказал Аркадий Львович, в тоже время, обращаясь ко всем находящимся в палате. – Уж, будьте добры. – И резко бросил бисер букв в пространство: – Гуру?
– Здесь! – всколыхнулась тонко Эмма, выйдя из оцепенения.
– Гуру, – уже мягче повторил он, – оставляю на твоё попечение, – не меняя позы, продолжал Аркадий Львович, – и твоё усмотрение… нашу самоубийцу-любителя. Объясни, будь добра, что в её положении это, – он встал со стула и покрутил пальцами в воздухе, – как-то неразумно. Детством попахивает. Сплошь инфантилизм.
Какое-то мгновение он ещё побуравил стену взглядом и направился к двери и столкнулся с медсестрой.
– Товарищ полковник, – удивилась та, – а чай, как же?
– Пожалуйста, оставьте женщинам, - распорядился он. – Да! вот ещё что – снимите вязки с пациента.
– Так она ж чего доброго, – начала решительно медсестра, – повторит снова…
7
Аркадий Львович посмотрел на Нину и улыбнулся.
– Ничего больше такого не будет. Мы – договорились. – от его слов у Нины потеплело на душе. – Правда, Нина?
– Да! – горячо подтвердила она и заплакала.
– Правильно, – добавил он, – ты поплачь. Слёзы, они очищают душу.
Затем Аркадий Львович обратился к Эмме:
– Гуру, ты за них в ответе. – И указал взглядом на Нину.
Кастаньетами сухо щелкнула дверь и, чечеточкой ей вторил замок.
– Эмма, почему он тебя назвал – гуру? – спросила Нина, когда палата опустела от визитёров.
– Гуру – учитель…
– Ты – учитель? – удивилась Нина. – Преподавала в школе?
– Нет, – коротко отрубила Эмма.
– А где? – продолжала допытываться Нина.
– Нигде, – Эмма зашлась кашлем. – Холодно мне что-то. – Она одела шерстяные вязаные носки, свитер под халат и плотно запахнулась.
– Тогда почему – Гуру?
– Потому, что познала здесь – Истину. – Ответила Эмма и предложила. – Давай поспим немного. Поплохело что-то.
Эмма легла, укрылась с головой одеялом и отвернулась к стене. Нина одна, в полной тишине выпила чай.
– Эмма, ты спишь?
– Уже нет. Что хочешь-то?
– Почему он сказал, что ты «за них в ответе»? что он имел ввиду? Меня?
– И тебя и твоего ребёнка, - не меняя позы, ответила Эмма. – Отдыхай!
«Как? – мысленно разговаривала с собой Нина. – Какого ребенка?»
Затем последовала совету соседки и легла. Сон не шёл. В голове вертелись думы одна другой не лучше. И не радостней. Ребёнок? От кого? От Жени, вряд ли. С ним давно никаких отношений не было. Только совместное проживание. Ребёнок в тюрьме… Нина закусила край пододеяльника, чтобы сдержать стон и беззвучно заплакала. Что с этим ребёнком будет, кто из него вырастет, если жизнь начинается с зоны? Сделаю аборт, твёрдо решила для себя Нина и забылась сном, тяжёлым, прерывающимся, душным…
«Ужинать!» – голос разносчицы вырвал Нину из колких объятий тяжелого сна. Она подошла к двери и поинтересовалась, что дают. Полная, беззубая зэчка, в застиранном до блёклости безразмерном халате, в такой же косынке, повязанной вокруг головы, ответила, что как обычно. И перечислила: макароны или перловка, хлеб, чай с сахаром. Нина произнесла, что не густо. Зэчка засмеялась щербатым ртом и добавила, что густо будет дома. А тут хавай, милая, то, что дают. И что пора отвыкать от ананасов в шампанском. И ещё раз явила Нине щербатый рот: «Ешь ананасы и рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй!» И покачивая из стороны в сторону тощим задом, шаркая, удалилась в сумрак коридора.
***
Нина поставила тарелки на стол. В нерешительности застыла, будить или нет Эмму. Решила, бужу. «Эмма», – Нина осторожно похлопала её по плечу. Та не отреагировала. Тогда Нина сильнее похлопала. Тут Эмма повернулась на спину и её взгляд, пустой и отрешённый направился прямо в глаза Нины. «А-а-а!» – истошно закричала Нина, бросилась к двери с призывом, что Эмма, наверно, умерла. Присутствие, как казалось Нине, мёртвого человека в палате наполняло её первобытной брезгливостью. Медики прибежали оперативно. Сухонький, невысокого роста старичок, гладко выбритый – доктор – определила Нина – и уже знакомая её медсестра. «Чего верещишь? – с порога в лоб она спросила Нину. – Уселась на койку и язык в жопу!» «Прекратите, Соня, – заговорил доктор. – Так нельзя!» Соня послушно кивнула и приложила ватку с нашатырём к носу Эммы. На её лице отразилась едва заметная гримаса. «Хорошо», – резюмировал доктор, помахал у глаз рукой. Зрачки не отреагировали. «Плохо, – так же спокойно сказал он. – Соня готовьте шприц. Два кубика… и, пожалуй, кубик… Думаю, обойдётся и на этот раз». Соня привычным, отработанным движением наполнила шприц, выпустила через иглу воздух и несколько капель раствора. Затем закатала выше локтя рукав халата и свитера. Нина увидела тонкие ручки-грабли Эммы – так они были высушены. Соня без труда нашла вену и сделала укол. Затем ещё один. Поинтересовалась у доктора, что, витамины будем колоть, тот одобрил. После последней инъекции Эмма заметно вздохнула, с лица сошло напряжение, и она сделала попытку приподняться. Доктор движением руки попридержал её. «Вот и делов то всего», – неизвестно к кому обращаясь, сказал он, снял перчатки. Посмотрел пристально на Нину и сказал, что «с вами, голубушка, мы очень скоро встретимся», удалился вслед за медсестрой.
– Да не молчи ты уже, – слабым голосом проговорила Эмма, – спрашивай. Вижу, вопрос на языке вертится.
– Чем больна? – больше ничего на ум Нине не пришло.
Эмма снова зашлась кашлем. Прокашлялась, встала. Поправила постель. Уселась с ногами на кровать и укуталась в одеяло.
– Чёрт его знает, подруга. Лепилы понять ничего не могут. Анализы все в порядке. А вот жизнь из него, – Эмма похлопала себя по груди, – вытекает по капельке. Каждый день по чуть-чуть. Чувствую, скоро мы встретимся…
– С кем, гуру? – «гуру» Нина произнесла, без каких было затруднений, будто всегда в её лексиконе присутствовало это слово.
Эмма изобразила подобие улыбки. Получилось не очень удачно.
– С тем, – указала взглядом в потолок, – с тем, кто нашу жизнь расписал и разложил по полочкам ещё до нашего рождения. Где нам быть и с кем. Всё решено. Все встречи расписаны. И судьбоносные, и обычные. Вплоть до того, что будем кушать, как, где и с кем. Во что одеваться, – речь прервал кашель, – одеваться и перед кем раздеваться.
Нина хотела перебить Эмму и сказать, что это ей знакомо. Что она это прошла: и одевание, и раздевание, и деликатесы в компании уродов и вина в тонких бутылках, и много чего ещё. Но заметила, что Эмма продолжает говорить, не обращая на Нину ни малейшего внимания. Как заведённая, с запавшей кнопкой «Пуск».
– …всё связано между собой невидимыми тонкими линиями, нитями. Как хочешь, называй. Линии наших жизней пересекаются. А бывает и сплетаются в прочные узлы. И тогда – это уже Судьба. У индийцев есть очень красивое слово – Карма. Карма – это действие существования. Вот и моя хвороба – это Карма. Плата за непристойное. Они утверждают, Карму можно исправить. А зачем? Если всё решено. Моя смерть – это Дхарма. Тоже красивое слово. Нужно говорить с придыханием на букву «х», тогда получается очень лирично и напевно – Дха-а-арма! Карма есть у каждого. И связи, существующие, называются кармическими. Мы все кармически оплетены сетью. Как будто паук соткал сеть. Мы в неё попали. А это – Дхарма. Закон долга исполнения. Бывают, конечно, исключения, но все они заключаются в эту формулу: Карма – Дхарма. Взять, например, карандаш. Дерево росло в лесу – Карма. Его спилили, разделили на части, использовали по назначению – Дхарма. Изготовили карандаш, его Карма – быть остро заточенным и рисовать. Источили до огрызка и выбросили. Быть выброшенным, выполнив полностью свою Карму – Дхарма. Он рад, предоставил радость своим существованием. Хорошая Карма – Счастливая Дхарма. И эта связь прослеживается всюду. С любой вещью или предметом. Вот, койка, опять-таки. Её карма – чтобы я спала на ней. Дхарма –
подохла. Да-да, подруга, подохла. Не умерла. Таким, как мы, Нина, только и подыхать. Это – наша Дхарма. Только у тебя Карма – родить ребёнка. Возможно, Дхарма твоя изменится. Кто знает… На длинном пути между пунктами А и В может случиться всякое. Машина едет – Карма. В кювет съехала – Дхарма. Кто-то сидящий за рулём посчитал себя выше всех. «Все» это не терпят. Ставят сразу на место. Поезд едет – Карма. Сходит с рельсов – Дхарма. Да, есть жертвы. Значит, там не было и одного праведника, не то, что десять. Вот у всех и одна Дхарма. И у взрослых, и у детей…
8
Эмма умолкла.
Нина её не перебивала. Не задавала вопросов. Смотрела на Гуру. Та смотрела в её сторону, но взгляд Гуру был устремлён дальше покрашенной белой краской тюремной больничной палаты стены. Ему не было преград. Что она видела, за кем наблюдала? На лице Гуру не отразилось ни одной мимики. Спокойное, умиротворённое лицо уставшего человека.
На этот раз голос Эммы, внезапно зазвучав, не вспугнул Нину.
– Хлебом и яствами насытились. Пора о душе подумать.
Гуру снова умолкла, будто споткнулась на полуслове.
– …а ведь не хлебом единым жив человек. Если пища насыщает тело, слово – насыщает разум. Хватит жрать! – вдруг резко выкрикнула она куда-то в пустоту и выбросила вперёд правую руку. Лицо пошло алыми пятнами, дыхание участилось, легко сбиваясь с ритма.
Нина испугалась резкой смене настроения Гуру. Хотела позвать на помощь. Да, как на грех, ноги стали ватными, и морозная сыпь высыпала по коже.
– Довольно жрать… – тихо и спокойно повторила Эмма. – Вот меня спрашивают, как ко мне прийти. Я всем без исключения отвечаю: просто идите. Не бойтесь тягот, ожидающих в пути; резких перемен погоды; идите долинами, через реки; идите горами, через пустыни. Идите! Просто – идите. Идите без цели, но с надеждой, как с факелом в руках. Она будет столпом, тем самым, что помог евреям при исходе из Египта. Они тоже шли ко мне. Долго. Это я их вёл окольными путями. Знал о пагубности и вреде для них пути прямого и быстрого. Ямы и горы сравню перед идущими ко мне.
К новой остановке в пути повествования Нина была готова. Слушала, нервно ловя каждое слово, но не вполне понимая, о чём говорит Гуру. Что хочет донести. Потухший, потусторонний взгляд вызывал у Нины внутреннюю дрожь и страх. Паника ею овладевала, она далёким, почти первобытным чутьём ощущала тайный посыл покоя. Но состояние Гуру её смущало и тревожило.
В памяти всплыло слово «транс». «Именно!» – хотелось закричать Нине. Она поняла, Гуру в трансе, в особом состоянии духа, когда тело и душа находятся друг от друга на большом расстоянии. Об этом она читала не раз в книгах. И когда она это поняла и вошла в состояние сознания Гуру, ей стало легче.
– Человечество приходит ко мне разными путями, но каким бы путём человек ни приближался ко мне, на этом пути я его приветствую, ибо все пути принадлежат Мне!
Нине от этих слов стало неуютно. Она плохо разбиралась в религиозных тонкостях. Самобытным специалистом по этой части была её бабушка. Это с её подачи Нина пыталась читать Библию. Но всякий раз бросала это занятие. Находя книгу скучной и неинтересной. Но с большим любопытством наблюдала за бабушкой, особенно, когда та молилась у себя в маленькой спаленке, стоя на коленях на потёртом старом коврике в углу перед древней закопченной иконой Николая-Чудотворца.
***
Икона освещалась тусклым светом лампадки. Висела она на покрытых копотью медных цепочках. Горела лампада, насколько Нина знала, всегда. Бабушка за этим строго следила и постоянно подливала масло, покупаемое в церкви. Старая икона была без ризы. Простая, обыкновенная дощечка с рисунком. Так однажды бабушке и сказала. Та отвесила лёгкий подзатыльник и поправила, что это не рисунок, а святой образ. Помнила Нина и взгляд святого. Он строго взирал на неё, когда она смотрела на икону, и было в этой строгости что-то отеческое, доброе…
– Я даю вам свободу от самого вашего рождения и до дня встречи со мной, – Гуру встала на кровати, развела руки в стороны, одеяло упало с плеч, обнажив худобу под халатом.
Была в этом действии какая-то иррациональность и мистичность; странным ветерком загадочности повеяло от Гуру; глаза вспыхнули удивительным огнём.
– Качество свободы замечательно; если она существует, её ничем ограничить нельзя.
После этих слов Гуру сложилась, как циркуль, опустилась шелковым платком без звука на кровать и затихла. Подтверждением происшедшего осталась неясная тень на голой стене. Нина пожелала мысленно Гуру и себе спокойной ночи. Легла, стараясь не скрипеть пружинами. Аккуратно повернулась лицом к стенке, начала водить по ней пальцем, беззвучно шевеля губами.
Повторяла она последние слова: «если она существует, её ничем ограничить нельзя». И так раз за разом, одно и то же, пока не забылась сном. Сквозь сон ощутила Нина чьё-то тайное присутствие рядом с собой. Размежив веки, она увидела Гуру. «Ты чего?» – прошептала Нина. Гуру не ответила, только остановилась в отдалении. Нина пристально посмотрела на неё. Наконец, Гуру заметила взгляд и села рядом с Ниной, и начала медленно и нежно гладить Нину по животу. Нина хотела заговорить, но её опередила Гуру. Она наклонилась к лицу Нины и горячо прошептала: «Помни мои слова: в твоём чреве новая жизнь. Не убивай её – не лишай свободы».
Гуру встала и пошла к себе. Нина потянулась рукой, пытаясь остановить её, как увидела в сером сумраке палаты копошащиеся тени. С трудом разглядела санитаров и медсестру Соню. Они укладывали Гуру, как куклу, застывшую в нелепой позе, на каталку.
– Куда вы её везёте? – спросила шепотом Нина.
– В морг, – в ответ хмыкнула презрительно Соня. – Ей туда теперь одна дорога…
9
Сильный удар по решётке из арматуры, защищающей окно-аквариум дежурной части, следом глухой звук-стон и громкий окрик: «Не спать, бля, на посту, Хвостик!», заставили нервно вздрогнуть дежурного старлея Хвостикова. Он дёрнулся, едва не упал со стула, но сохранил равновесие.
– Чё, забздел? – поинтересовался зло тот же голос.
– Муха, ты, блин… – не сразу нашёлся, что ответить Хвостиков, с испугу забыл весь лексический запас, заметно урезанный службой.
– Не «Муха», а товарищ майор Мухарский, – назидательно поправил Хвостикова Муха. – Чё там у нас? – кивнул головой в сторону лестницы, умело закамуфлированной дверью под стену, ведущей в подвал в «ожидаловку».
– Тоха-барсетка, – лихо отрапортовал дежурный. – Тиснул лопатник с баблом. Лопатник нашли, вернули, где бабосы – не признаётся.
– «Лопатник», «бабосы», – сыронизировал Муха, – слышь, Хвостик, ты в доблестной российской милиции служишь, а не в кодле Гарика-диеза на побегушках.
– Ну, кошелёк, – поправился быстро Хвостик, - и деньги.
-– Отпиздить надо было, щедро, от души, –- как нечто обыденное посоветовал Муха, не слыша Хвостиковых поправок.
– Это, Муха… извините, товарищ майор, – дежурный изобразил соответствующую ситуации маску на лице, – исполнили. Молчит, сука!
Муха с недоумением уставился через стекло на Хвостикова.
– Чё?! – растерялся тот.
– Через плечо! – рыкнул Муха. – Не исполнять, не исполнять надо было, - нагнетающим грозу голосом. Готовым вот-вот взорваться, краснея от натуги громко прошептал он. – Не-ис-пол-нять! Блядь-сука-козёл-вонючий! Не-ис-пол-нять! А-пиз-дить! Сука-блядь! От-пиз-дить! – по слогам произнёс Муха. – Боль-но-и -дол-го-пиз-дить-пиз-дить-пиз-дить-по-ка-не-приз-на-ет-ся!
Хвостиков сбледнул, передёрнул плечами. Адреналиновый страх отяжелил колени; холодный нервный мороз игольчато проскользнул между лопаток и заставил пошевелиться коротко остриженные волосы на затылке.
– Что ещё? – спокойно, будто перед этим не исходил на говно, спросил Муха.
– Тапёра с бабой на вокзале задержали.
– Тапёра выебать, бабу – отпустить, – меланхолично проговорил Муха.
– Как? – Хвостиков подумал, что ослышался.
– Показать? – ехидно поинтересовался Муха.
– Тапёр – мужик, – подкорректировал свои слова Хвостиков.
– И что это меняет? – ехидства у Мухи не занимать.
– Э…э…– начал лепетать Хвостик. – Это… попахивает…
Муха громко и непринуждённо рассмеялся.
– Да шучу, шучу, Хвостик. Сделайте наоборот…
– Ну и шутки у вас, товарищ майор, – облегчённо выговорил Хвостик.
– Что поделать, Хвостик, – Муха прямо, не скрывая, издевался над Хвостиком, – шутка юмора у меня такая, стралей! – и мгновенно умолкнув, зло зыркнул на того, - есть претензии – в письменном виде мне на стол!
– А после что с ними делать?
– Мозги совсем на службе отсырели? Послать их… – Муха махнул неопределённо рукой.
– К такой-то матери! – бодро вставил Хвостиков.
Муха заинтересованно посмотрел на дежурного, будто видел его в первый раз. С минуту, молча, пристально вглядывался в его лицо.
– Нет, - задумчиво сказал Муха. – Ни к чьей матери посылать не надо. Где?
Дежурный мотнул головой в сторону обезьянника, там, мол, и сидят. Муха одобрительно наклонил голову, пусть, дескать, сидят, и направился в «ожидаловку». Хвостик высунул голову в окошко и крикнул вдогонку:
– Муха, там пацаны немного расслабляются.
Не оборачиваясь, Муха поднял правую руку и щёлкнул пальцами: «Ок!»
***
Из приоткрытой двери густо пахло табаком и свежим, возбуждающим самые скрытые и сокровенные желания, самые лучшие побуждения, светлые и доблестные, не перепутать и спросонья, нежным ароматом водки.
– Скоро Муха появится, – послышался один голос.
– Да уж, – то ли разочарованно, то ли еще как, другой.
– Можем не услышать, – прорезался третий.
– Услышим, – успокоил первый. – Он, говнюк, берцы с титановыми набойками и подковами носит. Издалека слышно…
– Эти, что ли? – это снова спросил третий.
Чуткий слух Мухи распознал стук набоек о столешницу.
– Бля! – всполошился второй. – Сука! Он же, блядь говнистая, может, как кошка подкрасться, и тогда нам…
– …пиздец, – закончил пламенную речь подчинённого Муха, и шагнул в комнату.
Повёл недовольно носом.
– Пьёте, бляди?!
Троица, два прапора и сержант, по виду недавний дембель, форма висит мешком, замерли в торжественном молчании. Муха, мягко ступая каучуковыми подошвами, приблизился к столу, взял литровую бутылку «Президентской Особой». Отвинтил крышку, придирчиво понюхал, затем сделал долгий глоток из горлышка. Посмаковал во рту. Проглотил.
– Чё празднуем?
– Макар, – прапор первый хлопнул рукой по плечу сержанта, – вливается в наши ряды.
– Вливается. – Муха снова приложился к горлышку и уже пустую бутылку бережно поставил на стол. – Это очень хорошо! – наколол на зубочистку маслину и отправил в рот. – Всё?
Макар подскочил на месте, радостно затараторил, возбуждённо, искренне и от всего сердца:
– Да что вы, товарищ майор! Целый ящик купил! Вот, смотрите! – кинулся выставлять бутылки из шкафчика на стол.
– Вот, товарищ майор! Мама тут пирогов напекла с картошечкой, с грибочками, с капусткой и шанежки тоже; рыбки нажарила, котлетки куриные приготовила!
Муха довольно, не скрывая удивления, смотрел на мечущегося Макара. Ждал, когда тот успокоится. Следил за ним и что-то вычислял в голове. Затем видя, что суета не прекращается, произнёс: «Стоп, Макар! Наливай чарующего колдовства в хрустальный мрак стаканов!» Чем ввёл в кратковременный ступор сержанта. Из него тот вышел быстро. Выставил на стол четвёртый стакан и наполнил его водкой с мениском. Прапоры между собой переглянулись. «Молодец, сержант! - говорили их взгляды. – И Муха – тоже; умеет, когда надо не только ботинком рёбра крушить».
Прежде, чем выпить, Муха снял китель, беспокойно звякнули медальки, был в главке. Сорвал галстук, расстегнул пуговицы форменки. Снял рубашку и остался в майке-тельняшке. Поиграл мускулами. Покрутил головой на бычьей шее. Сел на стул. Снял туфли, обул берцы. Любимые, вошедшие в мифологию о нём, Мухе-Цокотухе. Зашнуровал. Встал. Подпрыгнул. Дробный цокот, эхом, рассерженным отражаясь от стен, выскочил в коридор. Весь вид Мухи, мужественный и сильный, говорил, что вот теперь можно и выпить. Вздохнул и медленно, не торопясь, выпил медленными глотками водку.
Не выпуская воздух, обвёл «ожидаловку» чутким взглядом хозяина, от такого ничего не утаишь, и остановил его на Тохе-барсетке. Тот сидел на стуле в правом углу между стеной и рукомойником. Тоха почувствовал взгляд, поднял голову и от страха чуть не пустил гусей из зада. Муха медленно выпустил воздух через сложенные трубочкой губы: «Ху-у-у!», произнёс затем, выдавив весь воздух из лёгких с заметным свистом. «А вот и герой нашего времени!» Тоха-барсетка сжался, насколько позволяли габариты, и втянул голову глубоко в плечи и зажмурил глаза. «Что ты там сидишь, скучаешь, – продолжал Муха, – мы тут празднуем, понимаешь, а ты, вроде как в стороне». И делает пригласительный жест к столу. «Или Тоха-барсетка брезгует ментовской хавкой?» Тоха изо всех сил старательно затряс головой, нет, мол, что вы, как можно. Муха тогда повторил, что приглашает его к столу. «А бить не будете?» – испуганно спросил Тоха-барсетка. Менты брызнули со смеху. «Ты, чё, Тоха, в натуре, рамсы попутал? – спросил прапор-первый. – Иди, давай, когда приглашают». И протянул наполненный до краёв стакан. Тоха стрелой метнулся к столу. Схватил стакан и жадно осушил. Вертя в руке пустой стакан, Тоха удивлённо посмотрел на ментов, переводя изумлённый взгляд с одного на другого. «Вода», – виновато произнёс он. «Ты думал, тебе и, вправду, тут ханки нальют?» – поднялся со стула Муха. Тоха утвердительно кивнул головой. «Х-х-хык-к-к!» – Муха резко ударил Тоху под печень. Того свернуло калачиком. «Один удар по печени равен литру выпитого пива. Повторить?» – зло ощерился Муха. «Повторить?» Тоха, не в состоянии говорить, дыхание спёрло, тупая боль сковала тело, лишь выпучил по-рачьи глаза и широко раскрыл рот, пытаясь протолкнуть в лёгкие хоть немного воздуха. «Н-н-на!» – Муха правой ногой ударил в подбородок. На мгновение Тоха приподнялся над полом, и мячиком полетел в угол-ворота.
Прапорщики и сержант онемели от такой демонстрации жестокости. «Что? – поинтересовался Муха. – Жалко? Нашли кого…» Налил в стаканы водки и приказал выпить. Но, впрочем, приказывать было лишним. Это было лучшим средством снять стресс от только что увиденного.
Спустя полчаса, порядком угашенный сержант молотил руками-ногами по телу Авоськи. Нового наивного бомжа, приведённого на пиршество ментов. Авоську приковали наручниками к трубе отопления. «Так его, так его!» – подначивали сержанта прапора и Муха. Переусердствовав, в развороте сержант плюхнулся на пол и уставился непонимающим пьяным взглядом на давящихся от смеха старших товарищей. «Уморил!» – сказал весело Муха, выпил водки, подошёл, помог подняться сержанту. Тот вернулся к столу. Заботливые товарищи наполнили стакан: «Пей!» Он выпил. «А теперь, Макарушка, смотри, Муха-Цокотуха будет мастер-класс показывать!» Благоговейно, заплетающимся языком произнёс прапор-второй, повернув голову Макара в сторону Мухи. «Учись!»
Муха, будто исполняя одному ему известный ритуальный танец, стоял перед Авоськой и выбивал чечетку. Стоял, не напрягшись, слегка расслабленно; вынеся вперёд носок берца, стучал перекатом носок-пятка…
Правой ногой, левой… правой ногой, левой… перекатом… перекатом… носок-пятка… носок-пятка… Никто не уследил движения. Голова Авоськи внезапно откинулась назад, он издал нутряной стон, кровь изо рта веером поднялась вверх и осела на потолке. Следующие удары зрители уже отслеживали: вслед за ударами раздавался хруст, Муха с усердием бил-крошил голени и колени. Не меняя выражения лица, не сбивая дыхания с ритма, он продолжал убийственный ритуальный танец. Теперь удары приходились в грудь, живот, по бокам. Рёбра хрустели, и их хруст не мог покрыть ослабевающий раз от раза вскрик Авоськи.
Муха исполнил последние па и остановился. Авоська свисал на полусогнутых ногах, безвольно и бессильно. Голова склонилась вперёд. Тонкая струйка крови медленно стекала по подбородку.
Первобытный ужас и благоговейный трепет – странный коктейль из несовместимых чувств – объяли сержанта одновременно. «У-у-ух ты!» – только и смог выговорить он пьяным языком. И бросился к раковине. Из него выходило и лилось всё, что пилось и елось за последние два-три часа. «Ничего, – резюмировал Муха. – С непривычки бывает». Затем выпил водки, услужливо налитой кем-то из прапоров в стакан. «Прошу ласкаво остальных к «груше» отрабатывать удары». Игра в четыре руки – это виртуозность. Это вам не двумя кулаками махать, изредка вставляя в арию партию зудящих ног.
Муха снял трубку, приказал дежурному привести вниз тапёра. Что делать с бабой, поинтересовался дежурный. На что Муха ответил, что хочешь. Пусть отсосёт, пока с еёшным пацаном базарить будем.
10
Головой вперёд влетел Кеша в слабоосвещённую комнату. На него сразу же набросилась алчная волна перегара вперемешку с табаком, неконтролируемой агрессии и жестокости. Приподнявшись на руках, он рассмотрел мужчину, привязанного к трубе отопления, которого методично, меняя силу удара, избивал пьяный милиционер. Второй стоял рядом и что-то вполголоса говорил. За столом сидел молоденький вихрастый паренёк в форме с сержантскими погонами и, тупо уставясь в пустоту перед собой, беззвучно шевелил губами. Кеша прочитал по губам следующее: «Триста семьдесят два… триста семьдесят два… триста семьдесят два…» Голова сержанта упала на стол, и он захрапел.
Из-за стола встал огромный мужик-гора в майке-тельнике, наглаженных брюках, заправленных в берцы. Гора мышц приблизилась к Кеше, и он увидел быстрое движение ладонью вверх. Кеша встал, отряхнул брюки, поправил куртку. «Ты кто?» – спросила гора мышц. «Человек», – ответил Кеша. «Да?!» – произнесла удивлённо гора мышц, кивнула головой в сторону избиваемого Авоськи: «Нравится?» «Нет», – ответил Кеша. «Да?! А мне нравится, – снова удивилась гора мышц. – Выпьешь?» «Нет», – повторил Кеша. «Брезгуешь», – констатировала гора мышц и, незаметно для себя, Кеша отлетел к стене от сильного удара кулаком в грудь, легко, как пушинка. «Думаю, это – понравилось, – произнесла гора, приблизилась и пустила в ход ноги. – Удар, удар, ещё удар, ещё удар и вот, Борис Буткеев, Краснодар, проводит апперкот». Напевая строчки Высоцкого, гора продолжала избиение. Один удар пришёлся Кеше в плечо. Следующий – в голову. Яркая вспышка осветила вдруг всё внутри. И он увидел себя, маленького, ползущего по длинному тёмному влажному тоннелю к свету. Он мягко и нежно сиял впереди.
И тут случилось невероятное! Просто – невозможное! Сознание Мухи-Цокотухи помутилось. Его затошнило. Муха вдруг увидел себя летящим по наклонному извивающемуся поливочным шлангом круглому коридору. Его наполнял рассеянный матовый, не режущий глаза свет. Он исходил из стенок коридора, редко встречались кольцевые рёбра и Муха – Муха никогда не ведающий боли! – больно бился о них. Бился руками, бился ногами, спиной; чаще грудью; от ударов онемели и затекли ягодицы, противная сосущая вовнутрь боль вытягивала наружу его внутренности. Не бился он только головой: как мог, предохранял её руками, крепко обхватив, выставив вперёд локти и сцепив на затылке замком пальцы. Иногда он летел вверх, дыхание захватывало, и он ощущал запах – ему даже казалось – вкус собственного дерьма. Так ему казалось… Так – ему – казалось?
Стремительный прыжок вверх заканчивался секундным зависанием и стремительным падением вниз. «Толик, Толик, – из темноты выплывала сгорбленная фигурка мамы в выцветшем старом байковом халате, подпоясанная неизменным вельветовым пояском, в яркий цветочек темно-белым передником, тугим узлом стянут под подбородком строгий черный ситцевый платок. – Разве ж я таким в своих снах мечтала тебя видеть? Сынок? Откуда у тебя столько жестокости и злобы?»
Удар! Следующий! Спина горит огнём.
***
«Так его, сукина сына!» – Толик Мухарский узнает позабытый голос отца. Он предстаёт перед ним в льняных брюках, заправленных в кирзовые сапоги. Сколько помнил Толик, отец в сапогах ходил всегда. Зима ли, лето. Без разницы. Без носок и портянок. Только бросит в сапоги вместо стелек по клочку сухой соломы и вперёд. Стужа, зной, снег или дождь – обувь одна – сапоги. И никогда от ног не шёл запах. А у Толика от грибка на ногах вонь такая пёрла, мёртвых выноси. Сорочка на отце, матерью расшитая, застёгнута под ворот, рукава по локоть закатаны, на голове дешёвая драповая серая в клеточку фуражка. И остро отточенная коса в руках. «Так его, подлеца!» – повторяет отец, в глазах ни капли сострадания, жалости и сочувствия. «Папа! – захотел, истошно вопя, закричать Муха, – как же так, я же ведь твой сын!» «Так его, мать-и-мать, голову с плеч! – отец замахнулся литовкой, ядовито блеснул на солнце острый край. – Нет у меня больше сына! Был – да вышел весь! У! отродье сатанинское!» «Папа, да это же я, я – Толик! Сынок твой единственный поздний! Ты же сам меня баловал, сам!.. Папа!» Отец сводит сурово брови. Из глаз, Муха видит, катятся слёзы – и хищно свистит коса, кланяются низко травы, медово-тянуче-пахучей вспенивая младенческое сознание мягкой контратакой ароматов. «Яблоко от яблони», – сурово вещает отец. Его перебивает мать: «Сынок, я тут пирогов испекла…»
Дальше летит Толик Мухарский, Муха, Муха-Цокотуха.
«Гы-ы-ы-ыр-р-р!» – Толик рассмотрел озлобленные лица дембелей, искалеченных им в части, после чего его отправили за речку. Они стоят, скалятся, боятся приблизиться. «Бойтесь, твари, Толика Мухарского!» – кричит Толик, напрягая связки и краснея от натуги. «Мухарский, Мухарский, разве тебя таким хотела видеть Родина-Мать?» – перед Толиком из сумрака вышел замполит. В сандалиях на босу ногу, в пляжных шортах, щегольской льняной рубашке, соломенной шляпе, с сигарой во рту и бокалом мартини в руке. «А вас, товарищ замполит, – Толик забыл за давностью лет имя-отчество, – таким хотела видеть?» «Ты на меня писюн не дрочи, не вырос еще! – Поучительно ответил замполит, отпил глоток вермута, сладко затянулся сигарой и, выпуская дым, продолжил, – я свою кровь пролил на всех континентах. И сперму сеял, где мог, и в ком – мог. Щедрые всходы она дала. Вот и живу потому сейчас припеваючи. А что ты – ты? что? посеял? – что и кто тебя будет кормить на склоне лет?»
Руки расцепились, и голова Толика заскользила по ребрам трубы – тук-тук-тук – больно. Тук-тук-тук! В мозгах встряска. Образ матери сменяется видом отца; ему на смену приходит девушка в разодранной юбке и белой сорочке. «Не надо, прошу вас!» - кричит она, истерично дрыгая ногами и руками. «Не-е-ет, сука, – шепчет в пьяном забытьи Толик, – нет, блядина, надо! Их-к…» Грубо входит в неё. Тело девушки выгибается в пароксизме боли и обмякает: она теряет сознание. «Муха, – слышит он голоса сослуживцев. – Брось! Она же без сознания! Что за прикол? Ты ей весь зад порвёшь!» «Таких – ых! – как – ах! – она-а-а-а! – Надрывается, потея обильно, Толик, вгоняя свой ствол в девушку, – я и мёртвыми трахать буду! Чтобы-другим-наука-впредь-была!» «Остановись, Муха! – Пытаются облагоразумить друзья. – Уже пошла кровь!» «Ха! Вся не выйдет!» – смотрит на свой стержень, он весь в крови, в чёрной. Вдруг кровь начинает бугриться, шевелиться. Сквозь чёрные пузыри наружу выползают длинные тонкие черви с острыми головками. Толик в ужасе пытается сбросить их. Они впиваются в его пальцы, ползут под кожей и вот они, большие, толстые, плоские пеленают тело Толика… «Не надо, прошу вас, пожалуйста!» – Кричит девушка в разодранной одежде. «Ты!» – Вдруг слышит Муха раскатистый голос. «Я», – отвечает. «Ты!» – снова раздаётся голос. «Я!» – повторяет Муха…
…и выскальзывает из темноты липкого света…
На шатающихся подгибающихся ногах Муха стоит посреди «ожидаловки». Что-то невнятно бубнит под нос. Сержант и прапора испуганно смотрят на него. Иногда Муха резко вскрикивает и выбрасывает руку в римском приветствии легионера. Вращает дико покрасневшими белками глаз, водит мутным взором вокруг. Взгляд ни на чём не останавливается подолгу. Он перепрыгивает со стола, уставленного бутылками с водкой и закусками на стену, где на вешалке, вперемешку с кителями и фуражками висят автоматы.
Взор его блуждает, как корабль, носимый штормовым морем. И не может ни за что зацепиться. Он – в другом теле. Он – в другом мире. Изредка Муха пытается фокусировать зрение к прикреплённому к трубе наручниками Авоське и забившемся в угол Тохе-барсетке. Перед Авоськой он исполнял свой единственный и никем ни разу неповторимый – сколько сослуживцев пыталось повторить, куда там! – ритуальный танец Мухи-Цокотухи.
Резкий свист в ушах сменяется монотонным гудением. От него раскалывается, болит голова. Авоська – вот он! – висит неподвижно. Голова бессильно свесилась. Изо рта, носа, из открытых ран на лице сочится кровь. Чёрная кровь. Вместе со слюной. Чёрной. Чёрная кровь, совокупившаяся с чёрной слюной; тело Авоськи, худое и обезображенное немыслимым количеством наколок, представляет сплошную гематому. Ещё от Авоськи сильно разит мочой. Тело опорожняется непроизвольно – моча и кал; организм продолжает функционировать на автопилоте.
Приближаться к Авоське Мухе решительно не хочется. Тот, к кому решил подойти Муха, лежал избитый в противоположном углу у стены, недалеко от приоткрытой двери. Нетвёрдо ступая нетрезвыми ватными ногами, каждый шаг, как шаг по тундре, Муха приближается к юноше и, помедлив – спросить – как, сразу ударить? – решает ударить – ударяет с носка по голове.
Юноша дёргается и замирает. От набойки на носке кожа на голове юноши рвётся и сквозь образовавшуюся щель спешит истечь кровь, как весенний ручей, превратясь в бурную реку сносит город. Струи крови бегут по волосам. Струи соединяются в алые ручьи. Ручьи соединяются в багровые реки. Они взывают и призывают: – Бей! Без раздумья! Без жалости! Без рефлексий и соплей! Не жди! Бей! Бей! Бей!
И Муха бьёт. Раз, другой, третий…
И отшатывается назад. Из многочисленных ран текут тонкие струйки алой крови. Она пахнет смертью. Живой – смертью. Той, что совсем недавно стояла за спиной и в беспомощном ожидании разводила руками. Стекающая из ран юноши кровь на полу комнаты соединяется в широкое, неспокойное, бушующее озеро. Муха смотрит, не понимая на него, и сквозь туман зрения рассматривает утлые лодчонки, с человечками; хлипкие плотики под рваными парусами; большие суда, тонущие в пучине этого взбесившегося кровавого озера. Человечки что-то натужно, сбиваясь на хрип, кричат. В просьбе протягивают к нему руки.
Тут он начинает различать их голоса. Они просят о помощи. Они взывают к нему с мольбой. Он видит, как человечки начинают бросать за борт сопротивляющихся и покорных других человечков. Он догадывается – они приносят ему жертвы. Не мирные – кровавые! Не коз, коров и овец! Они приносят ему в жертву – кровавые людские жертвы, лишь бы только он услышал их голоса и внял их молитвам! Лишь бы только он смилостивился и пришёл к ним на помощь!
«Помоги нам, Боже Всемогущий!..»
11
«Зачем мне всё это? – думает, тяжело передвигая валуны-мысли Кеша. – За что? Что я сделал плохого и кому?»
Муха, не удовлетворившись результатом продолжает бить Кешу. Он не реагирует. Его жизнь – тяжёлый груз на тонкой нити. Усиль давление – порвётся. Обрушатся берега реки жизни, поглотит их вода, глубокая, холодная. А брод, вот, он, рядом, сделай шаг…
Муха нагибается; интересуется, что, язык двигается легко и свободно, что ж, голубок, не кричишь. Сил нет, или ещё чего.
Кеша, как ему показалось, мотнул головой. В одну сторону – мысли-валуны тяжело перекатились; в другую – они перекатились снова.
«Ну и хер с тобой!» - Муха на этот раз бьёт Кешу в грудь, прицельно, в область сердца.
От хруста костей, прокатившегося по «ожидаловке» протрезвели не только прапоры и сержант. На мгновение Муха выполз из-за мутной тряпичной ширмы опьянения.
Сознание Кеши помутилось. Из пелены небытия всплыла вся его недолгая, наполненная горестью и печалью короткая жизнь.
***
– Поднатужьтесь, мамаша, сильнее! Ещё разок! Не бережём силы! – поглаживая живот Нины, говорит пожилая акушерка.
– У-у! У-у! У-у! – ревёт, краснея от натуги и обливаясь потом Нина, волосы слиплись в тёмные некрасивые сосульки. – Ы-ы-ы-ы-а-а-а! Бо-о-о-ль-но-о-о!
– Ещё разок, деточка, ну же! – подбадривает акушерка и вздрагивает от неожиданности, Нина крепко схватила её за руку и сильно сжала. – Успокойся, голубушку, уже скоро!
– Сделайте укол… снять болевые ощущения. – говорит пожилой доктор, поглаживая седую бородку-эспаньолку. – Видите, голубушка, вот мы с вами и встретились…
У Нины глаза застит пот. Через горячую пелену палата плывёт перед глазами, предметы принимают искажённые фантастические формы. Двоятся окна, лампы, доктор и акушерки. Изменённые сознанием, искажённым болью, всё перемешалось…
Внезапно она чувствует резкое движение внутри. Кости таза готовы разлететься в разные стороны. Всё внутри горит, пылает. Пароксизм нарастает. Сотни острых игл, тысячи раскалённых стрел, миллионы раздробленных атомов атакуют снаружи тело, готовое вот-вот сдаться натиску извне… Мгновение спустя обескураживающая боль сменяется отупляющим облегчением… Всё… Ой, мамочка!.. Кажется…
***
Что с ним происходит, он не мог понять. Ему было так хорошо, комфортно и уютно.
Он купался в тёплых водах; он был защищён; он чувствовал защиту. Он ни в чём не нуждался, был сыт. И тут его кто-то нехороший решил выпроводить из этого приятного места наружу. Он почувствовал резкие, неприятные сжатия этого непонятного незнакомца, но поделать ничего не мог. Вышла куда-то вода, в которой он купался и нежился. И сразу стало одиноко и сиротливо. И он решил идти вслед за водой.
Вода ушла в направлении яркого света, который показался вдруг в конце какого-то непонятного длинного коридора. Он развернулся и, наверное, инстинктом, заложенным природой, пошёл головой вперёд, сложив руки вдоль туловища и вытянув ножки.
Он продвигался вперёд легко, без помощи, хотя ощущал своим маленьким тельцем чью-то ненавязчивую заботу и лёгкие подталкивания. Вот он высунул голову, глотнул свежего, приятного воздуха, пошевелил плечами и полностью вывалился на чьи-то нежные заботливые руки. И закричал от радости: «А-а-а!!!» И слёзы радости полились из глаз тонкими светлыми ручейками.
12
– Смотрите, мамаша, смотрите! – радостно обратилась акушерка к Нине и подняла на руках маленький, живой, розовый, шевелящий ручками-ножками комочек.
Нина отвернула лицо и прохрипела:
– Уберите прочь… этого… ублюдка!
– Мамаша! – в голосе акушерки послышалось осуждение. – Это же ваш ребёночек! Ваша кровиночка родная! Вами выношенный, выстраданный!
– Уберите его прочь!.. – закричала Нина. – Видеть его… не хочу!.. Никого!.. – и забилась в истерике.
Видавшая многое на своём веку акушерка не смогла сдержать эмоций.
– Ничего, ничего, – погладил доктор по плечу акушерку. – Это шок. Случается, и не такое. Условия у нас, скажем так, не курортные.
Доктор взял на руки малыша и засмеялся.
– А ребёночек, и в самом деле, чудный!
***
Тоска, будто цунами, накрыла с головой. Из глубины сознания донесся неясный голос.
«Что там тебе Гуру наплела, мне откровенно глубоко, – проговорила, выдыхая дым со словами старшая по отряду Венера. – Здесь всем заправляю я. Ей её заморочки не помогли, – преставилась, слава богу, – а я могу помочь». «Чем же?» – поинтересовалась Нина. «Добротой своей, чуткостью и вниманием, – откровенно ехидничая, отрыгнула никотиновые слова Венера. – Как мне понравишься, так тебе и будет». – «Вы не мужик, чтоб вам нравиться». – «А ты, сука наркоманская, не борзей. Не посмотрю, что выблядка носишь, мигом на место поставлю…»
2011 г.
От автора
Первые страницы написаны в 2011 году. По ряду объективных и прочих причин работа над окончанием отложилась на неопределённый срок. Сейчас, разбирая старые заготовки, черновики и почти готовые сюжеты, выяснилось, повесть лучше оставить в том виде, как она есть – неоконченной.
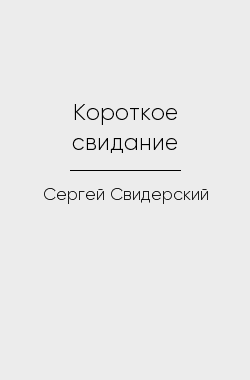





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

