Читать онлайн "Тень Усть-Илги"
Глава: "Глава 1. Изгнание"
Поезд № 002 «Россия» нес капитана Олега Михайловича Куницына прочь от всего, что тот привык именовать жизнью — прочь от суетливой Москвы с ее вечными пробками и смогом, прочь от казенных кабинетов с их запахом табака и канцелярской пыли, прочь от того проклятого выстрела, что все никак не давал покоя ни днем, ни ночью.
За окном купе неспешно проплывала матушка-Россия во всем своем необъятном великолепии. Сперва мелькали подмосковные дачи с их аккуратными грядками и теплицами из поликарбоната, затем показались первые настоящие леса — березовые рощи, где каждое дерево стояло словно девица в белом сарафане, кокетливо помахивая зелеными косынками листвы. Дальше пошли сосновые боры, строгие и торжественные, как полки гвардейцев в парадном строю. А потом и вовсе началась тайга — бескрайняя, дикая, первозданная.
Четвертые сутки в пути. Время, более чем достаточное, чтобы переосмыслить все злоключения последних месяцев, однако мысли капитана все вязли в одной точке. Выстрел. Крик. Падающее навзничь тело Рустама — наследника известного в Москве вора в законе Фарруха Мамедова. И лица коллег, что глядели на капитана Куницына с тем особенным выражением, в котором странным образом смешивались сочувствие и осуждение.
«Не подчинился законным требованиям сотрудника полиции», — было записано в рапорте. «Применил табельное оружие в рамках должностных полномочий». Все правильно, все по закону, все по инструкции. Но семейство покойного было на сей счет иного мнения. Угрозы посыпались уже на следующий день, — сперва на мобильный, затем на домашний, а после даже на работу к бывшей супруге. Капитан Куницын стал персоной неудобной, а неудобных в московской полиции имели обыкновение отправлять подальше от греха — туда, где грех этот не мог достать своими длинными руками и где можно было переждать, пока страсти не улягутся.
— Иркутская область, село Усть-Илга, — проговорил подполковник Скворцов, не поднимая глаз от бумаг. — Обнаружено тело ребенка, предположительно убийство. Местным требуется помощь в расследовании. Так что, едешь в командировку.
Село Усть-Илга. Олег даже не сразу нашел его на карте. Точка на берегу Лены, в двадцати трех километрах от райцентра Жигалово, который сам по себе был концом света. Населения меньше ста шестидесяти человек. Транспорт — раз в день, и то — если повезет с погодой. Мобильная связь — через раз. Интернет — по праздникам.
Словом, идеальное место для изгнания.
Поезд между тем все катил и катил по бескрайним просторам. За Уралом пейзаж сделался еще более диким и величественным. Широкие реки извивались меж холмов, отражая в своих водах облака, что плыли в небесной синеве, точно белоснежные корабли. Леса тянулись до самого горизонта сплошной зеленой стеной, и лишь изредка эту стену прорезала просека или железнодорожная ветка, убегающая в горизонт.
Станции попадались все реже, и названия их звучали все более экзотично: Тайшет, Тулун, Куйтун. После Куйтуна объявили станцию с удивительным названием Зима, и Олег заинтересовался, решив поискать информацию о ней в интернете.
В Иркутске — городе, который поразил его купеческими особняками и широкими улицами — Куницын пересел на маршрутку до Жигалово. Водитель — мужик лет пятидесяти с обветренным лицом и руками, пропахшими соляркой, окинул столичного гостя любопытным взглядом — чистая куртка, городская обувь, небольшой чемодан.
— В Усть-Илгу? По делам?
— По работе, — коротко ответил Олег.
— А, так ты из органов, — водитель выплюнул соломинку в окно. — Из-за пропавших журналистов что ли?
— А что, у вас журналисты пропали?
— Да. Совсем недавно. Поздно вечером возвращались в райцентр, да не туда свернули. Машина сломалась, так эти «умники» решили идти пешком. А чтобы побыстрее — через лес срезать. Ну и заблудились, конечно. До сих пор не нашли… да и не найдут уже, я думаю.
До Жигалово ехали почти шесть часов по дороге, что являла собою образчик всех мыслимых инженерных решений — тут асфальт чередовался с гравием, гравий с грунтовкой, а грунтовка с грязевой колеей, где колеса маршрутки то и дело проваливались в ямы. Олег поначалу пытался любоваться пейзажем, но вскоре все внимание его сосредоточилось на том, дабы удержаться на сиденье и не расшибить себе голову о крышу маршрутки.
И все же виды за окном были поистине впечатляющие. Бескрайняя тайга, разрезанная величественной рекой Леной, перемежалась открытыми степными пространствами, где еще виднелись покосившиеся избы. Деревеньки попадались редко, и все они выглядели так, словно время остановилось в них лет пятьдесят назад. Дома рубленые, крыши из листового железа, заборы из штакетника, палисадники с мальвами и подсолнухами. И надо всем этим великолепием — небо, высокое и чистое.
— Край красивый, — заметил Олег, когда маршрутка ненадолго остановилась.
— Красивый, — согласился водитель, но в голосе его не слышалось особой радости. — Только пустеет помаленьку. Молодежь в города уезжает, старики помирают. Скоро останутся одни волки да медведи.
— А что, работы совсем никакой нет?
— Да какая работа? Колхозы развалили, заводишки позакрывали. Лес только рубят, да нефть качают. А что местным? Огород, живность своя, рыбалка да охота. Кому этого мало — тот и уезжает.
— Жаль.
— Жаль-то жаль, да что поделаешь? Жизнь такая. Прогресс.
И правда, следующие две деревни, мимо которых они проехали, выглядели почти вымершими. Полуразрушенные дома, заброшенные огороды, заколоченные окна. Сирень и черемуха пробивались сквозь развалины, березки росли посреди дворов, на крышах зеленели мох и трава.
— Вот деревня Куницына, — сказал обернувшись водитель.
— Что, простите? — встрепенулся Олег услышав свою фамилию.
— Говорю — деревня эта называется Куницына. Уже тридцать лет как заброшена.
Капитан невольно поежился — он не был суеверным, но сама символичность его несколько удивила. Потому что сам себя чувствовал одиноким, ненужным... заброшенным.
В Жигалово его должен был встретить местный полицейский. Но на автостанции — сарае советских времен с облупившейся краской и вывеской «Касса» — никого не было. Олег походил вокруг здания, покурил, уже собирался звонить в Москву, когда к нему подошел молодой мужчина в штатском.
Азиатские черты лица, но не китайские и не монгольские. Что-то свое, северное. Спокойные темные глаза и странная полуулыбка, которая не сходила с губ.
— Иван Алексеевич Нестеров, — представился он, протягивая руку. — Старший лейтенант. Перевелся сюда из Иркутска. Якут, если вдруг интересно.
Рукопожатие было крепким, но в голосе звучала какая-то ирония, которая сразу показалась Олегу неуместной.
— Куницын. Что с машиной?
— А машина есть, — Нестеров кивнул на стоящий рядом потрепанный УАЗ. — До Усть-Илги ехать еще полчаса, но дорога очень так себе. Готовы?
— А выбора нет.
— Выбор всегда есть, — философски заметил Иван. — Можно развернуться и уехать обратно.
— Не смешно.
— А я и не шучу.
УАЗ заводился минут пять, чихал, кашлял, наконец согласился ехать. Иван вел спокойно и уверенно, не обращая внимания на ямы и колдобины, будто всю жизнь не делал ничего, кроме как ездил по подобным дорогам. С лица его не сходила полуулыбка, которая уже начинала раздражать Олега.
— Расскажите про мальчика, — сказал капитан, вытирая пот со лба. В машине было душно, а кондиционера, естественно, не наблюдалось.
— Обнаружили три дня назад, — отвечал Иван, не поворачивая головы. — Лет восьми-десяти, местные утверждают — не их. Тело в свинарнике лежит сейчас, в холодильнике. Морга в селе нет, а жара была... пришлось туда отвезти.
— Причина смерти?
— Пока неясна. Видимых повреждений нет, следов насилия — тоже. Просто лежал в лесу.
— Как выглядит? Во что был одет?
— Да обычный… тощий. Одежда старая, но не рваная. Но сам мальчик чистый и ухоженный.
— Кто обнаружил тело?
— Егор Николаевич Смолин. Живет в Молодежном — это заброшенный поселок километрах в пяти от Усть-Илги. Собирал ягоды в лесу и наткнулся на ребенка возле старых эвенкийских камней.
Капитан записывал в блокнот, но мысли его уходили в сторону. Что он, в сущности, делает в этой глуши? К чему ему разбираться с каким-то мертвым ребенком, когда следовало бы находиться в Москве и заниматься висящими делами? И зачем ему этот вечно улыбающийся якут, который рассказывает об убийстве так, словно обсуждает погоду?
— Эвенкийские камни? — переспросил он.
— Обереги, — пояснил Иван. — Старые. Еще до прихода русских ставили. От злых духов вроде как.
В его голосе не было ни насмешки, ни суеверного страха. Он говорил об оберегах буднично и спокойно.
— Кстати, — произнес Олег, как бы между прочим, — а что за история с пропавшими журналистами? Кажется, из Москвы приезжали?
Лицо Ивана слегка помрачнело, а полуулыбка на мгновение исчезла.
— А, это дело... — протянул он неохотно. — В прошлом месяце было. Двое из столицы приехали, с телеканала «Культура». Программу какую-то снимали про умирающие деревни.
— И что с ними случилось?
— Да кто ж его знает-то... — Иван пожал плечами и крепче сжал руль. — Поехали в заброшенный лагерь в Молодежном, хотели заснять руины для истории. Машину их нашли, камеру, а самих — как корова языком слизала.
— МЧС искало?
— Конечно, искало. Неделю прочесывали все вокруг, собак пригоняли, водолазов на реку, — Иван качнул головой с видом человека, повидавшего разное.
— А версии какие выдвигались?
— Да всякие. От несчастного случая до... ну, понимаете, народ у нас суеверный. Особенно про те места, где лагерь стоит, — он помолчал, словно взвешивая, стоит ли продолжать. — Говорят, что в той зоне и раньше люди пропадали. Сначала зэки, потом пионеры... А теперь вот журналисты.
Олег почувствовал, как по спине пробежал холодок. Что-то в тоне Ивана, в его осторожности при выборе слов говорило о том, что местные жители знают больше, чем готовы рассказать официальным лицам.
— Дело закрыли?
— Как закрыли... — Иван усмехнулся, но без веселья. — Числятся без вести пропавшими. Родственники из Москвы приезжали, скандал устроили, но что толку? Нет людей — и нет. Поиски свернули, материалы в архив сдали.
— А вы лично что думаете?
Иван долго молчал, лавируя между особенно глубокими ямами. Наконец произнес тихо, словно опасаясь, что кто-то может подслушать:
— Знаете, товарищ капитан, у нас тут места... особые. Дед мой, царство ему небесное, говаривал: есть на земле точки, где время течет не так, как положено. Где прошлое и настоящее перемешиваются, как река с притоком, — он бросил быстрый взгляд на Олега. — Может, чепуха это, а может, и нет. Но факт остается фактом — люди пропадают.
Некоторое время ехали молча.
— Так, а сейчас держитесь крепче, — сказал Иван, сбавляя ход. — Сейчас «Ваучер» проезжать будем.
— Что? Какой еще ваучер?
— А вот этот спуск, — Нестеров лукаво прищурился, указывая на круто уходящую вниз дорогу, которая терялась где-то в зарослях ольшаника. — Местная достопримечательность. История у него занятная — когда здесь американские специалисты из «Петролиума» работали, везли их тут как-то на внедорожнике. Так водила, видать, скорость не рассчитал... Они в эту черную ямищу так шваркнулись, что у них дух из груди вышибло. И давай орать на весь лес, кто от страха, а кто от восторга: «Вау! Вау!». Ну, а местные мужики, что их сопровождали, услышали это дело, да только на свой лад переиначили. Понравилось им словечко, крепкое, звучное. С тех пор так все это место и зовется — «Ваучер».
Действительно, спуск оказался крутым и извилистым. УАЗ осторожно спускался по серпантину меж высоких сосен, а внизу, в глубокой лощине, поблескивала вода — то ли ручей, то ли небольшая речушка.
А дальше дорога пошла вдоль реки, и здесь пейзаж сделался особенно живописным. Лена, одна из величайших рек мира, текла меж невысоких берегов. Вода была удивительно прозрачной, и на дне виднелись разноцветные камешки. По берегам росли огромные кедры, возраст которых, вероятно, исчислялся столетиями, а меж ними жались к земле кусты калины, жимолости и боярышника.
Минут через десять они въехали в Усть-Илгу.
Село встретило капитана Куницына тишиной и запахом застоявшегося воздуха, в котором странным образом смешивались ароматы скошенного сена, речной свежести и чего-то еще — едкого и не очень приятного. Дома тянулись вдоль одной из улиц — старые, рубленые из добротного леса, некоторые с заколоченными окнами и проваливающимися крышами. Но даже в запустении они сохраняли особое достоинство, свойственное сибирскому зодчеству.
На крыльце одного из домов сидела старуха в цветастом платке и смотрела на приезжих с нескрываемым любопытством. Лицо у нее было морщинистое, как печеное яблоко, но глаза живые, пытливые. Она проводила машину взглядом, в котором читалось нечто большее, нежели простое любопытство. Что-то настороженное, почти враждебное.
Словно незваный гость принес с собой беду.
За домами, в отдалении, виднелись покосившиеся сараи и амбары, а надо всем этим великолепием возвышались купола заброшенной церкви.
— Приехали, — сказал Иван, заглушив двигатель. — Добро пожаловать в Усть-Илгу, капитан Куницын.
Полуулыбка никуда не делась.
Олег вышел из машины и огляделся. Тишина была абсолютной — не слышно было ни голосов, ни лая собак, ни шума какой-либо техники. Лишь где-то вдалеке стучал дятел да шумели кроны вековых кедров на легком ветерке.
— Где остановлюсь? — спросил капитан.
— В доме культуры есть комната для приезжих, — отвечал Иван, доставая из машины чемодан. — Правда, зимой там не топят, но сейчас июнь, так что переночевать можно. А завтра утром посмотрите тело и познакомитесь с местными.
Куницын кивнул и пошел следом за лейтенантом по пустынной улице.
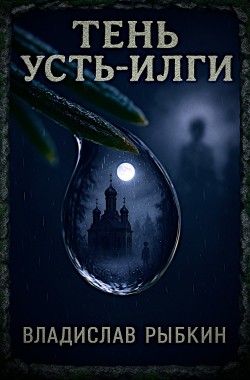







 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

