Читать онлайн "Франция. Века и люди."
Глава: "Глава 1"
Главы к историческому путеводителю: Е.Ю. Раскина, М.Кожемякин. «Франция. Страна королей и пяти республик».
Исторические прототипы мушкетеров Александра Дюма.
Наиболее известными из телохранителей западноевропейских монархов начала Нового времени, несомненно, являются мушкетеры Военного дома короля Франции (Mousquetaires de la maison militaire du Roi). Эти отважные и расфранченные дворяне-гвардейцы заслужили поистине всемирную известность не в последнюю очередь благодаря роману Александра Дюма-старшего "Три мушкетера". И хотя сам прославленный французский романист не раз утверждал, что "наращивает плоть собственной фантазии на костяк истории", создавая свою великолепную четверку - Атоса, Портоса, Арамиса и д'Артаньяна, он использовал черты четырех реальных исторических персонажей. Кроме того, старинная боевая и придворная слава роты королевских мушкетеров XVII-XVIII вв. возродилась в новом и более постоянном образе - в качестве славы литературной.
Популярность этого элитного подразделения не раз заставляла военных историков обращаться к его созданию и боевому пути. Среди отечественных авторов наиболее подробные и информативные работы на эту тему созданы И.А.Голыженковым ("Роты мушкетеров Мэзон дю Руа", Библиотека ВИК ?30, М., 1989) и Е.В.Глаголевой ("Повседневная жизнь королевских мушкетеров", М., 2008). Не претендуя на энциклопедизм вышеуказанных трудов, следовало бы начать рассказ об исторических прототипах мушкетеров Дюма с краткой истории создания и развития элитного придворного подразделения, служба в котором стала для них жизненным кредо.
Рота королевских мушкетеров являлась частью так называемого Военного дома короля Франции, ведущего свою историю от ближней дружины франкских королей раннего средневековья. К началу XVII в., т.е. к отправной точке в истории королевских мушкетеров, Военный дом короля сочетал функции личной охраны особ царствующего дома и собственно гвардии в современном понимании этого слова - элитных привилегированных воинских частей. Отряды Военного дома в середине XVII в. подразделялись на "Стражу внутри Лувра" (Garde du dedans du Louvre), несшую охрану резиденции короля и непосредственно королевских покоев, и "Стражу вне Лувра" (Garde du dehors du Louvre), охранявшую монарха и двор "на выездах" и во время военных походов. К первой части принадлежал комплектовавшийся исключительно представителями лучших дворянских домов корпус Личной стражи (Garde du Corps, одна шотландская и три французских роты, созданы в 1440 - 1515 гг.) и отборная пешая швейцарская рота, так называемые "Сто швейцарцев" (Сent Suisses, создана в 1480 г.). Вторая часть состояла из роты тяжеловооруженных конных гвардейских жандармов (Gendarmes de la Garde, создана в 1609 г.), роты "шеволежеров", т.е. легкой конницы (Chevau-l;gers, создана в 1593 г.), собственно королевских мушкетеров и двух гвардейских пехотных полков - Французской гвардии (Gardes Fran;aises, создан в 1563 г.) и Швейцарской гвардии (Gardes Suisses, создан в 1616 г.). Практическое применение "Стражи в Лувре" и "Стражи вне Лувра" далеко не всегда соответствовало номинальному: к примеру, всадники Личной стражи в тяжелом вооружении сопровождали короля Франции на полях сражений (особенно до появления "специализированных" жандармов и мушкетеров), а караулы гвардейских полков несли службу в Лувре.
Мушкетерская рота (вернее, рота, впоследствии ставшая мушкетерской) была создана в 1600 г. королем Генрихом IV, первым Бурбоном на французском престоле, знаменитым "добрым королем Анри" (Bon Roi), прославившимся среди своих подданных не только как умный реформатор и удачливый полководец, но и как большой любитель "весело пожить". Так вот, "старый повеса Анри" (Le Vert Galant), всегда обходившийся без эскорта во время своих амурных похождений на узких парижских улицах, здраво полагал, что на поле сражения дополнительная охрана монарху не помешает. Поэтому, в дополнение к надежным, но недостаточно мобильным латникам из Личной стражи и проворным, но привыкшим драться преимущественно холодным оружием "шеволежерам", он создал роту карабинеров, вооруженных облегченными ружьями, из которых было удобно вести огонь с седла. В 1622 г. сын "доброго короля Анри", Людовик XIII, отдал приказ перевооружить карабинеров более дальнобойными мушкетами и переформировать их в роту мушкетеров Военного дома короля.
Мушкетерам надлежало сопровождать кортеж короля при выездах, следуя в конном строю в колонне по двое впереди всей остальной охраны. Небольшие мушкетерские караулы выделялись к королевским покоям в Лувре в порядке очередности с другими частями Военного дома. В военном лагере палатки мушкетеров разбивались по обе стороны от королевского шатра, причем даже свободные от караула солдаты этой элитной роты имели право отдыхать в них только держа под рукой обнаженную шпагу и заряженный мушкет. В случае, если король находился непосредственно в боевых порядках своих войск в ходе битвы, рота мушкетеров охраняла его особу в полном составе, или выделив отряд для участия в боевых действиях, по высочайшему усмотрению. Часть мушкетеров могла быть направлена в действующую армию в составе отдельного подразделения или сводного гвардейского отряда и в том случае, если король не находился при ней. Вплоть до последней трети XVII в. (война за испанское наследство) мушкетеры оставались классической "ездящей пехотой". Сражались они, как правило, в пешем строю, а боевые задачи по охране боевых порядков армии или сопровождению важных особ выполняли в конном строю. По старшинству части мушкетеры считались ниже Личной стражи короля и жандармов, однако наравне с "шеволежерами" и значительно выше пеших французских и швейцарских гвардейцев.
Рота мушкетеров комплектовалась исключительно дворянами, причем как французами, так и иностранными искателями приключений и славы. Известно, например, что некоторое время в королевских мушкетерах прослужил будущий польский король и выдающийся военачальник Ян Собеский (1629-1696). В 1620-х гг. штаты роты были определены в 100 рядовых мушкетеров, 1 капитана (командира роты), 1 лейтенанта (его заместителя), 1 корнета и 2 "маршалов-де-лож", т.е. сержантов. До 1629 г. должность капитана роты мушкетеров занимал "по совместительству" капитан-лейтенант (второй командир) роты "шеволежеров" Жан де Берар де Монтале, а затем король назначил его собственно капитаном мушкетеров. 3 октября 1634 г. традиция командования ротой оформилась окончательно: Людовик XIII принял чин почетного капитана мушкетеров, а реальный командир роты получил звание капитан-лейтенанта. С этой даты многолетним командиром и "полевым отцом" мушкетеров стал гасконский дворянин Жан-Арман де Пейре граф де Тревиль, отличный солдат и ловкий царедворец.
Вооружение "буйной паствы де Тревиля" в это время состояло из мушкета с сошкой, шпаги для действий в пешем строю и палаша для конного строя, пары пистолетов, различных видов кинжалов (как правило, "дага" - кинжал для левой руки, применялся при фехтовании одновременно со шпагой). Снаряжение для стрельбы - деревянные "натруски" с пороховыми зарядами для одного выстрела, пороховница, мешочек с пулями и фитили - крепились на плечевой перевязи из буйволовой кожи. В конном строю мушкетерам с 1634 г. полагалось выступать на серых кавалерийских конях, в обязательном порядке - на жеребцах. Униформа мушкетеров представляла собой знаменитый короткий плащ лазоревого (голубого) цвета, украшенный серебряным галуном и нашитыми спереди, сзади и на боковых лопастях белыми крестами. На концах эти кресты имели золотые изображения геральдических лилий французских Бурбонов, а у перекрестья - алые трилистники, один из католических символов. Небезынтересно, что покрой мушкетерского плаща именовался "казачьим" - "a la casaque". Европейские воины XVII в. хорошо знали этих прославленных конников не только по армии Речи Посполитой, но и по их службе наемниками в некоторых европейских государствах (в частности, в армии герцога Валленштейна во время Тридцатилетней войны сражалось более 2 тыс. запорожцев, на французской службе тогда же находился полк из 2400 казаков). Трепетное отношение королевских мушкетеров к своим плащам, являвшимся для них символом их подразделения, широко известно. Однако изучение полотен французских баталистов XVII в., на которых запечатлены мушкетеры в бою, дает основание полагать, что, сражаясь в пешем строю, они снимали затруднявшие движения плащи. Помимо плаща, никаких обязательных предметов обмундирования вплоть до 1673 г. не было, и мушкетеры носили обычное для дворян того времени военное или придворное платье. Современники свидетельствуют, что король Людовик XIII мог отдать им приказ быть на определенной церемонии или смотре, например, в черном бархате или в кожаных колетах.
Вооружение (за исключением выдававшегося из королевских арсеналов мушкета), снаряжение и коня мушкетеры должны были приобретать за свои деньги. Для небогатых дворян все это было накладно, и во времена капитанства де Тревиля и его "наследника" д'Артаньяна в роте существовала своего рода "касса мушкетерской взаимопомощи", в которую более состоятельные товарищи делали добровольные взносы, и, кроме того, всеми отчислялся обязательный "налог" с выигрышей в азартные игры. Аренда квартиры (собственной казармы у мушкетеров не было до 1660-х гг.) и наем слуги также относились к статье личных расходов. Кстати, мушкетерские слуги заслуживают особого упоминания. На самом деле это были не хитрые пройдохи или глуповатые увальни, как выведенные Александром Дюма господа Планше, Гримо, Мушкетон и Базен, а вышколенные представители замкнутого сословия так называемых "военных слуг". Оно существовало в Европе со времен средневековья, следовало в иерархии феодального войска за благородными оруженосцами и рекрутировалось преимущественно из бывалых отставных солдат. Их главная задача заключалась отнюдь не в том, чтобы постирать хозяину рубашку или сварить суп, а в поддержании в идеальном состоянии его оружия, снаряжения и боевого коня. В бою вооруженные слуги следовали за "патроном", держа наготове его запасное оружие и всегда готовые прикрыть ему спину, что фактически удваивало число бойцов мушкетерской роты.
Получившие боевое крещение при отражении английского десанта на острове Рэ во время англо-французской войны 1627-29 гг. (на фоне религиозных войн между католиками и гугенотами во Франции), королевские мушкетеры участвовали в большинстве войн Франции XVII в. Исключение составляют, пожалуй, несколько последних кампаний Тридцатилетней войны в 1640-х гг., когда они оставались в Париже при особе малолетнего короля Людовика XIV, и, в частности, пропустили харизматическую для французской военной истории битву при Рокруа (1643 г.), а в 1646-57 гг. и вовсе были временно распущены. Мушкетеры стяжали славу отчаянно храбрых и неунывающих вояк, и расшитый мушкетерский плащ являлся предметом честолюбивых мечтаний многих молодых французских дворян, служивших в армейских и даже в пеших гвардейских полках. Немудрено, что гвардейцы этой прославленной роты были любимцами придворных дам и парижской публики.
"Один за всех, и все за одного", - с этим девизом бесстрашные королевские мушкетеры, а вернее - герои самого знаменитого романа Александра Дюма "Три мушкетера", бряцая шпагами, балагуря и распевая песни, много лет назад вошли и в наши квартиры - прямо с телеэкрана, из стремительно ставшего всенародно любимым сериала Георгия Юнгвальд-Хилькевича. С тех пор образы Атоса, Портоса, Арамиса и д'Артаньяна прочно связаны для нас с лицами замечательных актеров, сыгравших в этом фильме роли отважной четверки - Вениамина Смехова, Валентина Смирнитского, Игоря Старыгина и, конечно же, Михаила Боярского. Все они были очень талантливы, чертовски обаятельны в своих роскошных мушкетерских плащах, еще так молоды и с явным удовольствием жили на экране жизнью своих героев. Тем не менее, первую "команду" в современном понимании этого слова со времен аргонавтов великолепная четверка мушкетеров составляла только на страницах романа или на телеэкране. Исторические прототипы героев Дюма прожили четыре совершенно различных жизни...
Атосу, самому старшему, умудренному опытом и таинственному из четверых героев романа, дал имя человек, проживший всего 28 лет и погибший, как истинный мушкетер, со шпагой в руке. Прототипом Атоса является мушкетёр Арман де Силлег д"Атос д"Отевьель (Дотюбьель), родившийся в коммуне Атос-Аспис близ испанской границы. По иронии судьбы, родителями прототипа высокородного графа де ля Фер - Атоса не были потомственные дворяне. Его отец происходил из купеческого рода, получившего дворянство, а мать, хоть и приходилась двоюродной сестрой капитан-лейтенанту королевских мушкетеров гасконцу де Тревилю, была дочерью буржуа - уважаемого торговца и выборного присяжного заседателя. Подлинный Атос смолоду служил в армии, однако счастье улыбнулось ему только в 1641 г., когда он смог пробиться в ряды элиты королевской гвардии - стал рядовым роты мушкетеров. Вероятно, не последнюю роль здесь сыграли родственные связи: де Тревиль, как-никак, был троюродным дядей реального Атоса. Впрочем, кого попало в личную охрану короля не брали даже при наличии "мохнатой гасконской лапы": молодой человек слыл храбрецом, хорошим солдатом и носил мушкетерский плащ вполне заслуженно.
22 декабря 1643 г. близ парижского рынка Прэ-о-Клер произошла роковая для Атоса схватка между королевскими мушкетерами и гвардейцами кардинала, или вернее, мушкетерами гвардейской роты кардинала, созданной по образу и подобию королевской. Парижан подобными историями было не удивить: молодые дворяне, служившие в гвардейских частях, считали чем-то вроде правил хорошего тона отстаивать престиж своего полка в спонтанных лихих потасовках. "Рапиры королевских солдат покидали ножны по любому поводу. Каждый год некоторая часть воинственной молодежи, подхватив болезнь "долга чести", погибала во цвете лет после такого рода встреч", - пишет французский историк Жан-Кристиан Птифис, автор книги "Истинный д"Артаньян". Главный министр Франции кардинал Ришелье, имевший в те годы почти неограниченную полноту власти, попытался решительными мерами запретить дуэли. Однако на деле это сделало "поединки чести" только более ожесточенными: секунданты, следившие за соблюдением дуэльного кодекса, отныне превращались в нежелательных свидетелей и отпали за ненадобностью. Кроме того, между некоторыми родами оружия, как, например, между ближними телохранителями соперничавших за главенство в государстве короля Людовика XIII и кардинала Ришелье, легла настоящая ненависть, взошедшая на крови многочисленных жертв с обеих сторон. Результатом становились новые и новые стычки, по характеру напоминавшие, скорее, драки в салунах Дикого Запада или более знакомые отечественному читателю "криминальные разборки". Впрочем, даже в подобного рода столкновениях существовали своего рода правила, во всяком случае нечто подобное описывает в своих мемуарах видный военный деятель эпохи Людовика XIII Франсуа де Бассомпьер. Так, например, считалось неблагородным добивать прекратившего сопротивление раненого противника, первым применять огнестрельное оружие, нападать группой на одиночного противника (на двоих - уже можно!), в случае "стрелки" с заранее условленным числом участников приводить дополнительных бойцов и т.д. Как и все правила, установленные, чтобы предать взаимному убийству людей "благородный" характер, они регулярно нарушались обеими сторонами.
Стычка у Прэ-о-Клер носила именно такой безжалостный и бесчестный характер. На сей раз "не по понятиям" повели себя гвардейцы Ришелье, всемером подкараулившие одного из лучших бойцов среди королевских мушкетеров - Шарля д"Артаньяна (того самого!), направлявшегося куда-то по своим делам. Первый биограф д"Артаньяна Гасьен де Куртиль де Сандра полагает, что люди кардинала поступили еще подлее, послав вместо себя наемных убийц. Опытный рубака, д"Артаньян оказал отчаянное сопротивление, однако ему пришлось бы несладко, если бы в это время в одном из питейных заведений поблизости не развлекались Атос и его товарищи. Сакраментальная формулировка: "Пацаны, наших бьют!" существовала и в XVII в., хотя, вероятно, звучала она тогда несколько иначе. Мушкетеры, предупрежденные ночным сторожем, случайным свидетелем потасовки, яростно бросились на помощь. Большинство нападавших были убиты или тяжело ранены на месте, остальные обратились в бегство. В схватке получил смертельную рану и один мушкетер - наш Атос. Он был похоронен на кладбище парижской церкви Сен-Сюльпис, в регистрационных книгах которой сохранилась запись о "препровождении к месту захоронения и погребении преставившегося Армана Атоса Дотюбьеля, мушкетера королевской гвардии". Существует история, согласно которой д"Артаньян когда-то спас жизнь Атосу во время одной из уличных схваток, и Атос сполна вернул ему долг чести, отдав свою за спасение д"Артаньяна.
Считается, что Александр Дюма наделил каждого из своих мушкетеров чертами кого-то из близких ему людей. Так вот, в Атосе - графе де ла Фер из романа современники опознали первого соавтора и наставника Дюма, литератора Адольфа Левена, по происхождению действительно шведского графа. Сдержанный и холодноватый в общении, подобно Атосу, Левен был для Дюма надежным и преданным другом, воспитателем его сына. Добавим, что при этом Левен был известен в кругах парижской богемы как большой любитель выпить - еще одна черта знаменитого мушкетера.
Прототип добродушного обжоры и наивного силача Портоса, старый вояка Исаак де Порто, происходил из рода беарнских дворян-протестантов. Бытует мнение, что его дед Авраам Порто, поставщик птицы ко двору короля Генриха Наваррского, заслуживший придворный титул "офицера кухни", был принявшим протестантизм евреем и бежал в либеральную Наварру из католической Португалии, где на его братьев по вере и по крови происходили жестокие гонения. В частности, такой версии придерживался израильский писатель Даниил Клугер (кстати, выходец из Крыма), посвятивший Портосу приключенческий роман "Мушкетер". Родившийся, вероятно, в 1617 г., в поместье Ланне в долине реки Вер, Исаак де Порто был в семье младшим из троих сыновей. Следовательно, он имел менее всего шансов рассчитывать на наследство. Карьера военного являлась для него самой близкой "дорогой в свет", и он ступил на нее в шестнадцати- или семнадцатилетнем возрасте. В 1642 г. он фигурирует в реестре чинов полка Французской гвардии Военного дома короля как гвардеец роты капитана Александра дез Эссара, той самой, в которой, согласно фабуле "Трех мушкетеров" начинал службу д"Артаньян.
Относительно перевода подлинного Портоса в ряды королевских мушкетеров существуют различные мнения. Жан-Кристиан Птифис, автор книги "Истинный д"Артаньян", считает, что "о его вступлении в мушкетеры ничего не известно, и можно задать себе вопрос, вступал ли он вообще в эту роту". Тем не менее, гвардейцы дез Эссара традиционно поддерживали с мушкетерами приятельские отношения, и это подразделение рассматривалось как источник потенциальных кандидатов в ближние телохранители короля.
Исаак де Порто много и храбро воевал. В частности, он был участником знаменитого сражения при Рокруа 1643 г., в котором принц Конде нанес поражение испанцам. Разумеется, там он дрался в рядах полка Французской гвардии, т.к. мушкетеры в этой кампании не участвовали. Полученные им в сражениях раны давали себя знать, и он вынужден был покинуть активную службу и блестящий Париж. Вернувшись на родину, прототип Портоса после 1650 г. занимал гарнизонную должность хранителя боеприпасов гвардии в крепости Наварранс и продолжал служить Франции. То обстоятельство, что подобные посты обычно занимали проверенные, но утратившие годность к строевой службе по состоянию здоровья офицеры косвенно свидетельствует и о боевых заслугах потомка безвестного португальского еврея, и о тяжелых последствиях полученных им ранений. Впоследствии он также исполнял обязанности секретаря провинциальных штатов (парламента) в Беарне: в отличие от своего литературного прототипа, Исаак де Порто был неплохо образован. Прожив долгую и честную жизнь, реальный Портос скончался в уже начале XVIII в., оставив на своей малой родине скромную память заслуженного ветерана и хорошего человека. Его надгробие в часовне Сен-Сакреман церкви Св.Мартина в южнофранцузском городе По сохранилось по сей день. В образе Портоса Александр Дюма с легкой иронией и подлинным уважением вывел многие черты своего отца, боевого генерала эпохи Наполеоновских войн, прославившегося не только большой физической силой и военными подвигами, но также щепетильным отношением к вопросам чести и веселым нравом.
Утонченный щеголь Арамис, которого равно занимали вопросы богословия и моды, был написан Александром Дюма с реально существовавшего мушкетера Анри д"Арамица. Также уроженец Беарна, он принадлежал к старинному дворянскому роду, поддерживавшему гугенотов. Его дед прославился во время религиозных войн во Франции, отважно сражаясь против короля и католиков, и был произведен в капитаны. Однако отец реального Арамиса, Шарль д"Арамиц, "завязал" с мятежными и протестантскими традициями семьи, приехал в Париж, принял католицизм и поступил на службу в роту королевских мушкетеров. Он дослужился до чина "маршала де ложи", звучащего для иностранного читателя очень громко, однако, соответствовавшего всего лишь армейскому сержанту. Так что родившийся около 1620 г. и выросший в семье мушкетера, Анри был, можно сказать, наследственным телохранителем короля. Набожность этого персонажа отнюдь не является вымышленной чертой. Подобно многим новообращенным, отец Арамиса был ревностным католиком и после увольнения из гвардии избрал стезю церковного служения, став светским аббатом (управляющим делами аббатства, не имевшим духовного звания) в беарнском аббатстве Арамиц. Юный Анри был воспитан в католическом духе, и, насколько известно, действительно смолоду увлекался вопросами богословия и религиозной философии. Впрочем, не с меньшим рвением овладевал он фехтованием, верховой ездой и тому подобными рыцарскими искусствами, и к двадцати годам уже считался у себя на малой родине мастером клинка.
В 1640 или 1641 г. капитан-лейтенант мушкетеров де Тревиль, стремившийся укомплектовать свою роту земляками-гасконцами и беарнцами, связанными с ним и друг с другом родственными или соседскими узами, пригласил приходившегося ему кузеном молодого Анри д"Арамица на службу. В гвардии прототип Арамиса прослужил, вероятно, около семи или восьми лет, после чего вернулся на родину, женился на девице Жанне Беарн-Боннас из хорошего дворянского семейства и стал отцом троих детей. После смерти своего отца он вступил в сан светского аббата аббатства Арамиц и занимал его всю оставшуюся жизнь.
Неизвестно, насколько увлекали реального Арамиса вопросы изменчивой моды и изящной словесности, равно как и политика, однако к вопросам чести он относился крайне щепетильно. Известно, что в апреле 1654 г. он вновь отправился в Париж, чтобы "защитить свое доброе имя", вероятно, от придворных клеветников. Тогда, не будучи уверен, что вернется живым, он составил по этому поводу завещание. Однако, по-видимому, удача способствовала ему, и через два года он вернулся в Беарн и вновь предался служению светского аббата и мирным обязанностям мужа и отца. Скончался Анри д"Арамиц в 1674 г. в окружении любящей семьи и многочисленных друзей.
Александр Дюма наделил литературного Арамиса некоторыми чертами своего деда, образованного аристократа, известного модника и женолюба. В отличие от безупречно благородного Атоса и добродушного Портоса, Арамис предстает в цикле романов о "великолепной четверке" весьма противоречивым персонажем, не чуждым интриг и коварства. Возможно, писатель так и не смог простить деду незаконнорожденного статуса своего отца, сына темнокожей красотки-горничной с Гаити.
И, конечно же, отдельного рассказа заслуживает блистательный и отважный д"Артаньян, самый молодой из четверки, сделавший, как и его исторический прототип, головокружительную карьеру на поле чести и при королевском дворе. Жизнь и подвиги реального Шарля Ожье де Бац де Кастельмор (позднее д"Артаньян) известны нам не только по сохранившимся историческим документам, но и по увидевшему свет в 1700 г. биографическому роману "Мемуары д"Артаньяна" французского новеллиста Гасьена де Куртиль де Сандра.
Подлинный д"Артаньян родился в 1611 г. в замке Кастельмор в Гаскони. Происхождение будущего мушкетера было в эпоху верховенства дворянских титулов более чем сомнительным: его дед был мещанином, присвоившим себе дворянство после женитьбы на дворянке. Учитывая, что аристократические титулы во Французском королевстве не передавались по женской линии, можно сказать, что наш герой был самозваным дворянином, или не был дворянином вообще. Именно потому с юных лет он должен был научиться защищать свое место под солнцем со шпагой в руках, компенсируя безрассудной храбростью и гордым нравом недостаток "голубой крови". Около 1630 г. молодой человек отправился покорять Париж, где был принят на службу кадетом (рядовым-дворянином) в полк Французской гвардии, в уже упоминавшуюся выше роту капитана дез Эссара. В память о военных заслугах его отца король Людовик XIII повелел юному гвардейцу именоваться дворянской фамилией его матери д"Артаньян, происходившей из обедневшей ветви старинного графского рода. В 1632 г. отцовские военные заслуги оказали кадету д"Артаньяну еще одну услугу: боевой товарищ отца, капитан-лейтенант мушкетеров де Тревиль, посодействовал его переводу в свою роту. Вся последующая военная карьера д"Артаньяна была так или иначе связана с мушкетерами короля, и именно их он вел в бой много лет спустя, когда у стен Маастрихта его сразила роковая пуля...
Подлинный д"Артаньян, будучи, несомненно, храбрым и исполнительным солдатом, тем не менее, обладал и рядом менее рыцарственных талантов, позволивших его звезде ярко засиять среди современников. В частности, хитрый и практичный гасконец умел ловко выбирать себе покровителей и всегда оказываться на стороне победителя. Несмотря на участие в десятках отчаянных уличных схваток с гвардейцами кардинала, он отнюдь не был безупречно предан королю, а хорошо понимал, на чьей стороне сила. Реальный д"Артаньян был одним из немногих мушкетеров, сумевших снискать покровительство всесильного кардинала Мазарини, главного министра Франции. В результате, когда последний в 1646 г. под столь знакомым отечественному читателю предлогом "сокращения военных расходов" распустил роту королевских мушкетеров, роскошные голубые плащи которых явно мозолили глаза его преосвященству, д"Артаньян отнюдь не попал в опалу. Долгие годы он выполнял при Мазарини обязанности доверенного лица и личного курьера, успешно совмещая с ними службу новому восходящему солнцу Франции - молодому королю Людовику XIV. Преданность смекалистого, готового на все ради исполнения воли своего повелителя и умевшего держать язык за зубами офицера была щедро отмечена чинами, и в 1655 г. он был произведен в капитаны Французской гвардии. Вскоре д"Артаньян стал именовать себя графом, хотя официально этот "самозахват" титула был одобрен королем только после его смерти. Впрочем, дерзкий гасконец мало считался с мнением света и всегда был готов отстаивать свои подлинные или мнимые заслуги на дуэли.
Преданность мушкетерскому братству вновь привела его в роту королевских мушкетеров, воссозданную в 1657 г. (по другим данным - в 1655 г.), где он получил чин лейтенанта, т.е. заместителя фактического командира. Относительно получения д"Артаньяном чина капитан-лейтенанта у историков существуют различные мнения - называют и 1658, и 1667 г. Однако, учитывая, что новый капитан-лейтенант мушкетеров племянник Мазарини герцог Неверский мало внимания уделял делам службы, д"Артаньян был подлинным командиром этой элитной роты. Ее слава и престиж под его надежной рукой засияли еще ярче.
К началу 1660-х гг. произошло значительное увеличение штатов роты - до 250 человек (в военное время ее численность превышала 300 бойцов), были введены и новые офицерские чины: сублейтенант (младший лейтенант) и ансэнь (кандидат-офицер). Для простоты управления подразделением д"Артаньян разделил его на четыре "бригады" (взвода), каждый во главе с бригадиром. Каждую "бригаду", в свою очередь, составляли четыре отделения, каждое под началом суббригадира. Одновременно с ростом штатов рота приобрела новую функцию - военно-учебную. Если ранее в мушкетеры, за редким исключением (например, Арамиц), принимались люди, уже имевшие солидный опыт военной службы, то теперь молодые дворяне из родовитых семей Франции и других европейских стран имели шанс начать свою солдатскую карьеру службой в мушкетерской роте. Постигнув в ней в течение нескольких лет искусство теории и практики военного дела, они имели возможность перевестись в армейские кавалерийские или драгунские полки в чине лейтенантов, а нередко - и капитанов. В то же время костяк мушкетеров, постоянно остававшийся в роте в качестве примера и наставников для молодежи, составляли полсотни испытанных вояк из ее прежнего, еще до роспуска в 1646 г., состава. Они почтительно именовались "стариками", хотя большинству этих "стариков" было меньше сорока лет. Именно из их числа назначались "маршалы де ложи", бригадиры и субригадиры, в то время, как офицерские должности в основном занимали придворные. Король Людовик XIV даровал роте почетные символы - знамя пехотного образца и кавалерийский штандарт (таким образом, подчеркивалась ее двойное назначение: пешее и конное), а также военную музыку - в разное время она состояла из трубача, флейтиста, 5-6 барабанщиков и 3-4 гобоистов в различных комбинациях. Символом роты, запечатленным на ее флагах, стала пылающая граната, летящая из мортиры на город, и девиз: "Quo ruit et lethum" ("Где упадет, там смерть"). Можно предположить, что подобная аллегория была связана с беспримерной отвагой мушкетеров при взятии городов. Мушкетеры обзавелись собственной благоустроенной казармой - так называемым "Отелем мушкетеров" на улице Бак в Сен-Жерменском поместье Парижа. Впрочем, многие чины роты предпочитали продолжать нанимать "вольные" квартиры, а в казармы являлись только на время службы. Обросла рота и разного рода нестроевыми чинами - казначеем, священником, врачом, аптекарем, шорником, оружейником и т.д.
1660 г. стал знаменательным годом в истории королевских мушкетеров. Произошло событие, которое ранее показалось бы каждому из них абсурдом: их непримиримые соперники, гвардейцы кардинала, внезапно превратились в... мушкетеров короля! По случаю бракосочетания Людовика XIV, кардинал Мазарини "подарил" ему мушкетерскую роту своей гвардии, ставшую 2-й ротой мушкетеров Военного дома короля (переформирование по штатам 1-й роты закончено к 1665 г.). Завсегдатаям уличных схваток пришлось забыть о давней вражде, принимая вчерашних недругов как товарищей по оружию. Однако соперничество между обеими ротами продолжалось, приняв несколько другие формы. Мушкетеры 2-й роты, сохранили опеку могущественного Мазарини и, кроме того, пользовались покровительством влиятельного главного королевского интенданта Жана-Батиста Кольбера, брат которого был их капитан-лейтенантом. Они тяготились презрительным прозвищем "малых мушкетеров" (Petites Mousquetaires) в сравнении с "большими", или даже "великими" мушкетерами (Grandes Mousquetaires) 1-й роты. Многие из "малых" принадлежали к богатым дворянским фамилиям старой Франции, и они подчеркивали свое превосходство над "стариками", бедными выходцами из Гаскони и Беарна, роскошным платьем, дорогим оружием и чистокровными верховыми лошадьми. Огромные вороные кони 2-й роты мушкетеров, закупленные для них в 1663 г. очень экономным в остальных случаях Мазарини, составляли ее особую гордость и принесли ей новое прозвище, постепенно ставшее названием - "черные мушкетеры" (Mousquetaires noires). "Войну кружев", в отличие от уличной "войны шпаг", новые мушкетеры выиграли вчистую. Гасконцы пытались отвечать ударом на удар, с присущей им изобретательностью создавая импровизированные туалеты в стиле пресловутой перевязи Портоса. С военной точки зрения "удвоение" мушкетерских рот привело к созданию мушкетерского эскадрона, в который отныне сводились обе роты при действиях в конном строю.
В 1661 г. д"Артаньян получил довольно скандальную известность своей неприглядной ролью в аресте министра финансов Николя Фуке, которого мстительный и капризный монарх приревновал к его роскоши и богатству. Тогда бравый лейтенант мушкетеров с сорока своими вооруженными до зубов подчиненными едва не упустил немолодого штатского человека и сумел схватить его только после отчаянной погони по улицам Нанта. Мушкетеры 1-й роты впервые стали предметом злых шуток и едких насмешек неистощимых на иронию французов... Изменчивая Фортуна не всегда сопутствовала д"Артаньяну и на административном поприще. За заслуги в сражениях против испанцев, у которых Людовик XIV оспаривал южнонидерландские земли, король в 1667 г. назначил новопроизведенного капитан-лейтенанта своих мушкетеров и самопровозглашенного графа д"Артаньян губернатором города Лилль, известного не только своими первоклассными тканями, но и вольнолюбием жителей. Найти общий язык с "заносчивыми простолюдинами" из хорошо сплоченных цехов лилльских ткачей д"Артаньяну-губернатору так и не удалось, а все попытки управлять "железной рукой" встречали единодушное и упрямое сопротивление горожан. Подчиненные офицеры гарнизона, тяготившиеся авторитарным стилем командования д"Артаньяна, отчаянно интриговали, чтобы "свалить" непопулярного губернатора и втихаря смеялись над его гасконским акцентом и солдатской привычкой браниться, прозвав "господин Черт Побери". Незадачливый мушкетер был, наверное, несказанно рад, когда в 1672 г. разразилась Франко-голландская война, и ему было позволено "бросить проклятое губернаторство" (как говаривал иной литературный персонаж - Санчо Панса). Из рук короля он получил свой последний воинский чин - звание "полевого маршала", что примерно соответствовало современному генерал-майору. Вместе со своими бесстрашными мушкетерами, сопровождавшими короля на театре боевых действий, д"Артаньян в последний раз окунулся в заставлявший кипеть охладевшую кровь немолодого воина водоворот походов и сражений... Увы, ненадолго. 25 июня 1673 г. под стенами осажденного Маастрихта по приказу одного из "придворных" полководцев, английского герцога Монмута (по другим данным, молодой герцог был здесь не при чем и честно вел людей в бой, а приказ отдал генерал от инфантерии де Монброн) французские гвардейцы предприняли безрассудный маневр и заняли покинутый голландцами равелин (предпольное укрепление), находившийся прямо между двух ключевых крепостных бастионов. Разумеется, при попытке восстанавливать разрушенные валы французские солдаты были обнаружены, попали под убийственный обстрел с городских укреплений, а защитники Маастрихта большими силами пошли на вылазку. Потеряв множество людей, французы были выбиты из равелина. Д'Артаньян ранее категорически противился этому плану: 'Вы рискуете тем, что множество народу погибнет ни за что'. Но, увидев отступление своих, старый воин не выдержал позора и бросился вперед, увлекая за собой боевой отряд своей мушкетерской роты и гренадеров Пикардийского полка. Их пример воодушевил дрогнувших гвардейцев, и они вновь устремились на врага. Закипело жестокое сражение, в котором голландцы были отброшены обратно в город, но при этом погибли 27 мушкетеров, а почти все остальные были переранены. Всего этот бой стоил французам более 450 человек убитыми и ранеными. Д"Артаньяна нашли простертым на окровавленной земле среди тел его погибших солдат. Мушкетная пуля, попавшая ему в голову, прервала эту бурную и исполненную приключений жизнь...
Французская армия искренне оплакивала смерть испытанного генерала. Д"Артаньян умел понимать нужды простых солдат, по мере сил заботился о своих подчиненных и был любим ими. Один из его офицеров сказал позднее: "Лучшего француза трудно найти!" Король же проводил своего верного паладина посмертным словом иного рода: "Я потерял д"Артаньяна, которому в высшей степени доверял и который годился для любой службы". Тело старого воина было предано земле на кладбище небольшой церкви Св. Петра и Павла близ городской стены, к которой он так стремился в своем последнем бою. Сейчас там возвышается бронзовый памятник, запечатлевший сурового офицера в боевых доспехах, властным движением взявшегося за эфес тяжелой шпаги - подлинного д"Артаньяна, а не его литературный прототип, обессмертивший это имя.
После д"Артаньяна остались вдова, Анна Шарлотта Кристина урожденная де Шанлеси, знатная шаролезская дворянка, с которой он прожил 14 лет, и два сына, оба носившие имя Луи и сделавшие впоследствии славную карьеру военных.
"Не исключено, что д'Артаньян был знаком с Атосом , Портосом и Арамисом..., - писал биограф этого выдающегося человека Жан-Кристиан Птифис. - Однако в отличие от того, что написано в романе, их совместные приключения длились недолго; возможно, им хватило времени лишь на то, чтобы нанести тут и там пару хороших ударов шпагой да поразвлекаться в веселых компаниях в кабаках "Юдоли плача" и трактирах возле рынка в Сен-Жерменском предместье". Так или иначе, Атос, Портос, Арамис и д"Артаньян навсегда стали для многих наших соотечественников собирательным образом веселой и отважной Франции, и их запомнят именно так: шагающими плечом к плечу, едущими стремя к стремени или сражающимися спиной к спине. "Один за всех, и все за одного!"
________________________________________Михаил Кожемякин
Л И Т Е Р А Т У Р А:
1. Ж.-К.Птифис. Истинный д'Артаньян. М., 2004.
2. И.А.Голыженков. Роты мушкетеров Мэзон дю Руа. Библиотека ВИК ?30, М., 1989.
3. Е.В.Глаголева. Повседневная жизнь королевских мушкетеров, М., 2008.
4. G. F.Hall. D"Artagnan, the ultimate musketeer. Houghton Mifflin Cie, 1964.
5. J.-C.Petitfils . Louis XIV. Editions Perrin, 2002.
6. K.Maund, P.Nanson. The four musketeers. Editions Tempus, 2005.
7. M. D. Mac Carthy. Soldats du Roi: les arm;es de l'ancien r;gime XVIIe et XVIIIe si;cles: 1610-1789. Les Collections Historiques du Mus;e de l'Arm;e. Tome 4, 1984.
8. Ю. Каштанов. Мушкетеры XVII века. http://history.scps.ru/musket/02.htm
9.
Париж, Дом Инвалидов - королевское "милосердие с честью и пользой".
Романтическая легенда, давно отошедшая в область апокрифов военной истории, гласит: король Франции Людовик XIV (1643 - 1715), известный не только как "Le Roi Soleil" ("Король-солнце"), но и как один из наиболее азартных монархов-воителей своего времени, уже на пике своего могущества путешествовал как-то раз по дорогам своей прекрасной Франции. Монарший взор цепко отметил неприглядную картину, портившую пасторальную идиллию сельского пейзажа: по дороге передвигалась шумная и жутковатая компания жестоко искалеченных молодых парней в обрывках когда-то красочных мундиров его армии. "Кто только развел вас в таком количестве?" - сурово вопросил солнечный король. "Вы, ваше величество! - дерзко ответил одноногий солдат, - Беднякам в тягость кормить столько калек, так что нам остается бродяжничать, побираться и воровать, чтобы не висеть на шее у своих близких". Король вспомнил страшный вид кровавых полей, на которых его отважные войска сражались с испанцами или голландцами, усовестился и повелел организовать в Париже небывалый по размерам приют для своих увечных воинов, где бы им было "оказано милосердие с честью и пользой". Так начал свое многовековое существование Дом (или, иначе, Дворец) инвалидов - Hotel des Invalides, который и поныне поражает досужих туристов своим мрачным величием.
На деле Людовик XIV отдал приказ о постройке богадельни для искалеченных и престарелых военных 12 марта (по другой версии, 24 ноября) 1670 года. Тогда за плечами у короля были только завершение Франко-испанской войны (1635-59 гг.), от которой в дееспособном возрасте он застал лишь последние кампании, да еще Деволюционная война с Испанией (1667-68 гг.), не особенно кровопролитная. Зато планов на будущие боевые действия ради контроля над нидерландскими и германскими землями у него хватало. Равно, как хватало на французских дорогах и в парижских кабаках солдат-калек опустошительной Тридцатилетней войны (1618-48 гг.), закончившейся, когда "Королю-солнце" было всего десять лет, и в придворных кругах он имел не столь блистательное прозвище - "король-ребенок". Можно немало рассказать о капризном и жестоком нраве Людовика XIV, однако, заботясь о призрении увечных воинов, доставшихся ему "в наследство" и ожидавшихся в перспективе, он проявил себя как ответственный главнокомандующий, радевший, как выразились бы сегодня, о поднятии престижа воинской службы и социальном обеспечении военнослужащих. К тому же, его Дворец инвалидов стал непревзойденным по размерам (причем, не только для своего времени), и едва ли не первым подобным военно-медицинским учреждением в Европе.
Благородная традиция призрения людей, получивших увечья на войне, существовала во Франции с раннего средневековья. Еще легендарный властелин Франкской империи Карл Великий повелел монастырям принимать своих изувеченных воинов в качестве служек или охранников. Предание гласит, что как-то раз он пригрозил отрубить ногу настоятелю, который отказал в милосердии его одноногому вассалу на основании того, что веселый буйный нрав рыцаря введет в соблазн смиренную монастырскую братию. После этого настоятель тотчас проникся состраданием, и вояка был принят на монастырские хлеба и вина. В 1254 г. король Людовик Святой, прославленный участник крестовых походов, поселил в одном из своих замков на полном обеспечении 300 бывших крестоносцев, ослепленных или обезрученных сарацинами. Генрих III, последний Валуа, создал из дворян-инвалидов подобие духовно-рыцарского ордена, члены которого размещались в монастырях. Не остался в стороне от благотворительности подобного рода и первый из династии Бурбонов, Генрих IV Наваррский, "добрый король", "старый повеса", который, как пелось во французской народной песенке, "войну любил он страшно/ и дрался, как петух,/ и в схватке рукопашной/ один он стоил двух". В 1604 г. "беарнец" поселил жертв своих войн в госпитале "Христианского милосердия". Довольно "оригинально" подошел к проблеме отец Людовика XIV, Людовик XIII, приказавший поместить лишенных средств к существованию военных инвалидов в Бисетрский форт в Париже, использовавшийся преимущественно как тюрьма. Также широко практиковалось назначение искалеченных солдат и офицеров на военно-административные и нестроевые должности в крепостных гарнизонах.
Людовик XIV вобрал опыт своих предшественников и творчески развил его, не только обеспечив искалеченных солдат и офицеров жильем, содержанием и медицинским обслуживанием, но и предоставив им возможность трудиться с пользой для королевства и их оставшихся в строю товарищей. Под постройку Дворца инвалидов король приобрел на собственные средства большой участок земли на левом берегу Сены, в парижском пригороде Гренель, напротив нынешнего моста Александра III. Сделка состоялась недорого, всего за несколько тысяч ливров, так как двое парижан-землевладельцев предусмотрительно сочли, что "торг здесь неуместен". Строительство было поручено придворному архитектору Либералю Брюану (Liberal Bruant), который, кстати, имел опыт в возведении госпитальных зданий: ему принадлежит проект ряда построек больницы Ла Сальпетриер (L'h;pital de la Salp;tri;re) в Париже. Взятые под личный контроль королем, строительные работы начались незамедлительно, и шли довольно споро. В 1674 г. Дом инвалидов был готов принять первых постояльцев, а в 1677 г. работы первой очереди построек были завершены. Впрочем, ансамбль Дворца инвалидов в Париже ширился и достраивался дополнительными сооружениями и в XVII, и в XVIII, и даже в XIX вв.
Первоначально комплекс Дворца Инвалидов состоял из пяти дворов, построенных в виде классических европейских казарменных сооружений начала Нового времени. Четырехэтажные (в Европе принято начинать нумерацию этажей со второго, так что любой француз назовет их "трехэтажными") жилые корпуса образовывали с внутренней стороны обширные площадки-плацы, обнесенные двухэтажной аркадой. Центральный двор именовался Почетным, или Королевским двором. Парадный вход украшала тяжеловесная арка, более уместная над крепостными воротами, увенчанная барельефом, изображавшим Людовика XIV в парадных доспехах римского цезаря, восседавшего на боевом коне. Масштабы сооружения поражали - комплекс зданий размером 400 на 450 м. имел сотни помещений - дортуаров (спален казарменного типа), церемониальных залов, больничных покоев, столовых, кухонь, кладовых, оружейных и т.д., снабженных сложной системой каминов, топившихся на цокольном этаже. Протяженность одних коридоров в Доме инвалидов составляла более полутора десятков километров. Плафоны ряда залов были украшены живописными картинами, прославлявшими победы армий "Короля-солнце", глядя на которые ветераны могли бы коротать печальный закат своей жизни в воспоминаниях и беседах о былых подвигах. Вполне очевидно, важнейшее место в подобного рода учреждении занимала церковь католического обряда, ибо в те стародавние времена прекрасно понимали, что поддержание духа увечных воинов не менее важно, чем поддержание их физических сил. Первоначально церковь была спроектирована Брюаном в строгом и аскетическом воинском духе. Ее украшали скульптурные композиции работы Корню, представлявшие собой аллегорию воинской славы, но весьма скромные. Разумеется, собор был освящен в честь Святого Людовика, покровителя царствующего короля Людовика, и стал именоваться Saint-Louis-des-Invalides (в обиходе - Собор Инвалидов). Блистательный "Король-солнце", желавший сам периодически посещать мессы своих искалеченных боевых соратников, забраковал работу. Его изысканному до приторности вкусу храм показался недостаточно роскошным - монарх презрительно обозвал церковь "солдатской". Это название впоследствии закрепилось в веках за ее старой частью, сохранившейся в нефе нового собора, возведенного в 1676-1706 гг. и достроенного только к 1715 г. (классический пример "долгостроя" эпохи куртуазности!) другим придворным зодчим Жюлем Ардуэн-Мансаром (Jules Hardouin-Mansart). Посетителями богослужений в новом соборе, поражавшем своим грандиозным позолоченным куполом со шпилем 107-метровой высоты и пышным убранством, изначально могли быть только король и его приближенные. Для "простых смертных" была "солдатская" церковь.
Управление Домом инвалидов с 1670 г. осуществлялось губернаторами, назначавшимися королем из числа заслуженных пожилых высших офицеров. Первым губернатором стал шевалье Франсуа д"Ормуа (Fran;ois Lema;on d"Ormoy). С тех пор и по сегодняшний день на этой должности (в период 1796-1803 и 1871-1941 гг. именовавшейся комендантом) сменилось 44 человека, среди которых семеро маршалов Франции. Губернатор осуществлял свои полномочия при поддержке управляющего совета (conseil g;n;ral d'administration) из 10 членов - военного коменданта, полковника, майора и семи капитанов - командиров инвалидных рот. Исключение составляет период Французской революции с 1793 по 1796 гг., когда управление осуществлялось коллегиально.
В 1674 г. мощные стены Дворца инвалидов стали домом для первой партии из полутора тысяч увечных солдат и офицеров, не имевших средств к существованию. Помимо инвалидов, "на покой" принимались престарелые ветераны, не имевшие близких, способных заботиться о них. Для этой категории постояльцев в 1710 г. был введен стаж службы под знаменами не менее двадцати лет, при особых заслугах - не менее десяти. К концу царствования Людовика XIV численность "контингента" приблизилась к пяти тысячам человек. Перешагнув массивный каменный порог Дома инвалидов, увечные воины попадали в привычную армейскую обстановку. Инвалиды делились на роты в зависимости от степени дееспособности, возглавлявшиеся офицерами также из числа постояльцев. Командир каждой роты имел своего лейтенанта, т.е. помощника, а также адъютанта. Оставшиеся "без команды" офицеры-инвалиды занимали различные административные должности - интенданта, казначея, начальников артиллерийского парка и арсенала, хранителя трофеев, библиотекаря, архивариуса и т.д. Распорядок дня подчинялся жесткой воинской дисциплине, которой позавидовали бы даже действующие полки Французской армии. Во внутреннем режиме Дома инвалидов чувствовался также отчетливо выраженный уклон в уставы средневековых духовно-рыцарских орденов. Подъем, утреннее и вечернее богослужение, приемы пищи, работа и даже строевые занятия (конечно, для тех, кто был способен ходить в строю) проводились четко по графику. В дортуарах и залах запрещались курение и даже громкие разговоры. За различные проступки была предусмотрена жесткая система наказаний - от заключения в карцер до "изгнания из рая" - т.е. отчисления. Свою пищу ветераны вкушали в благочестивом молчании, усевшись по 50 человек за общими столами и внимая дребезжащему под сводами голосу чтеца, читающего что-нибудь "душеспасительное".
Впрочем, жаловаться на питание не приходилось: на каждого рядового инвалида отпускалось в день по 750 грамм пшеничного хлеба, 250 грамм мяса, пол-литра вина или литр сидра и, плюс к тому, овощи, сыр и различные приправы. Офицерам доставляли фрукты, птицу, дичь и сладости от королевского двора. Фактически, постояльцы Дома инвалидов стали первыми во Французской армии получать фиксированный паек. Их питание было организовано централизованно еще задолго до того, как в начале ХХ в. в полевых лагерях французской армии задымили первые полевые кухни. До этого, ссылаясь, вероятно, на неисправимый индивидуализм гурманов-французов в еде, интендантства выдавали провизию солдатам на руки "в сухом виде", и каждое отделение таскало за собой котел, своими усилиями стряпая еду в походе.
Для многих ветеранов, прежде намыкавшихся по дорогам и притонам без своего угла, явно к лучшему изменились и условия жизни. Помещения Дома инвалидов хорошо отапливались, причем не по графику, а в зависимости от реальной погоды, по приказу коменданта. Сена, бессменная транспортная артерия Парижа тех лет, обеспечивала регулярный подвоз топлива и иных припасов. Каждый постоялец получал форменную одежду военного образца, покрой которой менялся в зависимости от эпохи, но цвет оставался неизменным: темно-синий с красным прибором и белым приборным металлом. Полагались также солдатская обувь, белье, кожаный матрас и шерстяное одеяло, а с XVIII в. - и прочие постельные принадлежности. Немощные и больные помещались в лазарет, вмещавший 400 пациентов и обслуживавшийся тремя военными врачами, 10 лекарями, фармацевтом с его помощниками и братьями милосердия - монахами. С 1822 г. монахов в лазарете заменили сестры милосердия - до этого женщины в Дом инвалидов не допускались, а женатым постояльцам предоставлялось два увольнения в неделю для свидания с семьями. В персонал Дворца инвалидов входил также штат священнослужителей, поваров, истопников и т.д.
За пользование такими благами постояльцы должны были трудиться по мере сил. Первоначально, в эпоху Людовика XIV, основным занятием инвалидов был ремонт армейского оружия и снаряжения. Современники вспоминают, что даже полностью потерявшие зрение воины, на ощупь помнившие конструкцию мушкетов или палашей, сроднившихся с их руками за годы былой службы и сражений, были способны выполнять немало операций. Однако по мере развития военной промышленности и специализированных профильных мастерских необходимость в привлечении к этому ответственному процессу калек-ветеранов отпадала. В XVIII в. основными производственными мощностями Дома инвалидов стали гобеленная мастерская, раскраска гравюр и выпуск солдатских башмаков. Были среди его постояльцев и мастера более изящных профессий - в частности, даже художники и скрипочные мастера. Кое-кто из офицеров профессионально занимался картографией и военной историей, тем более, что в их распоряжении находилась богатая библиотека, основанная Людовиком XIV и постоянно пополнявшаяся новыми книгами преимущественно военной и сопутствующей тематики. Кроме того, в 1777 г. Дворцу инвалидов была передана богатейшая коллекция макетных планов и рельефов из королевского дворца Тюильри, около ста экспонатов которой сохранились там по сей день.
Финансирование этого крупнейшего в мире приюта военных инвалидов всегда оставалось предметом особой заботы правителей Франции. Наиболее щедр был, несомненно, "Король-солнце", по праву считавший Дворец инвалидов своим детищем. Помимо постоянных личных и казенных денежных дотаций учреждению и выплаты инвалидам пенсий, он по нескольку раз в год устраивал ветеранам праздничные обеды, сервировавшиеся с подлинно королевским размахом. Неизменным гостем на них бывал сам король, который, несмотря на все темные стороны своей противоречивой натуры, вероятно, испытывал что-то вроде ответственности за судьбу своих покалеченных солдат, или даже чувство вины перед ними, и во время подобных посещений бывал с ними неожиданно прост и сердечен. Хотя, не исключено, что это носило для него, выражаясь современным языком, характер королевской PR-акции. Старались демонстрировать свою милость к увечным воинам и два последовавших за "Королем-солнцем" Людовика с соответствующими "порядковыми номерами" - XV и XVI. Так что к моменту, когда ярость Французской революции положила конец царствованию последнего из них, бюджет Дворца инвалидов достиг крайне солидной суммы в 1,7 миллионов ливров.
14 июля 1789 г., когда Париж охватили революционные волнения против королевской власти, старые солдаты, жившие в Доме инвалидов, заняли сторону народа. Артиллеристы отказались стрелять по окружившей здание толпе восставших, а караульные открыли ей ворота. 32 тысячи ружей и 27 пушек из находившихся во Дворце инвалидов королевских арсеналов, переданные военными инвалидами в руки революционеров, стали существенным аргументом в пользу падения монархии. Неистовые республиканцы с готовностью приняли у королей эстафету в призрении увечных воинов, новый поток которых хлынул с полей сражений многочисленных войн Французской республики. Расходы по содержанию Дворца инвалидов были официально отнесены на счет военного ведомства. Принимались и частные пожертвования от "добродетельных граждан".
Приход к власти Наполеона Бонапарта, ознаменовавший начало самой знаменитой из всех военных эпох Франции, окруженной романтическими и кровавыми преданиями, оказал существенное влияние на развитие Дворца инвалидов, начиная с его внешнего облика. Самозваный император в присущем ему аляповатом провинциальном вкусе украсил суровые фасады этого госпиталя-казармы разнообразными геральдическими и военными символами своего правления - орлами, пчелами, львами, стилизованными композициями из оружия и тому подобными "виньетками ложной сути". На широкой эспланаде перед парадным входом появились внушительные ряды трофейных и французских орудий, отгремевших на полях сражений этой титанической и страшной эпохи. А в просторных помещениях Дома инвалидов впервые стало тесно от огромного наплыва еще очень молодых людей, носивших на себе чудовищные отметины увечий, полученных при Маренго и Аустерлице, Иене и Фридланде, Ваграме и Смоленске... Число инвалидов, содержавшихся там, в 1812 г. достигло рекордной отметки в 26 100 человек. Такой огромной цифре наполеоновская Франция была обязана не только военными кампаниями ненасытно честолюбивого императора, но и массовому обнищанию истощенного военными поборами населения. Многие семьи уже не могли позволить себе содержать вернувшихся с полей чести искалеченных родственников - не говоря уж о том, что в армии "великого императора / корсиканского людоеда" был весьма велик процент отважных авантюристов, оторвавшихся от своих корней.
Надо отдать должное Наполеону: он нередко посещал Дом инвалидов и даже положил начало его превращению в пантеон воинской славы. При нем церковь Св. Людовика (Собор Инвалидов) была возведена в ранг главного военного собора Франции, в котором стал служить мессу армейский епископ Франции (;v;que catholique aux Arm;es). 15 июля 1804 г. император избрал Дворец инвалидов местом проведения церемонии награждения первых кавалеров новоучрежденного ордена Почетного легиона, ставшего с тех пор главной наградой Франции. Внушительная экспозиция трофейных знамен и штандартов - плодов громовых побед французского оружия в Италии, Австрии, Пруссии, Испании - украсила старинные своды залов. Однако в отношении финансирования приюта увечных воинов Бонапарт был прагматичен до цинизма. Из военного бюджета он платил за здоровых и только за здоровых солдат. Тех же, кто уже не представлял практического значения для его цезарианских проектов, должен был содержать французский народ: они же его дети, не правда ли, а император им более ничем не обязан! В 1811 г. Наполеон постановил вычеркнуть обеспечение Дома инвалидов из военного бюджета, постановив взимать вместо этого в его пользу до 2% со всех совершающихся в его империи частных сделок и различных доходов. Подобные дотации оказались вполне солидными: всего в наполеоновскую эпоху в фонд Дома инвалидов поступило более 6 миллионов франков.
Последние Бурбоны, восстановленные на ставшем весьма зыбком после падения гиганта-Наполеона французском престоле, немало сделали для развития и поддержания престижа Дворца инвалидов, а также ради благоустройства его постояльцев. Вполне понятна логика Людовика XVIII, Карла Х и Луи-Филиппа, которых вкусившие республиканской вольности и наполеоновского величия французы нередко воспринимали как трагикомичные фигуры. В их армии продолжали служить питомцы эпохи Наполеона, крайне болезненно относившиеся ко всякому выпаду в адрес своего славного прошлого, и поддержка Дома инвалидов была для королей своего рода демонстрацией уважения к воинским традициям и былой славе. В 1822 г. была проведена самая заметная реформа этого учреждения, коснувшаяся и его статуса, и внутреннего распорядка. Несчастные калеки и престарелые ветераны, коротавшие остаток своей жизни в станах Дворца инвалидов, приобрели статус живого памятника французской воинской доблести. С этого времени и вплоть до начала ХХ в. на всех смотрах парижского гарнизона сводное подразделение инвалидов (как правило, рота) выступало впереди всех остальных войск. Когда в праздничные дни Париж оглашался раскатами артиллерийского салюта, парижане знали: это бьют орудия салютной батареи Дома инвалидов с расчетами из испытанных седых артиллеристов былых сражений. Действующие военнослужащие были обязаны первыми отдавать инвалидам воинское приветствие.
Каждое воскресенье в соборе Дворца инвалидов армейский епископ (за исключением случаев нахождения в пастырских поездках) и трое священников служили торжественные обедни, на которых обязательно присутствовали высокопоставленные офицеры военного министерства и парижского гарнизона, а оркестр выделялся поочередно одним из расквартированных в столице полков. Была восстановлена традиция праздничных обедов во Дворце инвалидов, приуроченных к религиозным и национальным праздникам. На них обязательно приглашались высокопоставленные гости, в том числе члены королевского дома. В 1832 г. расходы на содержание Дома Инвалидов вновь перешли в смету военного министерства Франции.
Большие перемены произошли и в условиях жизни французских военных инвалидов. Постояльцы Дома инвалидов, в зависимости от их физической кондиции, были переформированы из прежних рот в группы более гибкого состава, именовавшиеся "дивизиями". Командиры, помощники командиров и адъютанты "дивизий" назначались губернатором. Губернаторов было предписано назначать из чинов не ниже маршала Франции или дивизионного генерала, а комендантов - из бригадных генералов. Указом Людовика XVIII инвалидам было определено фиксированное жалование, в зависимости от чина составлявшее от 2 (рядовой) до 30 франков (полковник) в месяц. Работа в мастерских теперь стала исключительно добровольным делом. Впрочем, согласно воспоминаниям современников, большинство старых воинов все равно продолжали работать, насколько им позволяли силы, как за дополнительную плату, так и ради того, чтобы заполнить непривычный избыток времени, внезапно появившийся у этих деятельных и сильных людей. Значительно улучшилось медицинское обслуживание, а также пищевое довольствие. На столах инвалидов появились такие яства, как кофе, какао, свежее молоко, "колониальные плоды", коньяк. Некогда суровый, распорядок дня Дома инвалидов начал неуклонно приближаться к санаторному.
В эпоху реставрации французской монархии Дворец инвалидов приобрел еще одну церемониальную функцию, которая и по сей день делает его одним из наиболее посещаемых памятников истории в Париже. Он стал пантеоном для военачальников, прославивших свое имя на полях сражений Французской армии. 15 декабря 1842 г., по приказу Луи-Филиппа, туда были торжественно перенесены с острова Святой Елены останки Наполеона Бонапарта. Человек, усеявший безымянными и бескрестными могилами французских солдат пол-Европы, нашел пышное последнее успокоение в открытом склепе в Соборе Инвалидов. Проект гробницы принадлежит известному архитектору Луи Висконти (Louis-Tullius-Joachim Visconti). Ее строительство было завершено только к 1860 г. Массивный и тяжеловесный саркофаг, внутри которого в шести гробах покоится тело великого полководца (он одет в зеленый мундир конных егерей, в котором его образ жестоко врезался в память мира), выполнен из темного "порфирового" мрамора. Он покоится на постаменте из зеленого финляндского гранита, подаренного, кстати, российским императором Николаем I. Саркофаг окружает балюстрада, вдоль которой расположены 12 статуй работы Жана Жака Прадье, символизирующих 12 военных кампаний Наполеона. На мраморном полу выполнена мозаика, изображающая лавровый венок, в который вписаны названия величайших побед наполеоновской армии. Среди прочих славных имен там значится и Москва: так во французской военно-исторической традиции принято именовать Бородинское сражение, в котором Великая армия и русские войска увязли в крови и яростном упорстве друг друга.
В Соборе Инвалидов нашли последнее успокоение также маршалы Наполеона Удино, Груши, Журдан, Бессьер, а также военачальники его племянника, высоко взлетевшего и низко павшего баловня удачи и второго императора Франции Наполеона Третьего, маршалы Канробер и Мак-Магон и другие. Скорбной скульптурной группой французских воинов Первой мировой войны в длиннополых шинелях и в знаменитых "адриановских" стальных шлемах, несущих на плечах гроб своего командира, выделяется надгробие главнокомандующего войсками антигерманской коалиции в 1918-м маршала Франции Фердинанда Фоша (работа польского скульптора Павла Ландовского). В 1940 г. в Собор Инвалидов был перенесен из Вены прах сына Наполеона - злосчастного Орленка, герцога Рейхштадского, грезившего о воинских подвигах отца и умершего в юном возрасте. Малоизвестная история, о которой многие экскурсоводы предпочитают не вспоминать, гласит, что отец с сыном воссоединились через 100 лет после смерти последнего по приказу тогдашнего поработителя Европы Адольфа Гитлера, которому не терпелось оставить в этом славнейшем военном пантеоне и свой след.
Своего рода коллективным военным пантеоном является и аркада Почетного двора Дворца инвалидов, стены которой покрыты мемориальными досками в память о солдатах различных частей и родов оружия Франции, ее колоний и ее союзников, отдавших свои жизни в войнах XIX - XX вв. Среди прочих можно найти и скромный мемориал солдатам и офицерам Экспедиционного корпуса Российской императорской армии, сражавшимся и погибшим на французской земле в 1916-18 гг.
После трагического поражения Франции во Франко-прусской войне 1870-71 гг. в истории Дома инвалидов наступил период временного заката. Престиж военных и армии вообще, опозоренных рядом катастрофических поражений, подобных которым французское оружие не знало со времен Березины и Ватерлоо, рухнул в стране, как бы выразились сегодня, "до уровня плинтуса". В рамках кампании по ограничению затрат на военное министерство, проведенной в Национальном собрании сторонниками "пацифистского" лагеря в конце XIX - начале ХХ в., сильно пострадали и инвалиды. В 1903 г. постояльцы Дома инвалидов получили "гражданский" статус, что означало прекращение их участия в смотрах и парадах, отмену повседневного ношения формы, военизированной организации и права на ношение оружия, а также упразднение салютной батареи. Вскоре после этого была отменена отправка полковых оркестров и представителей командования на воскресные богослужения в Доме инвалидов (впрочем, многие действующие офицеры продолжали посещать их в частном порядке в знак несогласия с этим решением), а с 1904 г. приостановлен прием в Дом инвалидов новых постояльцев. В результате контингент инвалидов сократился с 685 человек в 1872 г. до нескольких десятков престарелых ветеранов в 1911 г.
Однако этот период ознаменовался для Дворца инвалидов его новым применением, с которым по сей день связан статус этого здания. Освободившиеся по мере сокращения "контингента" помещения французские военные стали широко использовать в музейных целях. В 1871 г. там был основан Музей артиллерии (Le mus;e d'Artillerie), а в 1896 г. стараниями знаменитого французского художника-баталиста и общественного деятеля Эдуарда Детайля (Jean Baptiste ;douard Detaille) появился Исторический музей армии (Le mus;e historique de l'Arm;e). В 1905 г. они были слиты в единый Музей армии (Mus;e de l'Arm;e), существующий по настоящее время и считающийся одним из лучших военных музеев мира. Его богатейшая коллекция заслуживает отдельного подробного рассказа. Кроме того, музей активно занимается научно-исследовательской и издательской деятельностью. Директор музея традиционно назначается военным министерством Франции из офицеров в чине не ниже бригадного генерала.
После Первой мировой войны, миллионное жертвоприношение Французской армии на фронтах которой вновь вернуло военным уважение общества, прием искалеченных на Марне и под Верденом воинов в Дом инвалидов был возобновлен. Однако развернутая по всей стране система военных госпиталей позволила оставить эти функции в основном символическими. Постояльцы Дома инвалидов проживали теперь под наблюдением квалифицированного медперсонала в благоустроенных зданиях пансионного типа, окруженных уютными садиками и расположенных за стенами исторической постройки. В наши дни там проживают менее ста ветеранов и инвалидов Французской армии и движения Сопротивления, обслуживанием которых ведает Национальный институт инвалидов Франции (l"Institut national des invalides). Губернатором дворца инвалидов в настоящее время является генерал армии Бруно Кюш (g;n;ral d'arm;e Bruno Cuche), а должность директора Музея армии занимает генерал дивизии Кристиан Батист (g;n;ral de division Christian Baptiste). Дворец инвалидов и Музей армии стали сегодня общим понятием, символизирующим воинскую славу и военные традиции Франции - как для французов, так и для любителей военной истории со всего мира.
_______________________________________________Михаил Кожемякин
Л И Т Е Р А Т У Р А:
1. The Hotel des Invalides. Tome 1: D. Simon. The History of the Hotel des Invalides. Paris, 1986.
2. The Hotel des Invalides. Tome 2: J.-M. Humbert. The Army Museum. 1986. Paris, 1986.
3. Военная энциклопедия. Т. IX. М., 1912. Переиздано: М., 2007.
4. M. D. Mac Carthy. Soldats du Roi: les arm;es de l'ancien r;gime XVIIe et XVIIIe si;cles: 1610-1789. Les Collections Historiques du Mus;e de l'Arm;e. Tome 4, 1984.
5. Сартан М. Дом Инвалидов. "Искусство" Љ 19/2009.
6. Комбо И. История Парижа. М., 2002.
И Н Т Е Р Н Е Т - Р Е С У Р С Ы:
http://www.invalides.org/
Вандомская колонна - фантом империи
Отзвук громовых побед эпохи Наполеона I наложил на облик Парижа весьма заметный отпечаток. Орудийный грохот с полей триумфа честолюбивого императора в прямом смысле отлит в бронзе на Вандомской площади Парижа в Вандомской колонне, носившей в наполеоновские времена горделивое название: колонна Побед или колонна Аустерлица (colonne d'Austerlitz, colonne de la Victoire). Для увековечения своих побед над российскими и австрийскими войсками в кампании 1805 г., закончившейся знаменитым сражением при Аустерлице, где, по словам Пушкина, «русский в первый раз пред гибелью бежал», Наполеон 1 декабря 1806 г. издал декрет, постановлявший отлить «памятный столп» из стволов захваченных неприятельских пушек. За образец, как легко догадаться, был взят очередной древнеримский монумент – колонна императора Траяна, воздвигнутая в честь победы над непокорными даками.
Историки до сих пор дискутируют, сколько точно орудий российской и австрийской артиллерии пошло на сооружение колонны, сколько бронзовых стволов, избитых осколками и закопченных боевым пламенем, отгремевших на полях под Ульмом и Аустерлицем было переплавлено. Называют даже невероятное число в 1 200 штук.
На самом деле в обоих сражениях трофеями войск "корсиканского самозванца" стали несколько более 250 орудий (197 - Аустерлиц, 60 - Ульм). Колонна же была построена из камня, а из орудийных стволов изготовлены только барельефы, которыми она обложена, и статуя самого "меленького злого Бони" на верхушке.
В 1806-1810 гг. колонна была сделана по проекту архитекторов Ж. Б. Лепера и Ж. Гондуэна и установлена на месте свергнутой Французской революцией статуи Людовика XIV.
44,3-метровую колонну диаметром 3,6 метра венчала фигура Наполеона, облаченного в одеяние римского императора и с лавровым венцом на голове. Восходя по спирали к вершине, колонну украшали 76 барельефов работы Жака Луи Давида, прославленного мастера официальной живописи и скульптуры сначала Французской республики, а потом и империи Наполеона. Они изображали патетические сцены торжества французского оружия над русскими и австрийцами, нарисованными, кстати, вполне похоже – эскизы для Давида представил художник Бержере, побывавший на театре войны. Кроме того, около четырехсот рельефов для колонны общей длиной 280 м. выполнили еще семеро скульпторов, в т.ч. один из архитекторов колонны - Жан-Батист Лепер. Считается, что стоимость сооружения «колонны Побед» превысила 2 млн. франков, в то время, как денег на пенсии военным инвалидам и вдовам не хватало.
После того, как солнце Аустерлица отсияло, Наполеон растерял свою славу в русских снегах, а победоносные армии России, Австрии и их союзников вступили в Париж, французские роялисты сорвали с колонны статую Наполеона, заменив ее королевским знаменем. Бронзовая фигура пошла на переплавку и изготовление памятника другому французскому монарху – «доброму королю» Генриху IV. В 1833 г. король-либерал Луи-Филипп повелел скульптору Шарлю Мари Серру изваять для Вандомской колонны нового бронзового Наполеона – облаченного в знакомые всей Европе сюртук и шляпу, тяжеловесного, угрюмого. С 1863 г. эта статуя была перенесена во Дворец Инвалидов и заменена копией. Всего на вершине колонны сменилось около десятка разных Наполеонов, различавшихся по деталям и исполнению.
Однако этот помпезный памятник войне и смерти не нравился множеству парижан. Художник Гюстав Курбе в 1870 г. назвал ее «ручьем крови в цветущем саду» и призвал снести. Когда под влиянием катастрофического поражения Франции в войне с Пруссией к власти в Париже пришла Парижская Коммуна – правительство революционеров-радикалов, мечтателей-социалистов и рабочего люда с парижских окраин, приговор Курбе был приведен в исполнение. 12 мая 1871 г. Коммуна издала декрет: «…считая, что императорская колонна на Вандомской площади является памятником варварству, символом грубой силы и ложной славы, утверждением милитаризма, отрицанием международного права, постоянным оскорблением побежденных со стороны победителей, непрерывным покушением на один из трех великих принципов Французской республики - Братство, постановляем: …колонна на Вандомской площади будет разрушена». Месяцем позже толпа революционеров свергла колонну с постамента и разбила статую Наполеона.
После кровавого подавления Парижской Коммуны новое правительство Франции постановило поднять колонну из праха и утвердить на прежнем месте. Очередную скульптуру Наполеона, вновь переодетого римским цезарем и получивего в руки меч и статуэтку крылатой богини победы, создал скульптор Огюст Дюмон. Беднягу Гюстава Курбе, инициировавшего свержение колонны, отправили в тюрьму, да еще и обязали оплатить восстановительные работы. Выплачивая ежегодно по 10 тыс. франков, художник лишился всего имущества и умер в нищете. Давно прошедшая эпоха Наполеона I сожрала еще одну жизнь.
А Вандомская колонна и ныне высится на прежнем месте. Проходя мимо нее, путешественник из России, отдай дань памяти своим соотечественникам стародавней поры - безвестным артиллеристам, погибавшим у этих орудий на Аустерлицком поле…
_______________________________________________Михаил Кожемякин.
Франция - испытание огнем.
Краткая военно-политическая история Франции в 1914-1945 гг.
Каждый год 11 ноября вечный огонь на могиле Неизвестного солдата под сводами Триумфальной арки в Париже утопает в цветах и пышных венках, перевитых траурными лентами и цветами французского триколора. Надписи на них гласят, что вечную признательность павшим выражают президент Франции и члены правительства, политические партии и организации ветеранов, города и воинские части, и просто тысячи французов, семьи которых когда-то не дождались с кровавых полей своих солдат. Франция вспоминает своих защитников, сгоревших в огне двух мировых войн, выпавших в ХХ в. на долю этой прекрасной страны. Вспоминает сынов поколения, заслонившего ее в Первую мировую войну, и другого, не сумевшего спасти ее от позора и унижения во Вторую...
Под величественной в своей простоте надгробной плитой на Площади Звезды спит безымянный солдат Первой мировой, жизнь которого оборвалась в огненной вспышке разрыва германского снаряда или в рукопашной схватке в адской тесноте неприятельской траншеи, или с перебитым пулей хребтом в грязной луже на дне воронки. Он погиб близ Вердена, или на Сомме, или в полях Иль-де-Франса, или во Фландрии, в Шампани, в Артуа...
Он был еще очень молод, отчаянно храбр и пошел в армию добровольцем, чтобы защитить свою страну от жестокого врага и вернуться героем в родную деревню, к седеющей матери и кареглазой невесте. Или нет, он был спокойным семейным человеком средних лет, в размеренную обыденность которого вдруг властно вторгся приказ о всеобщей мобилизации.
Он был скромным мужественным пехотинцем... Или нет, он был щеголеватым и бесшабашным кавалеристом... Или сапером, артиллеристом, связистом, военным медиком... Он был солдатом Франции и умер за нее - вот и все, что известно нам об этом человеке.
Когда в 1920 г. было принято решение увековечить память героев недавно отгремевшей мировой войны торжественным погребением в центре столицы Франции Неизвестного солдата, в цитадель Вердена с мест наиболее ожесточенных сражений Французской армии доставили останки восьмерых неопознанных военнослужащих. Согласно решению специальной комиссии, "того самого" солдата среди восьми покрытых французскими флагами дубовых гробов выбрал назначенный по жребию 21-летний рядовой 132-го пехотного полка Огюст Тин, отец которого также пропал без вести в годы войны. Он возложил букет белых гвоздик на шестой по счету гроб. Впоследствии месье Тин, которому выпало на долю стать участником обеих мировых войн, вспоминал: "Чтобы не мучиться сомнением, я сложил цифры из номера своего полка, и получилось шесть".
28 января 1921 г. в Париже состоялось торжественное погребение Неизвестного солдата. Двумя годами позже на могиле был зажжен Мемориальный огонь, который, согласно традиции, каждый год вновь и вновь зажигают французские ветераны. После того, как ушел из жизни последний француз-участник Первой мировой войны, эта честь перешла к ветеранам Второй мировой. Вечный огонь пылает отсветом далеких сражений, в которые в 1914-18 и 1939-45 гг. шли миллионы солдат Франции...
В начале ХХ в. французское общество была всецело поглощено своими внутренними проблемами и обращало очень мало внимания на угрозу войны, исходившую от исторического противника Франции на европейском континенте - Германской империи. Военно-дипломатические конфликты между крупнейшими колониальными державами в Марокко 1905 и 1911 гг., всколыхнувшие самоуспокоение Европы, ожидавшей от начинавшегося века триумфа гуманистических идей и технического прогресса, все же вызвали некоторую тревогу. Французские военные, перед которыми все еще витал призрак ужасного разгрома во Франко-прусской войне, начали активнее готовиться к возможным боевым действиям с немцами. В 1913 г. представители Генерального штаба и внешнеполитического ведомства с трудом сумели убедить палату депутатов Национального собрания, что новое столкновение с "коварными бошами" не за горами. В результате, несмотря на сильную оппозицию левых и пацифистских сил Франции, был принят закон о трехгодичном сроке военной службы. Общество оказалось расколотым, и французские социалисты во главе с известным политиком и интеллектуалом Жаном Жоресом призывали даже ко всеобщей забастовке протеста, ожидая, что германские "товарищи по партии" поддержат их антивоенную кампанию. Однако немецкие "геноссе" в это время приносили кайзеру Вильгельму II верноподданнические заверения в готовности встать под ружье и идти завоевывать "жизненное пространство для германской нации" на Востоке и на Западе. Война стала неизбежной, и первой жертвой ее во Франции пал идеолог пацифистского движения Жан Жорес, убитый 31 июля 1914 г. в парижском кафе озлобленным националистом. Как писали в те дни газеты, осознание неизбежности войны пришло к французам "в крови Жореса".
Тем временем новый президент Французской республики Раймон Пуанкаре предпринимал энергичные шаги, чтобы укрепить международное положение Франции. Особенно важное внимание он уделял союзу с Российской империей. Летом 1914 г., когда обстановка в Европе достигла точки кипения, Пуанкаре посетил императора Николая II с официальном визитом. Укреплен был и союз с Великобританией. "Сердечное соглашение" Франции, Англии и России, или Антанта (от французского: entente cordiale), сложившееся в первом десятилетии ХХ в., было готово с оружием в руках выступить в защиту своих интересов в большой игре, именовавшейся мировой политикой.
3 августа, обвинив Францию во враждебных действиях, Германия объявила ей войну. Французскую армию по результатам мобилизации 1914 г. никак нельзя было назвать слабой. Призыв резервистов позволил быстро довести ее численность (без колониальных войск) с 736 тыс. чел. до 3 781 тыс., а сильные кадры пехотных и кавалерийских полков и дивизий позволяли легко развернуть их по штатам военного времени. На вооружении Французской армии находилось боле 3,4 тыс. орудий полевой и тяжелой артиллерии и 156 самолетов (больше, чем у Великобритании и Австро-Венгрии вместе взятых, и лишь немногим меньше, чем у Германии). Французский офицерский корпус гордился многовековыми традициями, хорошей профессиональной подготовкой и, кроме того, высоким интеллектуальным уровнем: быть разносторонне развитым и передовым человеком среди французских военных считалось хорошим тоном. Военная мысль Франции, разработавшая концепцию ведения подвижной войны "из глубины" с широким применением маневра резервами и контрударов, пользовалась в Европе сильной репутацией.
Однако, как всегда случается с началом войны, недоработок в военной машине Французской республики также хватало. В войсках не всегда было достаточно новейших достижений военной техники - пулеметов, полевых гаубиц, средств связи. Примерно 30% генералов были слишком пожилыми, чтобы выдержать моральное и физическое напряжение современной войны. Много лучшего желать оставляло и снаряжение французского солдата, практически не изменившееся со времен Франко-прусской войны. Пехота продолжала щеголять на виду у неприятеля в ярких синих мундирах и красных шароварах, делавших ее отличной мишенью. Конница фланировала в еще более красочной униформе. А на привалах каждое отделение, проклиная косность интендантов и превозмогая усталость, раскладывало себе костер, ставило на него свой котел и, помешивая в нем собственным черпаком, пыталось приготовить суп. Полевые кухни в армии так и не были введены под смехотворным предлогом "индивидуализма французов в кулинарных вкусах".
Несмотря на охвативший Францию патриотический подъем, приведший в армию сотни тысяч добровольцев и вдохнувших высокое мужество в сердца солдат и офицеров, начало войны стало для Французской армии неудачным. Главные силы французов были сосредоточены на франко-германской границе, чтобы взять реванш за 1870 год и отбить у немцев Эльзас и Лотарингию. Но 4 августа германское командование предприняло мощный обходной удар через территорию нейтральной Бельгии. Героическое сопротивление маленькой бельгийской армии не сумело задержать армады кайзеровских войск, и застигнутые врасплох французские соединения потерпели в пограничном сражении жестокое поражение, потеряв до четверти миллиона человек. Казалось, что путь на Париж врагу был открыт. Запаниковав, французское правительство 2 сентября бежало в Бордо, за что не утратившие чувства юмора даже в этот тяжелый час французы окрестили министров "цыплятами по-бордосски".
Однако защитники Франции отнюдь не считали дело потерянным. Разветвленная сеть железных дорог Франции позволила перебросить на защиту столицы войска с других участков фронта, а на позиции с парижского вокзала солдат мчали по ночным дорогам мобилизованные столичные такси. Чтобы умирать за Париж, который они никогда раньше не видели, спешили "с корабля на кровавый бал" колониальные солдаты из Северной Африки. Оборону французской столицы возглавил энергичный генерал Симон Галлиени, заявивший: "Я получил мандат защищать Париж от захватчиков, и исполню его до конца". Встав в жестокой обороне на рубеже реки Марна, французские солдаты и офицеры остановили германское наступление, и к середине сентября отбросили "бошей" от Парижа. Во французской военной истории это сражение получило название "чуда на Марне". Однако, отдавая должное его героям, было бы несправедливо обойти молчанием подвиг верных союзников Франции - воинов Российской императорской армии. Неподготовленное вторжение двух русских армий в августе-сентябре 1914 г. в Восточную Пруссию, ставшую для них ловушкой и могилой, заставило германский генштаб перебросить туда отборные дивизии, которых ему как раз не хватило во Франции. "Зато Париж был спасен!", - написал впоследствии об этой героической и трагической жертве русских войск известный романист Валентин Пикуль.
После обороны Парижа франко-британские и германские войска предприняли ряд наступательных операций, стараясь обойти друг друга. В результате этих в целом безрезультатных и очень кровопролитных сражений эпицентр боевых действий смещался все севернее, пока не уперся в берег Северного моря. К исходу 1914 года Западный фронт Первой мировой войны стабилизировался на бескрайних просторах восточной Франции. Зарываясь в мерзлую землю и оплетая подступы к своим траншеям колючей проволокой, войска противников готовились к новым боям. Ни смертельно усталым и страдавшим от холода в своих сырых блиндажах солдатам, ни их разрабатывавшим планы наступлений и прорывов командирам еще не приходило в голову, что на несколько бесконечных лет они окажутся прикованными судьбами войны к этому многокилометровому поясу позиций и укреплений. Немецкий военный писатель Эрих Мария Ремарк, солдат этой бессмысленной битвы, обессмертил в своем романе убийственную и отупляющую суть Первой мировой войны: "На Западном фронте без перемен".
Мощные огневые средства обеих сторон - артиллерия всех калибров, пулеметы, скорострельные винтовки - превращали любую попытку густых пехотных цепей преодолеть открытое пространство до переднего края противника в героическое самоубийство. Вплоть до последнего года войны на Западном фронте - 1918-го - неоднократные попытки "решающих" наступлений армий Германии и Антанты с ужасной монотонностью заканчивались завоеванием на пределе человеческих сил нескольких километров переднего края противника и сотнями тысяч убитых и раненых с обеих сторон. Дьявольская изобретательность человеческого разума в уничтожении себе подобных создавала боевые отравляющие вещества, огнеметы, бронированные боевые машины на гусеничном ходу. В небе дрались, сгорали и рушились на землю пылающими кометами последние рыцари первой всемирной войны - молодые военные летчики. А фронт все не мог преодолеть фатального равновесия. Миллионы молодых парней в грязной форме защитного цвета (во Французской она появилась в 1915 г. и была почему-то небесно-голубой) и стальных шлемах приучались существовать между жизнью и смертью в своих зловонных траншеях. Осенью там хлюпала под дощатым настилом ледяная зловонная жижа, зимой примерзали к земле шинели спящих вповалку солдат, а летом бесчинствовали инфекционные заболевания и роились сонмища мух. Между позициями разлагались десятки тысяч неубранных тел тех, кто еще недавно был живыми людьми, и во время безумных атак-контратак ноги бойцов увязали в гниющей плоти. Смерть и отчаяние одни царили бы на некогда прекрасных просторах восточной Франции, если бы не непобедимое жизнелюбие француза.
Среди чудовищной рутины окопной войны завязывалась благородная солдатская дружба, фронтовыми поэтами сочинялись шутливые или трогательные песни и стихи, окопные художники создавали потрясающие по выразительности альбомы рисунков и акварелей. Чтобы не очерстветь сердцем, бойцы подбирали в разрушенных селах псов и кошек, становившихся им верными друзьями и живыми талисманами рот и батальонов. Чувствуя странное родство душ с такими же парнями "с той стороны" (идеологической ненависти, разделившей людей в годы Второй мировой, еще не было), солдаты 1914-18 гг. обычно проявляли человечность и сочувствие к пленным и раненым врагам. Французский солдат сражался, работал, жил, любил и надеялся на лучшее. Хронисты "потерянного поколения" Первой мировой - француз Анри Барбюс, англичанин Ричард Олдингтон, немец Ремарк - много писали о том, что среди трупов безымянных жертв битв под Верденом, на Сомме, на Ипре разложился и сгнил европейский гуманизм. Нельзя сказать, чтобы они были совсем не правы. Однако в таком случае в отношении сынов Франции следовало бы сделать некоторое исключение: в окопах поколебалась их вера в традиционные ценности, но не их неистребимая любовь к жизни.
Военный Париж, конечно, несколько растерял былую беззаботность, но все же оставался прекрасен и полон надежд. Парижанки умудрялись с присущим им одним изящным кокетством носить даже траур по гнившим на полях у Соммы и Ипра мужьям, только в глазах у них появилось чуть больше грусти. Их новые кавалеры, которым наутро было снова возвращаться на позиции, умудрялись вальсировать так же элегантно даже в тяжелых солдатских башмаках и мешковатой серо-голубой форме. Столице Франции могло не хватать натурального кофе, керосина и свежих устриц, но газовые фонари столь же ярко освещали уличную толпу, словно бросая вызов ночным налетам германских "цеппелинов". Фланирующая публика все так же заполняла по вечерам рестораны, театры и увеселительные заведения. На фоне слегка поблекшего многоцветья парижан англичане выделялись чопорностью и цветом хаки, американцы - дружелюбной развязанностью, колониальные сенегальские стрелки - яркими фесками и белозубыми улыбками на иссиня-черных физиономиях, а русские союзники - умением перепить всех остальных и боевыми наградами...
Вина и орденов хватало на всех, как и смерти! Среди мраморных мемориальных досок, украшающих аркаду Дворца Инвалидов в Париже, есть одна, увековечившая память русских солдат и офицеров, погибших за Францию в годы Первой мировой войны. С 1916 года плечом к плечу с французами сражались воины Экспедиционного корпуса Российской императорской армии: на Западном фронте против германцев - 1-я и 3-я экспедиционные бригады, а на Салоникском фронте - против союзной Германии Болгарии - 2-я бригада. Кстати, в составе российской военно-дипломатической миссии в Париже в 1917-18 гг. находился прапорщик Николай Степанович Гумилев, выдающийся поэт, исследователь Африки и герой-кавалерист Первой мировой. Когда под влиянием революционных событий в России часть солдат российского Экспедиционного корпуса, выведенного с фронта в лагерь Ла-Куртин, в сентябре 1917 года подняли восстание, Гумилев был среди тех, кто до конца пытался предотвратить братоубийственную бойню. Корректность к своим товарищам по оружию проявили на первых порах французские военные. После того, как верные Временному правительству российские экспедиционные части под командой генерала Занкевича подавили мятеж, французы не позволили им расстрелять ни одного из его участников, поместив их в свои военные тюрьмы. В 1918 г. многие чины прекратившего существовать российского Экспедиционного корпуса вступили во Французскую армию. Созданный из них Русский легион чести доблестно сражался на Западном фронте до последнего дня войны.
Однако впоследствии большая часть оказавшихся во Франции русских солдат были отправлены французским командованием в рабочие части, в колонии или в Иностранный легион, где условия службы были, мягко говоря, очень суровыми. Репатриация желавших вернуться на Родину в условиях Гражданской войны в России затягивалась властями Франции до неопределенного предела, и в итоге тех, кому, как будущему маршалу Советского союза Р.Я. Малиновскому (тогда юный пулеметчик Экспедиционного корпуса и георгиевский кавалер) удалось в конечном итоге увидеть родные берега, оказалось меньшинство. Большинство русских солдат во Франции оказались в положении "эмигрантов поневоле".
1918 г. принес Антанте долгожданную победу в Первой мировой войне, и Франции по праву принадлежит важнейшая роль в этой победе. Четыре долгих года главная тяжесть войны на Западном фронте лежала именно на плечах французского солдата, отважного "пуалю" (в переводе с французского - "патлатые": так прозвали этих отважных воинов за своеобразную окопную моду на длинные бороды и густые шевелюры). Воины Франции сражались в 1914-18 гг. также в Галлиполийской десантной операции и на Ближнем Востоке против Османской империи, в Западной Африке против германских колониальных войск и на всех морях, где действовал Французский флот. Однако решающим "голом в ворота Германии" было вступление в боевые действия Соединенных Штатов Америки, ставших подлинной "кузницей войны", ковавшей боевую технику и оборудование для Антанты и направивших на Западный фронт свои свежие войска. В марте-июле 1918 г. была предпринята последняя попытка германского генерального наступления на Западном фронте. Однако немцы были уже не те: их измотанные части тщетно ломились в глубоко эшелонированную оборону Антанты. В июле-августе произошла так называемая "вторая битва на Марне", в ходе которой французские войска при поддержке британских, американских и итальянских союзников и под руководством нового командующего маршала Франции Фердинанда Фоша сломали хребет германской боевой мощи и перешли в контрнаступление. Вскоре армии Антанты начали успешно теснить деморализованных немцев по всему Западному фронту и к ноябрю освободили большую часть оккупированных территорий восточной Франции. В начале ноября в потрясенной военными поражениями Германии вспыхнула революция, кайзер Вильгельм II отрекся от престола и бежал. 11 ноября 1918 г. в местечке Компьенском лесу в Пикардии в салон-вагоне маршала Фоша представители поставленной на колени Германии подписала перемирие со странами Антанты, означавшее ее фактическую капитуляцию.
Спустя полгода Версальский мирный договор, составленный государствами-победителями на Парижской мирной конференции, официально завершил Первую мировую войну. Последовательная и жесткая позиция французской делегации во главе с президентом республики Жоржем Клемансо немало способствовала временной демилитаризации Германии и укреплению французских позиций в послевоенном мире. Для Европы были выиграны еще 20 относительно мирных лет. Однако, как выяснилось очень скоро, послевоенная модель миропорядка, установленная Антантой, оказалась неспособной предотвратить новое чудовищное испытание человеческой цивилизации на прочность в ХХ в.: возникновение немецкого нацизма и Вторую мировую войну...
Франция заплатила за победу в Первой мировой страшную цену. Потери составили почти миллион погибших среди 19-миллионного мужского населения Франции. Наибольший урон, около одной трети, понесла самая молодая возрастная группа солдат - 18-25 лет. Французская пехота лишилась почти четверти боевого состава. Многие из погибших не успели жениться, и множество молодых француженок так и не познали счастья замужества. Вдовий траур в годы войны надели около 630 тыс. женщин. В 1921 г. во Франции на каждых девять мужчин 20-39 лет приходилось одиннадцать женщин. Почти три миллиона французских военнослужащих получили ранения, то есть большинство участвовавших в войне были ранены хотя бы однажды. Многие из 800 тыс., получивших тяжелые увечья, после демобилизации предпочли не травмировать родных своим видом. Они поселились в многочисленных домах инвалидов или в специально возведенных французским правительством и благотворительными католическими организациями поселках. Экономика Франции понесла серьёзные убытки, исчисляемые в пределах 19 % национального богатства.
Период между двумя мировыми войнами стал для Франции испытанием на прочность. Ее экономике пришлось выдержать удар мирового экономического кризиса 1929-33 гг., вошедшего в историю под мрачноватым названием "великая депрессия". Во Францию он пришел несколько позднее, чем в другие ведущие европейские страны и в США, однако был более продолжительным и глубоким. Под влиянием массовой безработицы среди рабочего класса и стремительного обнищания мелких и средних буржуа во Франции началась резкая радикализация общества. Традиционным французским общественным ценностям - либерализму, гуманизму и терпимости - предстояло выдержать мощный удар справа от местных разновидностей фашистской идеологии, и слева - от коммунизма.
В 1920 г., на волне роста популярности коммунистического учения и интереса к российской Октябрьской революции, на фундаменте основанной в начале века Жаном Жоресом газеты "Юманите" была создана Французская коммунистическая партия (ФКП). В кратчайшие сроки она объединила в своих рядах не только сотни тысяч эксплуатируемых промышленных рабочих и жаждавших социальной справедливости студентов, но и множество интеллектуалов: литераторов-сюрреалистов, философов, социологов и журналистов. Многие историки не без основания считают, что ФКП получала поддержку от советских спецслужб. На фоне развернувшейся борьбы за улучшение положения рабочего класса росла популярность и других социалистических организаций - Французской секции Рабочего интернационала (СФИО), троцкистов, анархо-синдикалистов...
В противовес левым радикалам после Первой мировой войны во Франции стали возникать различные организации ультраправого толка, исповедовавшие националистическую, клерикальную и реакционную идеологию, а также антикоммунизм и антисемитизм. Их социальную базу представляли мелкая и средняя буржуазия, часть учащейся молодежи, некоторые ветеранские и католические круги. Кстати, интеллектуалов хватало и на правом фланге, а некоторые крупные промышленники оказывали этому движению финансовую и лоббистскую поддержку. До середины 1920-х гг. ни одна из этих групп не была фашистской, однако обострение конфликта во французском обществе неуклонно вело их к фашизму. После 1925 г. в этой среде распространилось подражание Муссолини с неизбежными военизированными отрядами в эффектно-зловещей униформе, "римским салютом" и призывами к "походу на Париж".
К открытому столкновению левых и правых сил привели события вокруг т.н. "Дела Ставиского". Финансист еврейского происхождения Ставиский организовал множество крупных афер, пользуясь поддержкой некоторых парламентариев и руководителей радикально-социалистической партии, находившейся тогда у власти. После того, как махинации Ставиского вскрылись, фашистские организации "Французское действие", "Огненные кресты" и им подобные назначили на 6 февраля 1934 г. демонстрацию протеста на площади Согласия в Париже. Демонстрация, собравшая около 40 тыс. правых боевиков, быстро переросла в мятеж: была предпринята попытка захвата Бурбонского дворца - резиденции Национального собрания, прозвучали призывы к созданию правительства крайне правых. Завязались ожесточенные стычки между фашистами, силами правопорядка и наскоро сформированными отрядами левых, в которых погибли 16 человек и были сотни раненых. Полиция и жандармерия за несколько дней с трудом сумели взять ситуацию под контроль. Левые обвинили организаторов демонстрации 6 февраля в фашистском заговоре против республики, в подготовке "похода на Париж" по примеру "похода на Рим" чернорубашечников Муссолини.
Подавление фашистского путча вызвало заметный рост влияния левых партий СФИО и ФКП, объединившихся с рядом союзных им движений в Народный фронт. Его программа была ориентирована на нужды и чаяния простых французов: создание национального фонда безработицы, сокращение рабочей недели, увеличение числа рабочих мест, уменьшение пенсионного возраста, организация масштабных общественных работ и т.д. 4 июля 1936 года было создано первое правительство Народного фронта во главе с социалистом Леоном Блюмом. После этого большая часть положений программы Народного фронта были приняты Национальным собранием Франции в качестве соответствующих законов. Фашистские организации были распущены. Это стало блестящим, но кратким триумфом левых сил.
Экономическое и финансовое положение Франции продолжало ухудшаться. Левому кабинету не удалось найти компромисса с крупным капиталом, что привело к правительственному кризису. Второй кабинет Леона Блюма был вынужден начать свертывание политики Народного фронта, а сформированное в апреле 1938 г. правительство Эдуарда Даладье получило от Национального собрания полномочия окончательно отказаться от социальной программы левых. Некоторое оживление в экономике страны накануне Второй мировой войны было достигнуто им за счет государственных ассигнований на военное строительство.
Верная союзническим обязательствам, Франция вступила во Вторую мировую войну следом за Великобританией 3 сентября 1939 г., через три дня после нападения гитлеровской Германии на Польшу. Была объявлена мобилизация, оторвавшая от привычных дел и облачившая в мешковатое защитное обмундирование почти два миллиона французов. Однако о патриотическом подъеме, подобном 1914 г., в 1939-1940 гг. нечего было и говорить. Разобщенное между левым и правым лагерями французское общество не понимало необходимости войны. Коммунисты, ориентировавшиеся на СССР, связанный в то время пактом о ненападении с Германией, бойкотировали призывные мероприятия и вели антивоенную агитацию. Не рвались в бой и правые, многие из которых откровенно симпатизировали Гитлеру.
Однако Французская армия представляла собой внушительную силу. К началу активной фазы боевых действий на территории метрополии было отмобилизовано 72 пехотных, 8 кавалерийских 6 легких механизированных и моторизованных, 3 бронетанковые и 3 крепостные дивизии, насчитывавшие до 2 330 тыс. военнослужащих. На вооружении Французской армии находилось до трех с половиной тысяч вполне современных танков, в том числе около 400 тяжелых бронированных монстров класса В1 (у гитлеровцев тяжелых танков в 1940 г. вообще не было) и примерно столько же отличных средних танков "Сомуа" (превосходивших германские аналоги). Авиация располагала 1 648 самолетами, в том числе сотнями отличных истребителей "Девуатин", способных успешно бороться со всеми видами самолетов противника. Традиционно сильна была французская артиллерия, хотя зенитных орудий явно недоставало. Мощную силу представлял собою военный флот, располагавший прекрасными кораблями всех классов. От Германии Франция отгородилась неприступными укреплениями линии Мажино, построенной в 1929-34 гг. и ощетинившейся фортами, дотами, опорными пунктами и инженерными заграждениями почти на 400 км. по всей протяженности границы.
При грамотном руководстве Французская армия была способна дать отпор агрессору. Однако именно этого руководства ей и не хватало. Генералитет, большую часть которого составляли 60-80-летние старцы, мыслившие устаревшими категориями Первой мировой, погряз в формализме и бюрократии, а на старшие офицерские должности зачастую пробивались некомпетентные карьеристы. Надеясь отсидеться в глухой обороне за линией Мажино, французские стратеги не предпринимали никаких активных действий против Германии вплоть до мая 1940 г. (если не считать неудачного ограниченного наступления в Саарской области в сентябре 1939 и отправки незначительного контингента войск в Норвегию), пока война властно и жестоко не постучалась в ворота Франции. Вернее, вломилась в нее с черного хода.
10 мая 1940 г. 104 пехотных, 10 танковых и 9 моторизованных дивизий нацистской Германии, развернутых на Западном фронте, при поддержке двух воздушных флотов люфтваффе пришли в движение. Копируя сценарий 1914 г., гитлеровские стратеги нанесли главный удар в обход укреплений линии Мажино, через территорию нейтральных Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Как и 26 лет назад, французское командование оказалось не готово к подобному развитию событий. Поспешно брошенные в Бельгию и Голландию французские и британские экспедиционные части были разгромлены за считанные дни, и гитлеровские ударные соединения вырвались на оперативный простор в Северной Франции. Около 400 тыс. британских, французских и бельгийских солдат к 26 мая оказались прижатыми к берегу Северного моря в районе города Дюнкерк близ франко-бельгийской границы. Англичан спасло то обстоятельство, что Гитлер рассчитывал на заключение сепаратного мира с Великобританией, и его танки прекратили наступление на окруженную группировку. В ходе беспрецедентной по масштабам эвакуации британскому и французскому флотам и сотням частновладельческих малых судов местных жителей удалось эвакуировать на Британские острова 215 тыс. британских и 123 тыс. французских и бельгийских военнослужащих. Все тяжелое вооружение было брошено в песчаных дюнах под Дюнкерком и досталось врагу.
Отчаянная попытка французского командования в начале июня стабилизировать линию фронта, организовав оборону от устья реки Сомма до линии Мажино, провалилась. Германские танковые и механизированные части при мощной поддержке с воздуха прорвали фронт во многих местах и устремились на Париж и в центральную Францию. События на театре военных действий развивались с катастрофической быстротой. Гитлеровцы навязали Французской армии свой сокрушительный боевой стиль "блицкрига", противостоять которому косный и некомпетентный французский генералитет оказался абсолютно неспособен. Правительство и военное командование Франции охватила паническая растерянность. Президент Рейно, члены его кабинета и высокопоставленные генералы поспешно бежали из Парижа на юг страны, напоследок объявив гордую столицу Франции "открытым городом" якобы для ее спасения от ужасов войны. 14 июня передовые части Вермахта без боя вступили на парижские улицы. После этого война приобрела характер победного шествия гитлеровцев по французской земле.
Утверждать, что Франция в мае-июне 1940 г. пала без борьбы, было бы не честно по отношению к 85-ти тысячам ее защитников, которые погибли, пытаясь остановить врага. История этой скоротечной кампании знает немало примеров подлинного мужества французских солдат и офицеров. Отчаянно дрались в первые дни войны в Бельгии части Французского кавалерийского корпуса, жертвовавшие собой, чтобы прикрыть развертывание армии. Успешное сопротивление оказывали танкисты, не раз наносившие чувствительные поражения гитлеровским "панцерваффе". Храбро сражались летчики, честно выполняли свой долг кадровые военные, число которых среди убитых и раненых достигало трети. Однако предотвратить катастрофу страны это не могло. 16 июня перед лицом неизбежного поражения правительство Франции ушло в отставку. Сформировавший новый кабинет 84-летний маршал Петен, ставший для французов символом пораженческих настроений и коллаборационизма, попросил у Гитлера мира.
22 июня 1940 г. Франция капитулировала. Более полутора миллионов французских военных оказались в плену, и для многих из них он продлился пять бесконечных лет. Чтобы еще больше унизить проигравших, Гитлер приказал вывести из музея вагон, в котором в 1918 г. было подписано перемирие в Компьенском лесу, и теперь начальник штаба гитлеровского верховного командования фельдмаршал Кейтель высокомерно принял в нем сломанный меч Франции...
Не по-союзнически повели себя в те дни британцы, которые, во избежание захвата главных сил Французского флота немцами, атаковали французские корабли на их базе в Марс-эль-Кебир в Алжире. В результате этого предательского нападения был потоплен линкор "Бретань", повреждены многие другие корабли и погибли около 1 300 французских моряков. Взаимное доверие между англичанами и французами так и не были после этого восстановлены до конца войны.
После заключения перемирия Франция оказалась разделенной на две зоны - северную, оккупированную, на территории которой проживало более 65% населения страны и где была сосредоточена большая часть ее экономического потенциала, и южную, "свободную" со столицей в Виши, на которой обосновался сотрудничавший с нацистской Германией режим маршала Петена - так называемый "режим Виши". Справедливости ради следует отметить, что гитлеровский оккупационный режим во Франции на первых порах был гораздо менее жестким, чем, например, на захваченных советских территориях, в Югославии или в Польше. Тем не менее, французам было суждено пережить все унижения и ужасы гитлеровского владычества. Сотни тысяч людей были брошены в тюрьмы и концентрационные лагеря, десятки тысяч - казнены гитлеровцами и их пособниками-коллаборационистами.
Ужасной оказалась судьба французских евреев, разделивших общеевропейскую трагедию своего народа. Число жертв Холокоста во Франции колеблется, по различным данным, от 76 до 150 тыс. человек. К сожалению, несмотря на самоотверженную помощь многих честных французов, спасавших евреев, зачастую ценой своей жизни, в стране были более распространены противоположные явления. Многие чины французской полиции и жандармерии малодушно выполнили приказ оккупантов и приняли участие в депортации евреев с оккупированной территории в нацистские лагеря смерти. Активно участвовали в этом кошмаре и участники французских фашистских организаций. После нападения Германии на СССР репрессии гитлеровцев не обошли стороной и российскую эмиграцию во Франции. Многие ее представители, в том числе видные интеллектуалы и выходцы из аристократических родов, были арестованы оккупантами "в превентивном порядке" и брошены в печально знаменитый лагерь в Компьене.
Бурным цветом расцвел в стране коллаборационизм, и он навсегда останется позорным пятном на лике Франции. Сотрудничество с нацистскими оккупантами принимало самые разные уродливые формы - от экономических (все слои французской буржуазии запятнали себя выполнением оборонных заказов и поставок в интересах гитлеровской Германии) и "шкурных" (доносительство, "дружба" с немцами) до создания французских вооруженных формирований, воевавших за Гитлера - позорно известной 33-й дивизии СС «Шарлемань», 638-й пехотного полка (т.н. "французского легиона") на Восточном фронте, различных полицейских и охранных структур в оккупированной Франции. Уроженцы Эльзаса и Лотарингии служили в вооруженных силах гитлеровской Германии "на общих основаниях"; правда, попав в плен, они быстро "перекрашивались" во французов, надеясь получить лучшее обращение. Так в советском плену к концу войны находилось более 23 тыс. таких "французов" и, наверное, сопоставимое количество в плену у Союзников. В подобных условиях большинство французов заняли в годы войны пассивную выжидательную и выживательную позицию, которая несколько изменилась только после высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 г.
Однако свободолюбивый дух Франции не был сломлен военным поражением 1940 г. Генерал Шарль де Голль, 49-летний удачливый командир бронетанковой дивизии, эвакуировался в Великобританию и 18 июня 1940 г. обратился к соотечественникам по радио, призывая их продолжать сопротивление. "Франция проиграла сражение, но она не проиграла войну! - говорил де Голль. - Настанет день, когда Франция вернёт свободу и величие... Вот почему я обращаюсь ко всем французам объединиться вокруг меня во имя действия, самопожертвования и надежды". Он встал во главе "Свободной (позднее - "Сражающейся") Франции" - организации, возглавившей отпор оккупантам и их приспешникам.
В стране развернулось движение Сопротивления, начинавшее с переброски за границу добровольцев, ехавших сражаться в части генерала де Голля, и выпуска нелегальных листовок и газет, и достигшее к концу войны уровня полномасштабной партизанской войны в лесистых и горных районах и антифашистских восстаний в городах. Существенной слабостью этих самоотверженных борцов был их крайне неоднородный состав и отсутствие единства. В рядах Сопротивления оказались военные и гражданские патриоты, социалисты и коммунисты, сторонники генерала де Голля и ветераны Гражданской войны в Испании, националисты и католики, еврейские боевые группы и бежавшие из плена советские или польские военнослужащие.
Несмотря на относительную невысокую, по сравнению с советскими или югославскими партизанами, эффективность своих действий, бойцы подпольной Франции смело жертвовали жизнью во имя чести и освобождения своей страны. Историки подсчитали, что в 1940-44 гг. в боях с оккупантами и в нацистских застенках погибли около 60 тыс. участников французского Сопротивления.
Немалый вклад в победу Антигитлеровской коалиции внесли и воинские части "Сражающейся Франции", сформированные генералом де Голлем в эмиграции. Солдаты и офицеры, носившие на форме эмблему лотарингского креста, ставшего символом не сдавшейся Франции, доблестно воевали плечом к плечу с войсками Союзников в Северной Африке, участвовали в операциях по захвату англо-американскими силами у режима Виши французских колоний на Ближнем Востоке и в Африке в 1941-42 гг., высаживались в Италии в 1943 г. Французские летчики участвовали в воздушной обороне Британских островов и в стратегических бомбардировках Германии, а отдельная истребительная эскадрилья (позднее - полк) "Нормандия-Неман" сражалась в 1943-45 гг. на советско-германском фронте. К 1944 г. в составе сухопутных, военно-воздушных и военно-морских частей "Сражающейся Франции" насчитывалось свыше 400 тыс. человек. Для сравнения: гитлеровцам удалось привлечь в различные коллаборационистские формирования, отправленные на Восточный фронт, считанные тысячи французов (не эльзасцев), преимущественно членов фашистских организаций.
Освобождение Франции началось 6 июня 1944 г. после успешной высадки войск Союзников в Нормандии. Тогда, вместе с американскими, британскими, канадскими солдатами на родную землю вступили более 300 тыс. французских военнослужащих. Кульминацией битвы за Францию стало мощное антифашистское восстание в Париже, вспыхнувшее 19 августа 1944 г. Бойцы французского Сопротивления, к которым в решающий момент подошла на помощь 2-я бронетанковая дивизия "Сражающейся Франции" во главе с генералом Леклерком и американские части, в ожесточенных уличных боях подавили сопротивление немецкого гарнизона. 25 августа Париж вновь вдохнул воздух свободы, и вскоре в город прибыл генерал де Голль, встреченный ликующими толпами французов.
К концу войны Франции вновь удалось развернуть 1,3-миллионные вооруженные силы, которые закончили свой боевой путь на территории побежденной Германии. К 8 мая 1945 г. в руках французских военных находилось около 240 тыс. немецких военнопленных.
Когда 8 мая 1945 г. гитлеровский фельдмаршал Кейтель подписывал акт о безоговорочной капитуляции Германии, он со злобой увидел среди делегации Союзников офицеров во французской форме. Вероятно, в ту минуту ему вспомнились 22 июня 1940 года, "компьенский" вагон и постыдная попытка унизить честь Франции, закончившаяся для нацистов крахом.
___________________________________________________Михаил Кожемякин.
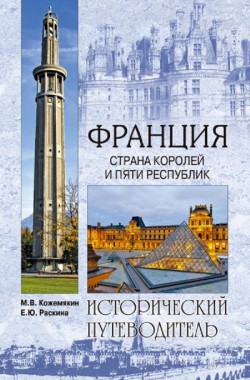





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

