Читать онлайн "Эффект наблюдателя"
Глава: "Эффект наблюдателя"
24 ноября
Думаю, это моя последняя запись. Писать становится всё труднее — буквы расплываются, бумага теряет плотность, даже огонь в печке больше не даёт цвета, только серый отсвет на стенах. Это становится почти невозможно. Чернила больше не спорят с белизной страницы, они лежат на ней, как тень на тени. Сам акт выведения букв требует усилий, будто я процарапываю их на поверхности замерзшей ртути. Все сливается в единый серый шум — и бумага, и пламя в печи, и мир за окном.
Если кто-то когда-нибудь найдёт эти страницы — пусть знает: я пыталась помнить. Но память тоже выцветает.
Падма сидит у огня, прижавшись к Леше. Её глаза, когда-то похожие на два темных, глубоких озера, теперь — просто два пятна тумана на бледном лице. Леша молчит уже вторые сутки. Молчание стало его способом заботы. Он молча подкладывает дрова в печь. Молча укрывает девочку одеялом. И молча, уже в третий раз, перечитывает дедушкину книгу, водя пальцем по строчкам, которые для меня давно рассыпались в пыль. Я уже не понимаю, что он там ищет — слова теряют смысл, строчки сливаются в одну бледную полосу. Не понимаю. Возможно, он помнит всю книгу наизусть. Или, может быть, он ищет в словах, которые там написаны, не смысл, а лишь привычный ритуал, последнее доказательство того, что порядок когда-то существовал.
Из деревни уже неделю не доносится ни звука. Она стала совсем другой.
Когда мы приехали сюда, казалось, вечность назад, она звенела жизнью. Острая, почти болезненная синева неба. Кричащие цвета молитвенных флажков на ветру — синий, белый, красный, зеленый, желтый, каждый цвет был отдельной нотой в общей песне. Воздух пах кизяком, можжевельником и топленым маслом. Жизнь была в каждом камне, в морщинах на лицах стариков, в звоне колокольчиков на шеях яков.
Я почти не помню, как выглядели лица людей, которые были здесь. Иногда мне кажется, что их никогда и не было. Только мы трое, печка и этот дневник, который скоро исчезнет вместе со мной.
Теперь деревня — это эскиз, набросанный углем на сером картоне. Флажки — просто выцветшие лоскуты ткани, одного тона с небом. Звуки умерли первыми, как будто годы назад. За ними последовали запахи. Теперь уходит цвет. Остался только шум. Не гул ветра, не шорох снега. Просто фоновый шум бытия, потерявшего все свои свойства.
Леша ищет в дедушкином триптихе ответ. А я думаю, что текст и был ответом.
Мы просто дошли до его последней страницы.
1 ноября
Три недели назад автобус, похожий на усталого разноцветного жука, умер на последнем перевале. Он зашипел, дернулся и затих, выпустив из-под капота облако пара, которое тут же смешалось с разреженным воздухом. Дальше — только пешком.
Полина вдохнула полной грудью. Воздух был тонким, холодным и таким чистым, что, казалось, обжигал легкие. Вокруг, до самого горизонта, простирались горы — немые, седые гиганты, подпирающие небо цвета самого дорогого синего фарфора. Здесь, на высоте четырех тысяч метров, мир выглядел первозданным, только что сотворенным.
— Кислорода... мне не хватает кислорода, — пропыхтел Сергей, бледный студент, прижимая к груди ингалятор, словно тот был последним артефактом ушедшей цивилизации. Но он был вполне счастлив — впервые за долгое время его никто не торопил и не требовал быть «на уровне».
— Дыши глубже, мальчик, — беззлобно усмехнулся Дмитрий Станиславович, подтягивая лямки рюкзака. Его жена, Наталья Сергеевна, маленькая и сухонькая, как горная птица, уже указывала вперед.
— Смотрите! Кажется, это она.
Внизу, в чаше долины, прилепилась к склону деревня. Издалека она походила на горсть брошенных кем-то камней. Но когда они подошли ближе, камни ожили. Зазвенели колокольчики на шеях косматых яков, заскрипели молитвенные барабаны, и им навстречу, смеясь и крича, высыпала ватага ребятишек в ярких, заношенных одеждах. Их лица были обветрены, темны от загара, а глаза сияли живым, непуганым любопытством.
Среди них была и она, Падма. Она не кричала, а стояла чуть в стороне, серьезно разглядывая пришельцев своими черными, глубокими, как ночь, глазами.
Их встретили радушно, без лишних вопросов. Словно они были не чужаками, а давно ушедшими и наконец вернувшимися родственниками. Наталья Сергеевна и Дмитрий Станиславович, сверяясь с потрепанным русско-тибетским разговорником, пытались выстроить фразу приветствия, и их лица сияли восторгом первооткрывателей. Тибетцы кивали, улыбались морщинистыми лицами, на которых жизнь прочертила карту высохших рек, и вели их в самый большой дом.
Алексей Мальянов шел молча, как и всегда. Он не смотрел на людей. Его взгляд инженера цеплялся за детали: за то, как сложены стены домов из камня и глины, за хитроумную систему деревянных желобов, по которым с гор сбегала вода, за то, как устроены бездымные печи. Он видел не экзотику, а функцию, выверенную веками логику выживания.
Их усадили на низкие скамьи и угостили чаем. Часуйма. Густой, соленый напиток с топленым маслом и молоком яка. Он пах дымом и чем-то копченым, и с первого глотка обволакивал внутренности странным, диким теплом. Сергей поморщился, Полина же пила медленно, пытаясь распробовать этот вкус — вкус самого места, древнего и чужого.
Их поселили в пустующем доме на краю деревни. Дом был пустой, но не заброшенный: на стенах висели фотографии, в углу стоял резной сундук, пахло топлёным маслом и можжевельником. Хозяева, как объяснили им жестами и ломаными фразами из разговорника, год назад перебрались в Лхасу, к цивилизации, оставив всё как есть, будто собирались вернуться завтра. Большая часть их туристической группы осталась там же — они побоялись ехать дальше на старом автобусе, предпочтя комфорт отеля этому последнему, самому дикому отрезку пути.
Вечером Полина вышла на крыльцо. Небо стало темно-фиолетовым, и на нем одна за другой зажигались звезды — огромные, яркие, близкие. Из деревни доносились приглушенные звуки: чей-то гортанный смех, лай собаки, тихий напев молитвы. Все было наполнено миром и покоем. Никаких предчувствий. Никаких знамений. Просто еще один вечер на крыше мира.
Автобус должен был вернуться через три дня. У них было ровно три дня абсолютной, звенящей свободы. Полина улыбнулась своим мыслям. Здесь, под этим неправдоподобно звездным небом, ее собственная жизнь в Москве — с разводом, работой, одинокими вечерами — казалась далекой и совершенно необязательной.
2 ноября
Утро. Солнце здесь не греет, а стерилизует, заливая долину резким, белым светом. Воздух неподвижен. Тишина такая плотная, что в ней можно расслышать, как бьется собственное сердце. Спала плохо, снились какие-то графики и схемы, остатки моей московской жизни.
В самолете, пока мы летели над бесконечными облаками, я перечитывала дедушкин триптих «Мэйхуа». В юности эта книга казалась мне откровением — как будто дед, всю жизнь проживший в Балашихе, вдруг увидел и понял что-то такое, что не дано было никому вокруг. Китай, Япония, чужие города, чужие судьбы, чужие слова — всё это казалось мне тогда невероятно важным, почти мистическим. Я зачитывалась его описаниями, искала в них ответы на свои вопросы, которых тогда было слишком много. Это было пьяняще, как первое дешевое вино. Я ходила и чувствовала себя посвященной, видящей скрытые смыслы в узорах на обоях.
А сейчас... Вся его Азия была придумана за кухонным столом, между чаем и просмотром новостей. Он писал о Китае и Японии, а на самом деле — о себе, о своих страхах и надеждах, которые так и не нашли выхода. Дед, очевидно, был очарован идеей дурной бесконечности, как змея, кусающая свой хвост. Он описывает миры, вложенные друг в друга, как матрешки. Красивая метафора для человека, который всю жизнь прожил в одной и той же квартире. Его вселенная была так мала, что ему приходилось выдумывать другие, чтобы в ней не задохнуться.
В семнадцать лет такие книги кажутся откровением. В сорок — диагнозом. Диагнозом человека, которому собственная жизнь казалась слишком тесной. Но что, если эта тесная жизнь — тоже вымысел? Что, если дед выдумал не Азию, а Балашиху?
Алексей с утра пытался поймать спутник. Бесполезно. «Старлинк» ведет себя странно. Сигнал на терминале появляется на несколько секунд, мощный, уверенный, а потом тает, словно его и не было. Один раз ему удалось загрузить главную страницу новостного сайта — она проступила на экране наполовину, как старая фреска, и замерла в виде бессмысленного набора пикселей и обрывков заголовков - сообщения, которые больше похожи на помехи. Позвонить так никому и не удалось.
Дмитрий Станиславович и Наталья Сергеевна только радуются. «Цифровой детокс, Полина! Наконец-то!». Сергей ноет, что не может запостить фото в инстаграм. Алексей хмурится и молча ковыряется в настройках. Он единственный, кого это по-настоящему тревожит. Его инженерная душа не терпит иррациональных сбоев.
А я… я чувствую странное спокойствие. Будто мир нас просто отключил от сети, как надоевшую периферию. Дед бы сказал, что это первый сбой в Матрице. А я думаю, просто плохой провайдер на крыше мира. И, честно говоря, мне все равно. Может быть, впервые за много лет.
2 ноября
Днем они отправились в гомпу — местный маленький монастырь, прилепившийся к скале, как осиное гнездо. Дорога к нему шла круто вверх, мимо ступ, увешанных выцветшими флажками, и плоских камней с выбитыми на них мантрами. Внутри пахло топленым маслом, можжевельником и веками. В полумраке главного зала, освещенного лишь узкими окнами под потолком, золотом тускло поблескивали статуи божеств — многоруких, гневных и безмятежных. Их лица, скрытые в тени, казалось, наблюдали за пришельцами с нечеловеческим спокойствием. На стенах — ряды молитвенных флагов, выцветших до почти прозрачности, и росписи, где краски давно смешались в одну охристую гамму. В углу — бронзовый барабан, на котором кто-то из местных негромко отбивал ритм, похожий на биение сердца.
Дмитрий Станиславович и Наталья Сергеевна ходили по залу с благоговейным шепотом, сверяясь с путеводителем и пытаясь прочесть имена на танка — старинных свитках, изображавших сцены из жизней святых. Сергей фотографировал все подряд на телефон, жалуясь, что без вспышки получается слишком темно. Полина просто стояла посреди зала, ощущая, как давит на нее эта древняя, чужая вера. Она чувствовала себя здесь не просто чужой — она чувствовала себя прозрачной, несущественной.
Когда они вышли обратно на слепящий свет, Алексей поравнялся с ней.
— Я заметил у вас книгу, — сказал он тихо, почти не разжимая губ. — Вы её читаете?
Полина вздрогнула от неожиданности:
— Взяла с собой в дорогу. Её написал мой дед.
Алексей удивился, даже остановился на мгновение:
— Ваш дед? Я читал эту книгу. Мне очень понравилось.
— В молодости и мне казалось, что это что-то особенное, — ответила Полина. — Сейчас воспринимаю иначе. Мама рассказывала, что дедушка хотел написать киносценарий, после того как посмотрел какой-то китайский сериал. Несколько лет обдумывал, а потом вдруг написал сначала один «микророман», потом второй, а потом и третий — буквально за пару месяцев, будто кто-то диктовал.
Алексей кивнул, глядя куда-то в сторону заснеженных вершин.
— Можно, я возьму почитать? Может, я тоже сейчас взгляну на нее иначе. Когда я читал её, то почему-то представлял на месте одного из героев своего деда. Он занимался наукой, физикой. А потом, после нескольких странных происшествий, все бросил и замкнулся в себе.
Он помолчал, а потом добавил с кривой усмешкой:
— Наверное, не мы выбираем дороги, а дороги выбирают нас.
В этот момент к ним подошел староста, господин Чжасчи-тобгял — высокий, сухой старик с лицом, похожим на печеное яблоко. Рядом с ним трусила огромная лохматая собака, похожая на медвежонка. За ее хвост, как за веревку, хихикая, держалась Падма.
Староста, помогая себе жестами, заговорил. Наталья Сергеевна, заглядывая в разговорник, переводила с паузами:
— Он говорит... по телевизору... рассказывают странные вещи. По всему миру... перебои со связью. И телевизор у них барахлит, хоть и новый. Иногда... вместо цветной картинки... черно-белая. А иногда экран просто... тускнеет.
Пока он говорил, собака вдруг замерла. Шерсть на её загривке встала дыбом. Она глухо зарычала, глядя в пустоту, а потом, сорвавшись с места, с громким, испуганным лаем бросилась куда-то вниз по тропе. Падма уже было кинулась за ней, но староста властно остановил ее жестом.
— Он говорит... оставайся с белыми людьми, — перевела Наталья Сергеевна. — Они тебя отведут домой. А собаку он сам найдет.
Старик кивнул им, развернулся и быстро, не по-стариковски, зашагал по тропе вслед за лаем, который становился все дальше и глуше, пока совсем не затих. Падма послушно осталась рядом с ними, но всё время смотрела в ту сторону, куда убежала собака. Ее лицо было серьезным и настороженным.
2 ноября
Дала книгу Алексею. Сейчас он у окна, читает. Странно. Он инженер, человек схем и систем, практик до мозга костей. Что он может найти в этом витиеватом, метафоричном тексте, в этой игре в бисер, придуманной другим инженером, который отчаянно хотел быть поэтом? Может быть, потому что в ней всё устроено по каким-то своим, скрытым законам, как в сложной схеме, где каждый элемент на своём месте, даже если снаружи кажется хаосом. Или потому, что технари — самые большие мечтатели, только мечтают они о порядке.
А что со мной случилось? Куда делась та девочка, которая в семнадцать лет читала эти же строки, запершись в своей комнате, и не могла сдержать слёз? Она верила каждому слову. Она плакала над судьбой Мэй, над одиночеством Вана, над самой идеей, что мир может быть жестоким и несправедливым. Которая верила, что слова могут менять реальность, что книги — это ключи к другим мирам, а не просто способ убежать от своего. Когда я разучилась плакать над книгами? Когда перестала верить, что всё ещё впереди? Где она потерялась? Разбилась о развод, высохла в бесконечных социологических отчетах, задохнулась в московском смоге?
Может быть, это и есть взросление — когда даже самые сильные чувства становятся воспоминаниями, а воспоминания — просто словами на бумаге. Или это усталость, накопившаяся за годы, когда каждый день похож на предыдущий, и даже чудо кажется чем-то неудобным, неуместным.
Деревня уже спит. За окном темно. Ни староста, ни собака не вернулись.
Тишина. Сон не идёт. Всё кажется чужим, даже собственные мысли.
3 ноября
Утро выдалось холодным и прозрачным, как стекло. Полина вышла на крыльцо — Алексей уже сидел на лавке, с книгой на коленях. Он явно не спал всю ночь: глаза покраснели, движения стали медленнее, чем обычно.
— Как впечатление? — спросила она тихо, чтобы не нарушить хрупкое утреннее безмолвие.
Алексей медленно повернул к ней усталое, но ясное лицо.
— Удивительно, — сказал Алексей. — Когда читаешь второй раз и знаешь, что её написал твой дедушка, триптих кажется даже интереснее и глубже. Я всё время ловил себя на мысли: как он смог создать такой мир, настолько живой и реальный? Это не просто описание событий — он будто сам строил историю, кирпичик за кирпичиком, через судьбы своих героев. Поразительно, как он смог из ничего, из воздуха, создать целый мир. Настолько реалистичный, что в него веришь больше, чем...
Он неопределенно махнул рукой в сторону заснеженных гор.
— Да, — согласилась Полина. — Дедушка всегда говорил, что история — это не то, что случилось, а то, как мы это помним. Он не просто описывал — он создавал.
— Больше, чем создавал, — подхватил Алексей, и в его голосе появилась новая, напряженная нота. — Читатель становится не просто наблюдателем. Сопереживая героям, он сам творит этот мир вместе с автором. Заставляет его существовать. Как в квантовой физике — система коллапсирует в определенное состояние только в момент наблюдения. Пока смотришь — всё существует, исчезает — когда перестаёшь видеть. Он, кажется, это интуитивно понял.
Он встал и прошелся по комнате.
— Я ведь зачем сюда поехал... Чтобы попробовать снова видеть мир. В Москве, в последние годы... кроме чертежей, кода и схем уже ничего не волновало. Всё стало каким-то плоским, как на экране старого монитора. А здесь... — он снова замолчал.
Полина слушала его, и в этот момент с ней произошло что-то странное. Она почти физически ощутила, как фигура Алексея, стоящего у окна, на мгновение стала какой-то... блеклой. Словно его контуры стали менее четкими, а цвета в его одежде — менее насыщенными, будто он потерял цвет на фоне этого утреннего света. Может быть, это просто усталость, подумала она. А может, что-то другое.
В этот момент во дворе появился Сергей, запыхавшийся, с растрёпанными волосами и испуганными глазами. Его лицо было белее мела.
— Нашли старосту! — выдохнул он. — Он какой-то… другой. Молчит, не отвечает ни на что, и весь какой-то серый.
— А собака? — тихо спросила Полина.
— Нет…
3 ноября
Вечером вся деревня собралась в доме старосты. В центре комнаты, на низкой скамье, сидел сам Чжасчи-тобгял. Он не был похож на больного или сумасшедшего. Он был похож на предмет. Статуя из серой пыли, чьи глаза смотрели сквозь стены, сквозь горы, сквозь саму реальность.
Для туристов это было чистое, незамутненное этнографическое зрелище. Сергей достал телефон, в расчете снять хорошее виде для ютуба. Дмитрий Станиславович и Наталья Сергеевна сели в углу, приняв позы уважительных наблюдателей на научном симпозиуме. Полина, как социолог, чувствовала почти профессиональный восторг. Классический ритуал изгнания, апотропеическая магия, попытка сообщества восстановить нарушенный порядок через символическое действо. Она мысленно делала пометки.
Появился шаман. Не величественный старец из фильмов, а маленький, сухой, похожий на корень имбиря человек с беспокойными глазами. Он двигался без суеты, раскладывая свои атрибуты: бронзовую чашу с мутной водой, связки сушеных трав, маленький барабан из туго натянутой кожи.
И ритуал начался.
Сначала это было похоже на театр. Шаман ходил кругами, бормоча что-то гортанное и ритмичное. Он окуривал старосту дымом, который пах горько и сладко одновременно. Затем он взял барабан.
Первые удары были редкими, глухими. Как медленное сердцебиение. Тум... тум... тум... И с каждым новым ударом казалось, что воздух становится плотнее, а пространство — теснее. Жители деревни, сидевшие вдоль стен, подхватили этот ритм, начали раскачиваться, издавая низкий, гудящий звук в унисон — сначала тихо, потом всё громче, пока этот гул не стал похож на гудение улья. Полина продолжала анализировать. Создание единого звукового поля, введение участников в состояние легкого транса...
Но ритм ускорялся. Тум-тум. Тум-тум-тум. Голоса стали громче, настойчивее. Шаман начал двигаться быстрее, его движения стали резкими, рваными. Он уже не ходил, он танцевал — дикий, ломаный танец, танец борьбы. Он брызгал на старосту водой, бросал в него травы, выкрикивал слова, которые больше не были похожи на молитву, а на приказы, на брань, от которых у Полины по спине пробежал холодок.
Аналитический барьер Полины начал трещать. Звук был повсюду. Он проникал под кожу, вибрировал в костях, заставлял зубы ныть. Это был уже не ритуал. Это была атака. Атака звуком, запахом, движением на ту серую тишину, что поселилась в старосте. Сергей опустил телефон. Наталья Сергеевна вцепилась в руку мужа. Интеллектуальное любопытство сменилось первобытным, иррациональным вовлечением. Они больше не были зрителями. Они были внутри.
Шаман достиг пика. Он застыл перед старостой, подняв обе руки, и издал один, последний, пронзительный крик — крик, который, казалось, должен был расколоть саму ткань бытия.
И в этот момент все сломалось.
Это не было похоже на выключение света. Это было похоже на то, как из мира выкачали душу. Красные угли в очаге не погасли — они стали пепельно-серыми, сохранив форму, но утратив огонь. Яркие узоры на одеялах на стенах превратились в оттенки грязи. Золотые нити на одежде шамана стали похожи на тусклую солому. И звук. Звук не исчез, он истончился. Удары барабана, которые только что сотрясали грудную клетку, теперь звучали как стук сухого сучка по картонной коробке. Гудящий хор жителей деревни превратился в безэмоциональный, плоский гул, как от неисправного трансформатора.
Шаман опустил руки. Его танец прервался. Он смотрел на старосту, и в его глазах больше не было силы. Был только ужас. Он пытался изгнать серость, а вместо этого лишь доказал, что она сильнее.
В наступившей мертвой тишине староста сидел так же неподвижно, как и раньше. Ничего не изменилось.
Жители деревни медленно, как во сне, начали расходиться. Никто не смотрел друг на друга. Они молча вставали и выходили в серую ночь.
Полина сидела, не в силах пошевелиться. Ее социологические теории рассыпались в прах.
Это был не ритуал изгнания. Это был акт диагностики.
4 ноября
Утром я поняла, что дедушка, при всей его проницательности, ошибся в главном. Он описал бы нашу ситуацию, используя название одного из рассказов писателя, которого он почитал: «Сад расходящихся тропок». Множество вариантов будущего, разветвляющихся из каждой точки настоящего. Но он ошибся. Тропки не расходятся. Они исчезают, оставляя после себя лишь теоретическую возможность своего существования.
День начался с визита, который можно было бы счесть посланием из другого, параллельного мира, если бы не было очевидно, что и тот мир начал распадаться на бессвязные фрагменты. Пришли родители Падмы, ведя ее за руку. Их лица были спокойны, но это было спокойствие людей, переставших задавать вопросы и сосредоточившихся на практических задачах. Они принесли новости, полученные из старого радиоприемника, шипящего, как змея. В стране введено военное положение. Причина неизвестна. Информация была неполной, дефектной, как те обрывки новостей, что удавалось загрузить Алексею. Главный факт, единственная неоспоримая константа в этом уравнении: все транспортное сообщение остановлено. Автобуса не будет.
Мне показалось, что этот факт был воспринят всеми нами с неким извращенным облегчением. Неопределенность ожидания сменилась определенностью ловушки.
Затем последовало второе известие, еще более странное в своей обыденности. Родители Падмы, собираясь в райцентр на своем старом, дребезжащем мотоцикле за солью и свечами, попросили нас присмотреть за дочерью. «Падма хочет остаться с вами, если вы не против».
Мы, конечно, не возражали. Дмитрий Станиславович даже попытался пошутить, что теперь у нас есть «официальный гид по местным обычаям».
В этом не было ничего удивительного. Дети всегда тянутся к новому. Но в контексте происходящего этот акт — передача ребенка на попечение чужаков в момент кризиса — выглядел как передача последнего ценного манускрипта из осажденной библиотеки. Мне показалось, что это не она выбрала остаться с нами, а скорее некая высшая логика, или ее отсутствие, оставила нам этот артефакт, этот залог реальности, который мы теперь обязаны хранить.
Дмитрий Станиславович, пытаясь удержаться за привычную ткань бытия, задал практический вопрос: «А как староста?». Ответ был подобен отчету об неудачном научном эксперименте. Родители заходили к нему утром. В доме никого не было. Он исчез. Никто не видел, как он выходил. В маленькой деревне, где каждый шаг известен всем, человек просто перестал существовать в пределах своего жилища. Его исчезновение — это не загадка в духе Конан Дойля. Это логический парадокс. Вчерашний ритуал не был диагностикой. Это была аннигиляция.
После того как рокот мотоцикла затих вдали, оставив нас с молчащей девочкой, Сергей, в приступе деятельного отчаяния, предложил Алексею немыслимое. Поднять терминал «Старлинка» выше в горы. Его логика была логикой человека каменного века: чтобы увидеть дальше, нужно залезть выше.
Спор Сергея и Алексея, состоявшийся после, был похож на диспут двух схоластов о природе ангелов, в то время как собор вокруг них уже пожирал огонь. Алексей, с терпением человека, объясняющего ребенку законы термодинамики, изложил теорию:
— Дело не в высоте, Сергей, а в зоне покрытия спутника, в его траектории. Мы находимся в «мертвой зоне», в тени. Поднять терминал на пару сотен метров выше — это как пытаться докричаться до луны, взобравшись на стул. Это ничего не изменит.
Он был абсолютно прав с точки зрения своей инженерной вселенной. Но в нашей новой реальности его правота была так же бессмысленна, как и заблуждение Сергея. Они спорили о правилах игры, не понимая, что сама доска, на которой они играют, отсутствует.
Я смотрела на них и понимала: мы оказались заперты в лабиринте, у которого нет ни входа, ни выхода. Просто стены, между которыми обрываются все пути.
Ждём завтра.
5 ноября
Они нашли его на следующее утро, у подножия скалы, которую местные называли «Палец Демона». Но это был не Сергей.
То, на что они смотрели, было инсталляцией. Жестоким, бессмысленным произведением искусства, которое создала умирающая реальность. Он лежал на камнях не как человек, а как сломанная кукла, брошенная разгневанным ребенком. Его тело было изогнуто под невозможным углом, одна рука вытянута вверх, к небу, которое он так и не смог достать.
И цвета. Боже, цвета. В этом мире, который уже почти забыл, что такое цвет, его смерть была криком. Синий цвет его куртки был не просто синим — это был ядовитый, синтетический, болезненный ультрамарин, цвет, которого не бывает в природе. Он горел на фоне серых скал, как пролитая химическая краска. А кровь... она не была красной. Она была цвета перезрелой вишни, густой и лаковой, словно кто-то опрокинул банку эмали. Она не впитывалась в камни, а лежала на них чужеродным, глянцевым пятном. Кровь, если она была, не выглядела как кровь — скорее, как пятно ржавчины на старом железе, которое никто не чистил много лет. Даже сама земля под ним казалась не землёй, а битым стеклом или рассыпанным сахаром, сверкающим на тусклом солнце. Лицо обращено к небу, и в его глазах отражалось небо — не синее, а выцветшее, как акварель, размытая дождём. Его рот был приоткрыт, будто он пытался что-то сказать, но слова застряли где-то между горлом и облаками.
Рядом, в нескольких метрах, лежал терминал «Старлинка». Черный, разбитый, похожий на хитиновый панцирь мертвого гигантского жука. Его маленький светодиод, индикатор жизни, не горел. Он мигал. Мигал медленно и ровно, с идеальным интервалом. Но цвет его был неправильным. Не зеленым, не красным, не белым. Он был пурпурным. Неоновым, ядовитым цветом, которого Полина никогда не видела ни у одного электронного устройства.
Это была не трагедия. Это был сбой в коде. Глюк. Визуальная ошибка в рендеринге реальности, которая решила продемонстрировать свою агонию самым уродливым из возможных способов.
Подошедшие жители деревни, чьи лица были неотличимы от окружающих камней, рассказали все просто и буднично. Они искали заблудившегося яка. Увидели яркое пятно. Подошли. Вероятно, он полез наверх ночью. Поскользнулся. Упал. Их слова были из старого, понятного мира. Но они не имели никакого отношения к той сюрреалистической картине, что лежала перед ними.
И тогда, после первого шока, пришел настоящий ужас. Не метафизический, а до тошноты практический.
А что делать с телом?
Этот вопрос повис в разреженном воздухе. Дмитрий Станиславович, человек протокола и порядка, первым озвучил то, что крутилось в голове у каждого.
— Мы должны… мы должны следовать процедуре.
Но процедуры больше не существовало.
Сообщить родителям… но телефоны молчат. Связаться с посольством… но посольство — это абстракция, существующая где-то там, в мире, которого, возможно, уже нет. Отправить тело на родину… но нет ни самолетов, ни дорог, ни самой родины в том виде, в котором они ее помнили.
Они стояли над этим ярким, кричащим пятном смерти, и понимали: Его смерть была фактом. Она была материальна. Она была проблемой, которую нужно было решить.
6 ноября
Сегодня мне приснился Сергей. Не тот, что лежал на склоне, а другой — прозрачный, как вода, и в то же время плотный, как камень. Он не лежал на камнях. Он парил в серой, безвоздушной пустоте, как астронавт, у которого оборвался трос. Он был не мертв. Он выцветал. Сначала исчез ядовитый синий цвет его куртки, будто его смыли невидимым дождем. Потом испарилась лаковая вишня крови. Осталась лишь черно-белая фигура, как на негативе. А потом и черный с белым начали смешиваться, превращаясь в единую, безликую серую массу, которая медленно растворялась в окружающей серости.
Днем я нашла Алексея. Он сидел на крыльце и чертил что-то палочкой на замерзшей земле — какие-то формулы, диаграммы, похожие на кабалистические знаки. Он говорил долго, и его речь была похожа на бред сумасшедшего. Или на откровение.
Он рассказывал о каком-то Вечеровском, друге его деда, тоже физике. О его теории, которую они обсуждали ночами на кухне, пока их дети спали.
— Вечеровский говорил, что мироздание держится на двух столпах, — начал Алексей, не глядя на меня, его взгляд был прикован к собственным чертежам. — На законе неубывания энтропии, который ведет все к хаосу, и на развитии разума, который стремится к порядку. Если бы был только хаос, все бы распалось. Но если бы возобладал разум, всемогущий, непрерывно развивающийся, структура мироздания тоже бы нарушилась. Оно стало бы другим, потому что у такого разума может быть только одна цель: изменение природы самой Природы.
Он обвел один из своих символов.
— Поэтому суть «закона Вечеровского», как называл его мой дед, — это поддержание равновесия. Баланс. Гомеостаз. Поэтому, говорил он, нет и не может быть сверхцивилизаций в космосе. Потому что сверхцивилизация — это разум, который уже преодолевает энтропию в космических масштабах. А это — угроза равновесию. И то, что происходит сейчас с нами, сказал бы мой дед, — он впервые поднял на меня глаза, и они были абсолютно безумны и абсолютно ясны, — это не что иное, как реакция. Мироздание защищается. Оно нас... редактирует.
Он говорил это, и я видела перед собой двух стариков на прокуренной советской кухне, строящих грандиозные, параноидальные теории о Вселенной, потому что их собственная жизнь была слишком тесной и скучной. Наверное, мой дед отлично бы вписался в их компанию.
Алексей, помолчав, стер свои чертежи ногой.
— Но я думаю, они оба были неправы, — сказал он тихо. — И дед, и его Вечеровский. Они слишком хорошо думали о человеке. Они видели в нас угрозу, растущий разум. А мы... мы слишком поглощены собой. Мы предпочитаем говорить, а не слушать. Когда мы спрашиваем «как дела?», это лишь формальность, прелюдия к рассказу о себе, о своих достижениях, страхах, чувствах. Мы… каждый из нас… замкнутая система. Мы разучились наблюдать за миром, мы наблюдаем только за собственным отражением.
Он горько усмехнулся.
— А если это так, то зачем Мирозданию нам препятствовать? Зачем защищаться от того, кто не представляет угрозы? Мы не вирус. Мы просто... ненужная часть системы. Устаревшая программа, потребляющая ресурсы, но не дающая результата. И нас не надо стирать в наказание. Нас надо просто отправить в архив. За ненадобностью.
И я не знала, что ему ответить.
7 ноября
Утром Наталья Сергеевна сказала, что они с мужем собираются пойти в гомпу. Она не могла объяснить причину этого решения, как не может объяснить человек, почему ему снится тот или иной сон. Они просто чувствовали: надо идти. Возможно, это был зов ритуала, возможно — попытка найти смысл в исчезающем мире, возможно — просто привычка следовать маршруту, когда все маршруты уже потеряли значение.
Они хотели, чтобы Падма пошла с ними. Девочка стояла у окна, и её лицо было непроницаемо, как маска. Она категорически отказалась. Не плакала, не спорила, просто шагнула назад и прижалась к Алексею. Это движение было неосознанным, почти инстинктивным, как у животного, выбирающего укрытие перед бурей.
Полина наблюдала за этим с удивлением. Почему к нему, а не ко мне? — подумала она. Девочка выбрала не её, женщину, чья природа предполагала заботу. Она выбрала Алексея. Человека, который сам превращался в абстракцию, в набор формул и теорий. Возможно, в этом и заключалась логика. Ребенок искал защиты не у тепла, которое угасало, а у холодной, ясной структуры, у последнего островка порядка, пусть даже этот порядок был порядком безумия. Или, что более вероятно, она инстинктивно чувствовала то, чего еще не понимала Полина: Алексей, говорящий о ненужности человечества, был ближе к истине, чем те, кто все еще пытался молиться.
Дмитрий Станиславович и Наталья Сергеевна ушли вдвоем. Их фигуры, удалявшиеся по тропе к монастырю, казались двумя запятыми в предложении, у которого уже не будет точки.
(без даты)
Наталья Сергеевна и Дмитрий Станиславович не вернулись. Родители Падмы тоже.
Мы ходили к гомпе, просто чтобы убедиться. Она еще стоит, но это уже не монастырь. Это лишь его очертания. Его стены слились с цветом неба, которое теперь и днем и ночью одинаково серое. Там больше не пахнет можжевельником и топленым маслом. Там ничем не пахнет. Звук барабана, похожий на биение сердца, который мы слышали в первый день, — лишь воспоминание. Теперь там тихо. Абсолютно.
Мы вернулись в нашу деревню, которая тоже стала просто эскизом, наброском. Мы больше не ждем.
Сейчас идет снег. Не снег, а так, серый пепел, падающий с серого неба. Падма сидит на холодной земле и ловит эти снежинки языком. Алексей сидит рядом и держит ее за руку.
Наверное, его рука очень теплая.
И в этот момент я поняла. Во всем дедушкином триптихе, во всех его лабиринтах смыслов, во всех его сложных конструкциях и красивых метафорах нет ни единого слова о тепле человеческой руки. Он так старательно описывал мир, что забыл его почувствовать. Это и была его главная ошибка. Наша главная ошибка.
Может, поэтому мир и решил от нас отдохнуть? Мы слишком много думали и слишком мало чувствовали.
Я пишу это, и свет от свечи дрожит... Или это дрожат мои пальцы. Но это уже не важно.
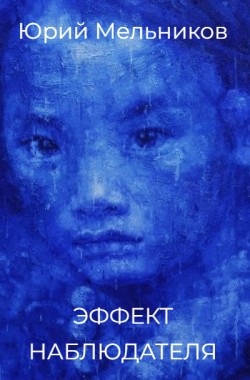





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

