Читать онлайн "Баллада первая. Победа."
Глава: "Баллада первая. Победа."
Я все еще там, за банкоматом, мне жутко там и страшно потом, когда они уходят, и когда ушли тоже страшно, еще страшнее, ибо кончена эта игра у кассы, кончено их шатание и подпрыгивание, и я знаю, куда ушли они и могу отследить, следовать, преследовать по пятам могу, однако не двигаюсь, сижу, жду, когда мимо меня пройдут, не заметят (я изменилась за десять лет, мне было двадцать три, а нынче тридцать три, у меня другая прическа, цвет волос – вполне могут и не заметить, если учесть также то, что многолетнее употребление веществ делает с мозгами и памятью замечающих). Видите, зеленая куртка торчит из-за серого куска пластика, огораживающего банкомат? Это я. Осветителю велено не направлять на меня софиты, я сижу в темноте, в которой зеленую куртку можно узреть, лишь внимательно приглядевшись. Я шпион, I'm a spy in the house of love/I know the dream, that you're dreamin' of – их, тех за кем я слежу, мечту легко угадать на такой стадии, их мечта написана на лицах, равномерно покрытых кровавыми коричневыми прыщами. Впрочем, нет – не равномерно. На лбу преобладают.
[как будто бы это спектакль, в начале которого на сцене появляется рассказчик, на него логично направляют свет, с минуту этот идиот стоит с открытым ртом, затем чешет в затылке, несмело, но как-то весело произносит “Ссыкотно!” – и тут же, почти с грохотом, моментально опускается занавес, едва, добавим, не убив это жалкое существо. “Если тебе ссыкотно, придурок, зачем мы платим за гребаные билеты” – кто-то кричит из зала]
Не “господи, как же страшно-то” – это произносится в другой ситуации, с другим лицом, и потом мы это обязательно выговорим, но сейчас – именно ссыкотно.
Ссыкотно писать о мертвом, деталей смерти которого не знаешь, да и с самим фактом смерти которого, чего уж там, лично ознакомлен не был. Как сиганет вдруг из-за угла – окажется, что живой, и неважно, что угол в другом полушарии. Страшно ходить по улицам, мертвый может работать в соседней китайской прачечной. Впрочем, где она, та, о ком речь – и где китайская прачечная. Той, о ком речь, даже загранпаспорта не дадут, да и некрологов – людям, социально столь ничтожным, в общепринятой картине мира, – нормальных не полагается.
Ее мощный образ успешно пережил несколько моих эмиграций и амнезий. Имя ее – Победа, вид у нее, как у любой впрочем (почти) победы – элегантно-потасканный, с ценником, намеренно не снимаемым с парадного пиджака, как бы вывалившимся на всеобщее обозрение и упорно не убираемым оттуда невзирая на замечания окружающих. Одна на всех, мы за ценой не.
В том сне, когда я сидела за столом с мертвецами, она тоже была. Все хозяева и гости той вечеринки (кроме меня, надеюсь, хотя момент спорный) были мертвы. За столом сидели мертвый Рыжий, мертвый Альберт-Астроном и мертвый Гел. Этимология клички "Гелертер" мне неизвестна до сих пор, к любому официальному системному образованию, и тем более к академическому, он никогда и никакого отношения не имел. Это был среднего роста широкоплечий (жирная горизонтальная линия, ломающая силуэт) человек с огромной головой и неандертальским лбом, нечто среднее между хищником и гориллой – удлиненный череп и выдающиеся надбровные дуги – при этом лицо было красивым, и – стоило ему открыть рот, миф о неандертальском лбе как маркере низкого интеллекта рушился на глазах. Он действительно был неглуп, и, знаете, раньше слово такое было – “начитан” – пока алкоголь, а вслед за ним это, вот это, они это по-разному называют, это странный словарь, его можно долго анализировать – не сжег дотла содержимое его черепной коробки. Случайно встреченную дворнягу он спокойно мог назвать “псом цвета неочищенного золота”.
Она – та, что приходит ко мне со своим сомнительным белковым статусом – была его женой, хотя в общепринятом смысле жены у него никогда не было. Известно, что они не были расписаны, скажем так. Шепоток вокруг ее персоны сильно опередил первое личное впечатление, то есть впервые я увидела ее, уже будучи о ней наслышаной. Почему-то моему семнадцатилетнему сознанию казалось, что эта женщина должна быть очень красивой. Говорят, Гелертер любил ее. А любят только красивых, как же иначе-то. Но красивой или даже эффектной она не была. Уже тогда была жалкой. Пьяной и жалкой. Первый раз не считается. Впервые увидев ее, я не запомнила. То, что это, именно это, был первый раз, не тот, ноябрьский, дождливо-снежный и мрачный, а этот, в огромном, солидном зеркальном зале, где проходил совсем не подходящий этому залу и всему тому заведению концерт (организаторы еле выцыганили у декана) – всплывает из подсознания, выпрыгивает и больно кусает, по итогу меняя в истории мало что. Но тогда, в зале, да и тогда, на ступеньках солидного заведения, в мокром пространстве мгновенно тающих снежинок промышленного центра, она была тоже маленькой. Меньше меня. Есть маленькие люди – я, например. А есть люди меньше меня. Я смотрю на них сверху вниз и мне погано уже от самого этого факта, он рвет шаблоны. Пока эта маленькая женщина жила в квартире Гелертера, там ничего та-ко-го не происходило. Как только она оттуда ушла с концами – случилось все, что могло. Это железный факт, которого не изменит ни то, что по сути она была малообразованным хамлом с сильной промискуитетной (сложное слово, напишу “блядской”, все поймут) составляющей, ни то, что сама она периодически появлялась на людях в темных очках, скрывающих очередной фингал – девочка из европейской средневековой сказки тех самых братьев, которых потом щадяще переводили, девочка, что попадает из переплета в переплет, без перерыва и возможности выдохнуть и восстановиться, без намека на хеппи-энд.
В маленьком городке, даже не в нашем областном центре, где-то еще, теперь это другая страна; жила-была эта девочка. Кто, интересно, были ее мама и папа? Каким был ее первый цветок? Цветок: она принесла его в дом Володи в горшке и в то утро, когда похмелье нежной, потной, волосатой своей рукой раскатывало меня по полу, точно тесто, цветок был обнаружен засохшим. Она долго материлась, глядя на зеленый поникший лучик, поливала, монолог ее на предмет цветка и мудил, которые за ним не следили в ее отсутствие, напоминал шаманское бормотание, но этим специальным тоном она могла говорить лишь о цветах. Люди удостаивались большей четкости, резкости, строже направленного мата.
И тут же, почти без перехода, в порядке полной обыденности: От водки меньше зубы болят, ты не знала этого? Знай. Учись у старшей подруги – говорила она мне в то же утро, и похмелье опровергало ее слова, как опровергает оно все и всегда. “У меня нет денег лечить зубы, а они болят” – как бы походя объясняла она ситуацию с водкой. Не оправдываясь: она никогда не оправдывалась. Объясняя дебилам очевидные вещи.
[как будто бы это мюзикл, и множество соответствующе одетых (в стразы, перья и пайетки) людей поют: пока она была с ним, там не было иглы. Пока она жила с ним, он был Бюль-Бюль Оглы].
Винт-джеф-белый-черный и прочее действительно появились там лишь после ее ухода, или побега, или изгнания: что это было, так никто и не узнает. Они жили вместе, когда я впервые увидела ее. И с тех пор – то жили, то не жили, угадать этого никак нельзя было. Она то появлялась, то исчезала: свободная любовь, свободные люди.
Это были девяностые – время, когда женщины хвастались числом сделанных абортов. Знаете, что было особенно трогательно? Когда все кругом называли его Гелертером, а она – всегда и только Володей. “Этот аборт я делала от Володи”. Видимо, была разница, от кого – хотя давайте честно: она не производила впечатления женщины, для которой эта разница существовала.
Нелепая сцена с платьем впечаталась в память прочнее самого платья. Платье на мне было черное, короткое и совершенно дурацкое, как и многие шмотки девушек того времени и того возраста, купленные мамами. Понятия не имею, чего именно хотела добиться мать, поместив меня в этот синтетический детский гробик, но увидев меня в нем, Победа тут же радостно заорала: “О-оо! Ты выглядишь как проститутка!” – “Послушай, я же тебе такого не говорю” (на деле эти слова застряли при первой попытке выхода) - “А что я такого сказала?”– фальшиво удивилась она, – “Я всего лишь назвала тебя женщиной, которая себя ценит”.
Из обрывков чьих-то реплик складывалась непростая картина. Володиной маме (иногда там участвовали мама и даже папа, но лично мне их увидеть так и не удалось, и можно догадываться лишь, как жили эти люди после всего, что в их жизни и тогда, и потом произошло) не нравилось, что Победа в розыске (ты скажи!). Но странно тут было, конечно, то, что она была в розыске, а не то, что ее свекрови это не нравилось. За что именно ее разыскивали, кто-то знал, но не я. За что могли разыскивать женщину, весившую сорок кило? То, что она была из другого города, как раз воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Там, в другом городе, ее, вероятно, и разыскивали. В Америке люди часто сбегают в другой штат, почему бы не поступить, будто ты в Америке. Там, на старом месте, у нее был какой-то муж, который бил ее (звучало вполне логично) и дочь, которую она оставила, убегая: на момент нашего с ней знакомства ей было двадцать семь или больше, этого точно никто не знал, как не знал и сколько лет ее дочери. Володю ее дети – рожденные или нет – не интересовали. Якобы Володиной маме также казалось, будто бы Победе нужна та квартира, это из тринадцатых уст уже. Come on, guys. Когда женщине нужна чья-то квартира, она там, по крайней мере, живет без столь долгоиграющих перерывов. И уж с ее-то биографией ей вряд ли было интересно быть прописанной, а следовательно – обнаруженной.
На тусовке поговаривали, что с маленьким воробьем опасно ссориться. Реплики упорно требовали дополнительного разъяснения – что такое “опасно” и что такое “ссориться”. Разъяснений не поступало. Она могла перестать приглашать домой (пока у нее был дом), послать нежеланного гостя у дверей, максимум расцарапать кому-то физиономию – все это было несерьезно и двадцать лет спустя ржачно выглядит. Теперь-то понятно, что она никогда не была опасна ни для кого, однако кому-то было приятно или хрен знает – полезно? – создать такую иллюзию, возможно, и ей самой. Ей хотелось какой-то власти или хотя бы видимости власти. И эта власть у нее, что самое смешное, была, ибо Володя действительно не кололся в бытность ее рядом с ним, чего он только fuckin’ не делал, но не кололся, она отлично несла свою службу в сказке немецких братьев, в которой –
[шла-шла девочка по лесу и вдруг увидела на огромной поляне замок. Обросший неконтролируемой зеленой массой, он все еще странным образом нес подобие благородного величия. Не старье, антиквариат, отсыревший серый фундамент, решетки на стенах, шпиль. Ебаный серый шпиль, выглядывающий из чащи, видный с вертолета, но незаметный с земли. Его находили те, кто знал адрес, она же нашла случайно, благодаря врачам. Ей разрешили остаться в нем при условии, что она будет охранять его от игл. “Что за иглы” – спросила девочка? “Они большие и страшные?” – “Увидишь” – сказали те, кто разрешил ей остаться]
– выживал лишь тот, у кого была власть. Или хотя бы, повторюсь, ее видимость.
С первого своего столкновения с нею и до последнего помню рубашку, клетчатую, белую в красную клетку – тогда рубашки носили навыпуск. Джинсы, конечно. Очень маленькое лицо, с некоторой натяжкой его можно было назвать хорошеньким – мелкие бесцветные черточки, глазки, носик, все совершенно мизерное. Русые волосы, голубые глаза, очень-все-очень обычное в этой женщине, кроме того, что она в розыске и напоминает подделку Фаберже – маленькая, тощая (в облегающих платьях видны были уголки тазовых костей), но точно не драгметалл и не благородный камень, что тоже осознаешь сильно после. Ничего особенного же, ничего, что мы все тогда в ней находили? Почему мы ее боялись и уважали? Стоила ли того эта мелюзга, у которой не было ничего, кроме упорного желания выжить (которого, заметим в скобках, не было у ее мужчины).
Непосредственно перед поляной, открывшейся ее усталому испуганному взгляду, и, конечно же, замком; в процессе скитания по полузаброшенным землям; девочка попала в дом, где было много врачей. Да ты больна, девочка - сказал кто-то, кто случайно встретил ее на улице, тебе нужно к доктору. Он взял ее ослабевшую руку, да так, что она не смогла вырвать ее, как ни пыталась, и отвел в больницу. Там ей сразу сделали много-много уколов.
И если читатель думает, что я говорю сейчас о психиатрическом отделении, гинекологии или гастроэнтерологии, на худой конец, то черта с два.
[на сцену выходит группа разноразмерных и вразнобой одетых женщин, декламирующих нараспев вот что: Лучшее место для любви, лучшее место для знакомства, лучшее место чтоб найти спутника жизни. Городской кожно-венерологический диспансер, или же трип-дача, больница закрытого типа] – “Пожалуйста, не надо больше так, нараспев” – просит кто-то – “слишком напоминает церковные песнопения”. [Типа настолько закрытого, что именно там и познакомились пациенты женского и мужского отделений] – “Здравствуйте, у вас не найдется закурить?” [уходят]
Любую свекровь советского типа смутило бы то, что ее сын и невестка познакомились на трип-даче. И Володину маму это тоже, честно говоря, смутило. Володина мама, я не трону тебя, тебе и без этого досталось, но хоть раз ты, мама, подумала о том, что твой сын, твой ныне покойный сын познакомился с нею лишь потому, что сам там оказался? И неужто тебе не хотелось молиться о ее возвращении, когда выяснилось, что он присел на иглу именно после ее ухода?
“Для меня Победа – как мама”– виновато сказал мальчишка, который меня оставлял тогда, в том зеркальном зале, уговаривая не реветь – специально пригласил, чтобы сказать, что влюблен в другую – что делает ему честь, кстати говоря – его реальная, жизненная и не тусовочная мама научила говорить правду в лицо, да и папа, вероятно, не спасовал.
“Ты что с человеком делаешь, ей же шестнадцать лет, она же верить никому никогда уже не будет!”– орала на него Победа потом, когда я ушла в туалет рыдать без помех. Хм. Ну мама так мама.
Вторая встреча, тоже неприятная, под дождем – или это, повторяю, был снег. В девяносто первом в нашем городе не было мобильных телефонов, да и стационарные были не у всех, у Володи, например, его не было, не было, разумеется, и интернета, не было сайтов знакомств, не было соцсетей, люди вообще часто ходили по улицам, как ни дико сие вообразить. Чтоб поговорить с Гелертером, к нему надо было з-а-й-т-и, это еще до того, как заходить туда стало опасно. Был другой вариант – встретить его как бы случайно в Приюте Одноногого Фридриха, где в тот или иной момент можно было встретить всех.
Эту, вторую по счету встречу с Победой я запомнила по фразе “Трахнемся в снегу, Володя”– иронично выброшенной громко вперед, как купюры, которые не станешь брать. Она встретила Гелертера там то ли случайно, то ли он назначил ей что-то вроде примирительного свидания (перед этим она долго не жила у него, будучи в изгнании либо отбыв добровольно, случалось и так, и эдак десятки раз), то ли она ему назначила это свидание и кто-то с кем-то не договорился. Гелертер никогда не выдавал чувств лицом и казалось, будто некая обида нанесена именно Победе, настолько она была зла и истерична в тот день (никто не слышал их разговора).
Снег действительно шел тогда – мокрый, что-то в районе плюс трех. Не представляю, хорошо или плохо было бы в нем трахаться. Что имела в виду Победа, я так и не поняла – но возможно, это был всплеск сарказма после его телеги на тему “возвращайся”, или же отказа от ее возвращения, которое предлагала она.
В тот день она решила почему-то, что я спрашиваю о нем с какой-то узко-определенной целью, понятно, с какой: сокровище свое она спала и видела увешанным другими бабами, – чисто перестраховаться. Выпустила в меня струю яда, как погибающая каракатица – не заботясь, кем и как этот яд будет воспринят и справедлив ли он вообще. Гелертер имел на меня какие-то необязательные и невнятные виды, мне это было фиолетово (и слава богу) – там было что-то вроде кодекса чести “маленьких не трогать, не бить, не трахать и вообще ни в какие потенциально конфликтные ситуации с ними (ну то есть со мной) не лезть”. Но. Но он был клинически одинок, вот что. Поговаривали, что Победа выцарапает глаза любой, о которой узнает. Верилось в это тяжело, особенно потом, когда оказалось, что женская солидарность свойственна ей по крайней мере в степени не меньшей, чем быдлоревность. В других кулуарах у Гелертера была погремуха «профессор женских тел».
Спустя лет пять она кричала им, обступившим Гелертера нимфеткам “Трахайтесь, девки, сколько влезет, мне уже фиолетово”– на ней была бурая норковая шуба с неизвестным послужным списком.
“Кто это”– спросил голос сбоку, – “При чем тут “трахайтесь”?
“Это жена Гелертера” – ответил другой голос, тоже неизвестный.
“У Гелертера не было и нет жены” – своим звучным басом сказал Альберт-Астроном, тогда еще, конечно, живой.
Все те же ступеньки заведения с зеркальным залом, все тот же снег, что падает и тает, те же плюс три.
[в замке, который девочке было приказано охранять, были *очень свои* правила. Не исключено, что ей пришлось приложить собственную руку к их созданию – или же посчастливилось приложить]
Впервые я побывала там, когда все было не просто нормально, а очень хорошо (в сравнении с тем, что стало потом). В замке было, начнем с того, что чисто, хотя Победа пребывала о очередном изгнании и жила не пойми у кого. Единственная жилая комната была обставлена антикварной мебелью (тогда еще “просто старой”, каковой мог быть диван сороковых годов в девяностые). Какие-то постеры, Procol Harum, который он ставил на виниле тогда – собственно, винил в уважаемом количестве, который покупался, обменивался и продавался все мы знаем, где – и где, вероятно, был весь продан коллекционерам в период, которого не хочется, но придется коснуться. Фотографии. Предметы культа. Статуэтки и разные мелкие вещи, присутствие которых помнишь, но не помнишь их внешнего вида, цвета и содержания. Гелертер всегда любил красивые вещи. Мы пили черный чифир (меня чудом не стошнило от такой концентрации грузинского) и разговаривали. Потом, по всем высочайшим правилам, он проводил меня до подъезда на общественной колеснице и затем пешком и очень четко, четче, чем даже требовалось, дал понять про тот самый кодекс, самую главную его часть, дважды обведенную красненьким.
Никогда.
Никогда.
Никогда.
Не вступать в сексуальные отношения с человеком, который хотя бы в теории может в тебя влюбиться – а ты не сможешь ему ответить. Это уникальное рыцарство торчало в поле всеобщей беспорядочной ебли, как одинокое пугало, как Стоунхендж, камни которого можно было пересчитать по пальцам, и камни эти были они, одним из торчащих камней (чорт, выходит двусмысленно, но пускай) был Гелертер, Победа собственным камнем стояла рядом всегда независимо от того, где именно она в данный момент ходила (они были единодушны в этом вопросе как ни в каком другом и это не мешало их промискуитету, просто нужно было убедиться, что твой партнер не полюбит тебя, что именно в этой койке ты не напортачишь, что ты ему столь же однохуйственен, сколь и он тебе; и вперед) – и там еще были мамонты, чтившие кодекс, но со временем, понятно, этот стоунхендж и сама книга эта – того, и миллениалы смогли нажраться простосексом когда настала их очередь, запихивали его в себя самозабвенно, частично в отместку “старой школе” (трудно сформулировать, за что) – некоторых начинает тошнить только сейчас. Некоторых.
“Недавно я смотрел в троллейбусе на одну женщину, я просто смотрел, она спросила меня “чего вылупился?”– и я ответил, что люблю красивые вещи. Красивых женщин. Почему они становятся толстыми?”– повествуя, он задал этот вопрос не мне, а куда-то вбок.
“Однажды можно проснуться, посмотреть в окно, понять, что ты совершенно один и тебе нечего делать в этом мире и в этом доме, закинуться димедролом и спать весь день” – говорил он позже, но тоже мне, и – глядя на все это сегодняшними глазами, стоит отметить, что уж чем-чем, а видом из окна замок Гелертера похвастаться никак не мог. Балабанов и его коллеги этих видов сняли достаточно, так много, что уже ей богу хватит.
Где-то на краешке памяти все еще болтается история с резвой такой девицей откуда-то то ли с Рябиновки, то ли из Вишневого, которая сбежала от мамы с папой, поскольку те, по ее словам, нехило закладывали, либо это было декоративной причиной, либо частью списка причин. Их никто никогда не видел, может, они и не пили вовсе, но какие-то такие аспекты у них точно были – и сначала Гелертер пустил ее, человек потому что, не оставлять в феврале на улице потому что, и лишь тогда узнал, сколько ей лет на самом деле и как сильно она подставляет любого мужчину, в квартире которого живет. Вежливо, очень вежливо (есть свидетели) он попросил ее вернуться домой, при всем понимании того, куда отправляет, ибо люди иногда мстят без особой заботы о том, что там было на самом деле, и злоба заливает глаза, особенно если они предварительно залиты чем-то еще и это вообще не свойство среднего по больнице родителя девяностых – пытаться в чем-то там разобраться, просто есть сбежавший ребенок, который сбежал, конечно же, потому что какой-то дядя ее сманил, а вовсе не потому что папа с мамой в чем-то были неправы. Здесь стоит сказать, что все последующие приютившие, как, впрочем и предыдущие, никакими моральными принципами отягощены не были, кое-кто, правда, отяготился принципами юридическими, причем куда позже, чем следовало. Но вот Гелертера не было в этом списке. Кстати, никто никому мстить в итоге не стал, дальнейшая судьба любвеобильной (видимо, от природы или в силу раннего опыта/особенностей психики) девушки-подростка мне неизвестна, зато известно, что Гелертер совершенно точно не хотел тогда сесть в тюрьму за то, чего без дураков не делал. Все это было, кстати, детским садом по сравнению с лавиной случаев, когда юных странниц действительно насиловали, и не в порядке соблазнения взрослым дядей в его квартире, а скручивая в подворотне впятером – то была визитная карточка эпохи, принадлежавшей уже не старой школе, а новой, молодой, без чертовых предрассудков. Правосудие тогда стоило чуть дороже квашеной капусты на рынке, пользовались этим активно и с обеих сторон. Сколько таких эпизодов было в жизни Победы, никто и никогда не узнает, но по этой части она была определенно подкованнее меня. “Ну а что? – отряхнулся и пошел дальше, душик не забыла принять – и все окей”– говорила она как-то спокойно и даже радостно.
Блядство в доме Гелертера всегда было исключительно добровольным, таков был закон. Все остальное тоже, впрочем, было таковым: школа советской интеллигенции, к которой Гелертер явно относился хотя бы боком.
Увядший цветок, зубы и водка были позже, когда она временно вернулась, и потом снова пропала, и потом опять вернулась, возвращалась и пропадала она до какого-то момента, когда просто ушла и все. Все. И потом, спустя время, вместо нее появилась девушка из столицы с длинной русой косою и в павлопосадском платке, но не будем прыгать по временной шкале слишком уж часто, все равно в конце концов узнаем, как именно варвары завоевали Рим.
В любой социальной группе всегда есть некая иерархия. Неважно, кто главный и почему он главный – он есть, как есть и некий второстепенный. Альфа, бета, гамма и омега, как в зоопарке. Статус этой парочки был странен. Нечто среднее между “святой коровой” и группой авторитетных аутсайдеров (еще одна визитная карточка эпохи), которые не особо мелькали, но существовали, были жирным шрифтом прописаны и ясно это было всем. Прийти в гости к Гелу с Победой считалось чем-то вроде посвящения для новеньких, и производилось не со всеми, а очень выборочно. В тусовке был кто-то, кто был, очевидно, вхож туда. И этот кто-то мог решить привести. А мог и решить не приводить. Это было похоже на Нью-Йорк семидесятых, Лимонова, Бродского, Яковлеву и Либермана, схема та же, но мы-то, в отличие от них, любые щи номинально хлебаем лаптем.
Приводить кого попало не рекомендовалось. Приводящий мог случайно оказаться безответственнее, чем о нем думали, напиться и привести наугад кого не надо или сразу всех, кого не надо. Результат мог быть любым – они могли не открыть. Они могли воплощать известное таинство и опять-таки не открыть. Они могли открыть и выразить неудовольствие. Победа могла всех послать. С лестницы спускать было бессмысленно: квартира была на первом этаже (балкон часто служил путем к отступлению, если через дверь в квартиру попадал, например, Володин папа). Они могли открыть и обрадоваться. Правилами классического гостеприимства оба из них отлично владели, что не отменяло всего перечисленного. Но со мной все пошло, как всегда, наперекосяк. Получилось так, что меня Гелертер привел домой лично и практически с улицы. У писателя Стогова был такой эпизод: в редакцию пришла новенькая, ее отправили на прессуху, она проигнорировала сборище неудачников, зашла сквозь другую дверь и вернулась с эксклюзивом. В тот день в Приюте Одноногого Фридриха было скучно и он сказал: “Да поехали, чаю выпьем”.
Чем-то отдельным выглядит Меганом, который выглядит отдельным всегда. Там она объясняла одной маленькой девочке (бедняге было лет от силы шестнадцать), почему аборт ей следует сделать не думая, не пересчитывая занятых двухсот гривен, а если предлагают бесплатно (в студенческой поликлинике, например, была такая опция) – то, разумеется, бесплатно, впрочем, дело тут глобально не в деньгах, “пробухиваем больше”– говорила она, “кому ты его рожать будешь, маме с папой?” – и красное закатное солнце, алое и рубиновое одновременно, высветило тогда всю ее драму, не особенно спешившего связать с ней судьбу Гелертера, не особенно желавшего чего-то т.н. нормального, одну ее высвечивало это солнце, и больше никого рядом, хоть полк генеральский сбоку ставь, некому ей рожать было тогда, кроме мамы с папой, у которых, кстати, менты дежурить могли, некому и сейчас, если понимать “сейчас” как момент того монолога. И раз ей не нужна была еще одна покинутая девочка, то не нужна такая и никому, особенно по молодости, когда еще можно полежать полдня под общим или местным, или даже без местного, и прожить потом не очень убогую жизнь. А можно не полежать. И прожить очень.
Из-за стола с мертвецами можно прыгать в любую точку вселенной. Захотел – на Меганом, захотел – в актовый зал с зеркалами, захотел – в замок. Этой опции нет ни у живых, ни даже у просто бодрствующих. Итак, замок.
В то утро, утро цветка, зубов и водки, у нее не было ничего, кроме фингала, который ей вдобавок нечем было шпаклевать (“эх! живу с мужчиной, а краситься нечем”– сетовала она, улыбаясь, судорожно собирая кисточкой остатки тональной пудры со дна ободранной косметички). Я проснулась в их кухне на полу (или что это было, что мягче пола?). Этот был тот случай, когда я не помнила, как попала туда вечером, в связи с чем тревога умножала похмелье.
После того утра я поняла вдруг, что она мне покровительствует – и вообще старается как-то защищать и учить жизни (хмм!) девушек намного моложе ее. Не имея ничего кроме фингалов, скандального характера (была ли она манипулятором? скорее нет – кабы была – зачем тогда скандальный характер?) и особенного опыта, который дано получить не всем, да и нужен он слава богу, тоже не всем – она отлично знала, что нужно и чего не нужно делать маленьким девочкам, в каждой из которых ей могла мерещиться ее дочь.
Осознать покровительство этой женщины – учитывая совершенно очевидную антипатию и страх по отношению к ней – было одним из самых нелепых моих ощущений в жизни. Зачем? Почему? Почему она защищает меня от вон того пьяного урода? Почему уговаривает не встречаться с этим (как правило, тоже пьяным уродом)? С какой целью она это делает? Почему она пустила меня пьяную ночевать (к родителям в таком состоянии было лучше не соваться, это даже пьяный такой человек, как я, понимал). Она пустила бы левую телку переночевать просто так? Да щас же. Вылетали многие. От дома было отказано многим (в бытность этого дома домом, а не тем, чем это место назвали впоследствии на суде).
[цветочек. Посмотри. Завял мой цветочек. Какие же они уроды, господи]
Говорили, что Гелертер бил ее из ревности и никто не знает, была ли таковая оправдана, то есть – изменяла ли ему Победа. Если бы она изменяла ему с кем-то из тусовки, этот человек ни-ког-да не появился бы там снова, страх, уважение к Володе, что это было – сложно понять, но – вряд ли это был кто-то свой. Чужой – да, мог быть, и это могло быть платой за паспорт, за ночлег, за что угодно в период, когда Гел выгонял ее. «Подумаешь, трахнусь с кем-нибудь» – сказала она как-то в момент, когда речь зашла о восстановлении утерянных документов или чем-то, в принципе направленном в канцелярскую сторону – «или просто поулыбаюсь» – добавила она, вероятно, чтоб смягчить произведенное впечатление.
Кое-кто, живший вдалеке от основных событий в тусе, как-то раз признался, что было, было пару лет назад (тогда это выглядело как “давно”) во время их с Гелом очередной размолвки (ей некуда было идти, а там можно было переночевать и да, да, эту квартиру тоже потом опечатали по тому же самому обвинению), и да, сказал, он, по морде она получала не просто так. Ей надо было что-то этим доказать, одному дьяволу известно, что. Все, что у нее было – уголки тазовых костей, вылепленные под платьем. Ей все же удалось стать примером женского существа, выживающего посредством их, выполняющих сразу все функции – недостающего образования, несуществующих денег, хоть какого-то влияния на эту жизнь со всем ее говном.
Брат Гелертера (мне казалось, у таких людей не бывает родных братьев, но я видела его лично) был как две капли воды похож на него, но коротко стриженый (что многое в восприятии меняло) и встречался он мне раза два, в ситуации вполне будничной, когда он то ли пил с кем-то, то ли прогуливался вдоль сельской ярмарки, помню фразу не менее, а более даже будничную, кто-то из братьев сказал другому «надо зайти к родителям» – это было до, до всего, тем страшнее это вспоминать теперь. К родителям он зайдет, скажи пожалуйста: до или после дозы ты это делать собрался? Однако, несмотря на очевидные выкрутасы памяти, логика подсказывает, что родители и заход к ним присутствовали до, до того всего, перед чем здоровый мужик с мощным торсом и сильной (это ложное впечатление он лихо производил) волей оказался бессилен и в короткий срок свалился (пардон за штамп, но он точнее всего отражает ситуацию) как карточный домик.
Это был серо-белый панельный дом неподалеку от магазина «Дагестан», именно на нем нужно было свернуть вправо, если идти от центра по Энгельса. Там, где стояла когда-то старая мебель, два дивана, бобинный магнитофон, усилители, проигрыватель для винила (видимо, не один), много тех самых маленьких уютных мелочей, красивых вещей, которых я не помню, однако они точно там были. По части описи пропавшего впоследствии имущества очевидцы были куда осведомленнее, да и наблюдательнее меня, не говоря уже о большей скрупулезности насчет деталей. Жизнь избавила меня от посещения этой квартиры в период иглы, мне хватило стороннего описания. Разуваться там было уже нельзя. Аппаратуры в квартире не было. Почему-то именно второе, а не первое, вызывало особую грусть у рассказчиков: с музыкой было связано… в общем, с нею многое было связано, ради музыки и ради любви (в широчайшем смысле) туда шли. Заканчивалось все, как правило… не только попойкой, кстати, хотя именно этот вывод стал крылатым – заканчивалось тупым и грустным чувством одинаковости с ними, “цивилами”, от которых сбежал из-за якобы непримиримых противоречий, и которые, оказывается, лишь переоделись да патлы понарастили, начинка та же – трусливая, практичная, к доминированию над ближним стремится и жрать хочет, что бы ни происходило – хочет жрать ближнего своего.
[у нее был потрясающий дар умения раздать всем по венику и заставить привести все в порядок после вчерашнего и те, кто велел ей сторожить замок, прекрасно об этом знали]
Однажды они с Победой во время какого-то обширного людского посещения повесили на запертую дверь кухни записку: «Не входить. Мы трахаемся» – и туда никто не входил, что позволило им и, видимо, кому-то из приближенных, не делиться с остальными спиртным. Это была история оттуда, из той прежней квартиры, где разуваться было не только можно, но и необходимо, где все плохое ограничивалось максимум водкой, где еще была музыка.
Однажды она выманила у меня мамино кольцо с топазом. Попросила примерить и не смогла снять. Как так получилось, что у женщины, которая ниже меня, худощавей меня, при этом пальцы толще моих – неведомо мне совершенно. Мне было почти что срать на это кольцо. Меня завораживал невинный взгляд. Наглый, но при этом невинный. “Я сниму потом, с водой, с мылом, и верну”– тоненьким голоском попросила она. Я как-то сразу засомневалась и сказала – черт с ним, забирай. Мама что-то там поспрашивала про кольцо и забыла – на ее, мамины пальцы, оно тоже тогда уже не налезало, почему и было передано по наследству. И когда она глянула на меня этим заведомо фальшиво-невинным-наглым взглядом, как-то сразу стало вдруг понятно, за что именно она всю жизнь получала по морде.
В каком занятии стала бы она первой в какой-то другой жизни? Секс-разведка бы хорошо пошла. Несмотря ни на что, она разбиралась в том, какие тайны стоит хранить, а что следует набросить на вентилятор и часто, вполне осознанно и садистски, меняла эти тайны местами, жонглировала буквально ими.
Реальность, меж тем, продолжала гнаться за ней и покусывала ее своими злыми зубами, времени для передышек не было, и то ли кто-то большой там вверху сказал ей, что хватит, хватит сторожить замок, все равно из него все спиздят, ему сообщили те, кто знал это точно. То ли сама она вспылила и решила остановить эту каждодневную рутину. То ли устала она. То ли разлюбила. То ли разлюбили ее, если ее любили вообще. В общем, однажды утром она ушла из замка и никогда, никогда больше туда не вернулась.
[когда абстрактный герой выходит из комнаты, возможно – на казнь, мне всегда интересно, что происходит в комнате]
К Гелертеру стала приезжать девица в павлопосадском платке, с добрым и неожиданно провинциальным лицом. Она приезжала и уезжала, приезжала и уезжала и затем, приехав, осталась там навсегда. Похоже, именно она привезла Гелертеру белый и черный. После этого в замке уже почти ничего не происходило, по крайней мере – хорошего, и Победа получила окончательный от ворот поворот, а может и не получила, а выгодно приобрела.
Я быстро забыла ее, и даже сама покинула свой город на время, не зная до тонкостей, что там в замке, не интересуясь особенно, правда слухи – как дым из кухни наркопритона, едкие были, и пахли мерзко, долго эти слухи не выветривались с окрестных постоялых дворов. НТП не стоял на месте, уже можно было звонить перед тем как прийти в тот замок, и смс отправлять можно было, но я не знала, куда звонить, и не хотела звонить – мне уже успели сообщить и про “засрано” и про “проколото”, и список исчезнувшей аппаратуры, и винилы, проданные по одному на стихийной ярмарке на берегу реки за красную цену.
Я приехала домой на пару, как мне думалось, лет, и зависла там неожиданно, растянув все сроки и рамки приличия. Моя мама поменяла квартиру, примостившись поближе к магазину “Дагестан”, там рядышком также успели построить огромный супермаркет, где было все, то есть вообще все, и тогда-то я увидела там их, снимая деньги с карты в банкомате у входа. Через стекло входа. Там были кассы, много. Возле одной из них стоял Гелертер и леди с косой. На тот момент Гел уже успел отсидеть и выйти. Статья у него была весьма стандартной для того времени: содержание наркопритона. Ее тогда всем давали, почти не глядя. Многим дали по ошибке, но не ему. Весь его небольшой, судя по всему, поскольку, вероятно, дебютный срок прошел у меня за спиной, я узнала обо всем уже постфактум, шлялась по стране – когда все это началось, я вкурила потом, и поняла, что год-то это был примерно 1998, они еще тогда были вменяемы, спокойны, неплохо выглядели, торчали дай бог раз в неделю, а то и в две, то есть тогда еще они вылезали из своего ада на чуть-чуть, и никто (почти) не замечал горящих углей в их обычных вполне зрачках, и тени они тогда отбрасывали большие такие, жирные тени. Диплом я защитила тогда, вот что. И празднуя все это вечером во дворе известной таверны (одноногому Фридриху к тому моменту уже выкололи глаза, изгнав его из города), увидела его и… девушку без павлопосадского платка, другую леди с косой, знавшую наверняка интервал, который нужно выдерживать, чтобы не подсесть. То есть они уже веселились на полную, но это была именно стадия веселья, время жить, не время умирать. Никто никогда не узнает имя посланника, принесшего в замок чуму – лишь невидимые стрелки могут что-то бездоказательно намекать. Опытные торчки говорят, что если тебе начало казаться, что ты подсел – то ты подсел в лучшем случае полгода назад. Девушка, знавшая правильные интервалы, знала также и о том, что у меня в тот день защита диплома, открытая защита, и сказала в тот вечер, что они с Гелертером хотели прийти, и она якобы тянула его туда за руку, но ему было лень, и пока она произносила это, у меня подрагивал желудок, он что-то чувствовал, я – нет, а он – да.
То есть, посчитаем грубо, между моим дипломом и банкоматом прошло одиннадцать лет, за которые случился ад, продажа всей аппаратуры, суд, срок, и что-то еще, что в теории могло быть клиникой.
Если бы я знала по имени ту силу, что мешала мне подойти к ним и поздороваться, я бы ее назвала. Но я сидела за банкоматом, согнувшись в три погибели и делала все, чтобы выходя, находясь те доли секунды в метре от меня, они меня не заметили. Они бы и так бы не – понимаю я сейчас. Я шпионила за их водкой (они были, видимо, в игольчатой завязке и взяли литра три), за их прыщами (или не были они в завязке, одному дьяволу известно).
В том же 2007 году я встретила Гелертера далеко, неожиданно далеко от его дома, на улице имени одного пламенного революционера, в магазине, где продавали мобильные телефоны, а раньше продавали что-то условно советское. Он был без павлопосадской девушки, без водки, без дьявола в зрачках, без прыщей, без всего того, от чего я пряталась за банкомат, он шел на меня, я на него, он узнал меня в два счета, обрадовался и обнял. Это был восторг и страх одновременно.
“Как твои дела?”– спросила я.
“Мои дела замечательно”– ответил он, очень обыкновенно, старо и добро улыбнувшись, – “Я теперь не принимаю наркотики”– ответил он, - “А у тебя как дела?” – спросил меня. “Я… я тоже не принимаю”– ответила я неизвестно почему. “Так ты ведь и не принимала” – еще шире улыбнулся он, – “Похоже, что так, как ты, я их действительно не принимала”– ответила я, – “Тогда нещитово”– заключил он.
Потом кто-то рассказал, как видел его в состоянии то ли пьяном в стельку, то ли в дилирие, он пытался купить водки уже в другом магазине мобильных телефонов (странная такая мобильная была у него тяга к ним), потом прошло какое-то такое время, которое не могла ни проследить, ни сосчитать, и было сказано, бог знает когда и бог знает кем, что Гелертер ушел от нас насовсем и никогда уже не вернется ни в свой замок, ни к нам в таверну, никогда не прозвучат уже из-за двери его песни менестрелей, наших и заграничных.
Замок, в котором варили ширево, очень трудно потом очистить, отремонтировать, продать… он, этот дымок, говорят, едкий очень и на всем оседает. Невозможно избавиться. Как грибок какой, или плесень черная, ей богу. Руин замка никто не видел. Никто, точнее, из тех, кого знала я, тех руин не видел.
Приходили мы туда, как уже упоминалось, ради любви, “а заканчивалось все в лучшем случае очередной попойкой”– этот популярный плач ярославны был актуален ровно до тех пор, пока там, в замке, не начали варить. Когда начали – про любовь давно уже было более-менее понятно и спроси кого, ради чего он здесь, он не
[господин редактор, это не ошибка, здесь должна быть пустота]
Чуть позже мне дважды рассказали о похоронах Гелертера и оба раза быстро сменили тему. Ничто столь блестяще не удается нашему брату, как быстрая смена темы в случае, если предыдущая рвет тебе кишечник. Что-то там было про ванну, принятую поверх выпивки, про Хемингуэя, полагавшего, что от жизни нельзя спастись и согласного с ним Керуака, которых наш герой отбил одной левой, закинувшись раз и навсегда своим метафизическим димедролом, чтобы проспать весь отмеренный ему день.
Ни о ком из них не нашлось в сети ни строчки. Ни по ключевым словам “Гелертер, город такой-то, таверна такая-то, флэт Г. и его подруги П.”, ни по их фамилиям, никак. Странно: чем чаще человек был на виду тогда, тем сильнее стремится к состоянию невозможности идея найти его сейчас, во времена технологий и двух рукопожатий вместо шести. Все они канули куда-то, и если кого-то можно найти в кладбищенских списках, то кто-то канул так, что даже направление можно угадать лишь приблизительно.
[я часто представляю себе истории, что никогда уже не произойдут, например, посещение его могилы на кладбище, ни названия, ни адреса которого я не знаю. Я бы принесла вина и пластинку Procol Harum, пусть просто стоит у могилы, слушать будем ютуб. Почему-то мне кажется, что ему хотелось бы, чтоб его поминали именно вином, хотя водки за свою недолгую жизнь он выпил гораздо больше]
Девочка же продолжила свой путь по черному лесу, и совы по ночам то пугали, то, напротив, дорожку подсказывали, а днем даже такая роскошь, как солнечный свет иногда попадался страннице, и знала она прекрасно, как обращаться с совами, со светом, с деревьями и разными лесными животными, велик был опыт ее хождений. И не выйдет у меня создать в воображении читателя того, что можно будет назвать венцом истории этой женщины. Однако никто не отнимет у меня того, что есть венец-истории-ее-для-меня.
Последний эпизод с нею имел место в то ли в 1997, то ли в 2002-м году, точно какая-то из этих двух цифр; впрочем, возможно, что и в промежутке между ними. Это произошло возле моего дома и совершенно случайно (она никогда не знала, где я живу), совершенно точно летом, на пересечении улиц имени других пламенных революционеров. Я не помню, кто кого увидел первым, мимо меня шла очевидно пьяная компания, я же шла куда-то по делам. Отделившись от компании и от бомжеватого вида персонажа, к которому прижималась всю дорогу, с которым шли они в бухую вихляющую обнимку (отделившись – потому, что увидела меня) она подошла и мне, как обычно, стало очень страшно на нее смотреть (лишь потом, когда эпоха окончательно сменилась, стало ясно, что все-таки это был банальный щенячий страх), но я улыбалась, потому что уже освоила науку улыбаться сквозь щенячий страх, и она улыбалась, вот где жемчуг, она улыбалась тоже, была приветлива и даже не очень пьяна, small talk какой-то, ничего серьезного, но она была уже (леди, заткните уши) неприлично для своих тридцати семи (сорока двух?) покрыта мелкими черточками не возраста, но каждодневно паршивой жизни, и эти морщинки были не свойственны ей, все это было не похоже на нее, однако же вопросов не возникало, очень четко, даже слишком, у нее на лбу было написано, что это именно алкоголь. Затем вернулся ее fiancé и она, шутливо толкнув его в бок, чтобы он снова отошел (он не) притянула меня к себе и прошептала «он предложил мне выйти за него замуж» – в тот момент на fiancé я старалась не смотреть, как стараются не смотреть в глаза одичавшей помеси ротвейлера с бультерьером, встреченной на опушке леса.
Она была пьяна, очевидно безденежна, и есть некоторая вероятность, что счастлива. Она так выглядела с учетом всех вводных. Не может быть, чтобы раньше ей никто не предлагал выйти замуж, хотя почему не может? Promiscuity person, все что угодно там могло быть. Первый брак по залету, дочь, опять же, битье и розыск – ничто из этого не было точной деталью и ничто не могло гарантировать хотя бы единичный опыт счастливой и взаимной любви. Но кажется, он все-таки был.
[звучит Procol Harum]
До последнего она пыталась обрести хотя бы фальшивую, но стабильность и безопасность, или что-то, хоть контурами напоминавшее эти нелепые, выдуманные глупыми людьми вещи.
Официально Гелертер с нею никогда расписан, как мы уже знаем, не был, и доподлинно я никогда уже не узнаю, с чем это было связано – не хотел, не видел смысла в браке, а видел оный лишь в свободной любви или же она была замужем и в розыске, или же у нее не было пресловутого паспорта; причин могло быть миллион.
Но вот тогда, на углу пламенных революционеров, она мертвой бульдожьей хваткой держала так называемую стабильность и женскую, черт бы ее драл по субботам, востребованность, это был как бы детский фильм такой, страшная сказочка, где все добытые от сделки с дьяволом сокровища в финале превращаются в пыль, пепел, грязь и рваные башмаки (европейские сказочники любили этот поворот, а советские кинематографисты лихо впечатали его в народную память), где ожерелья из бриллиантов и жемчуга оборачиваются живыми гадюками вокруг шеи, где пирожные с кремом убегают со стола дохлыми крысами. Вот какая это была стабильность. Вот чего она всю жизнь хотела, а ей всю жизнь – не давали. С тех пор я ее не видела, лицезрела лишь недавно, в Нью-Йорке, лежа в кровати, в злополучном сне, где все мертвые сидят за столом будто живые. Точной информации о том, жива она или нет, у меня нет и не будет. Если она жива – ей около шестидесяти. Если она жива – это чудесно и невероятно. Ее дочери – чуть меньше, чем мне. Если так – то это победа, ебись конем она, если не так – то, в сущности, тоже победа, ведь Победа не проигрывает.
Нью-Йорк, 2020 г.
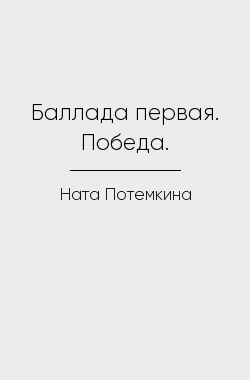





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

