Читать онлайн "Поздно..."
Глава: "Поздно"
ПОЗДНО....
С вечера подул северо-западный ветер. Мелкий, осенний дождь, переходящий в снег, покрывал землю. Ветер подхватывал эту кашу, крутил в промозглой темноте. Дело шло к зиме — куда уж против очевидного. За окном конец ноября, и ждать подарков от природы не приходилось.
Кузьмич стоял возле кухонного окна, и со стороны могло показаться, что он всматривается в сумерки. Взгляд его действительно скользил по мокрым ветвям, постепенно покрывающимся ледяной коркой, по тусклому свету фонаря на столбе, но не видел этого. Кузьмич был далеко, там, где время текло иначе — медленно и солнечно, где пахло тёплой пылью дорог и спелой рожью, а реальность за окном, с её ноябрьской непогодой, была лишь фоном, сквозь который проступали иные картины.
Под мягким светом абажура, вальяжно развалившись в кресле, лежал серый кот. Казалось, он спит, но умные, зелёные глаза наблюдали за происходящим сквозь щёлки прикрытых век. Кузьмич снял с плиты закипевший чайник, бросив взгляд на кота. Тот даже ухом не повёл, только зрачки, узкие и тёмные, слегка дрогнули, следя за движением старика.
— Опять разлёгся, как барин, — проговорил Кузьмич миролюбиво. — Вечно место моё занимаешь не вовремя.
Кот медленно приоткрыл глаза, зевнул, затем снова прикрыл, оставив лишь тонкие щёлки. Кузьмич знал: слушает, но виду не подаст. Это был единственный его слушатель, которому можно было поведать любые мысли, не боясь ни оценки, ни ответа.
— Погода-то, смотри, — продолжал Кузьмич, обращаясь не столько к коту, сколько к самому себе. — Зима стучит в окно. А помнишь — май, трава зазеленела, жаворонки… Помнишь?
Кот, конечно, не мог помнить, но Кузьмичу это было не важно. Ему нравилась невозмутимость кота, в ней он ощущал спокойствие животной мудрости. Кузьмич потянулся, похрустел костяшками пальцев и протянул руку, чтобы провести по густой серой шерсти. Кот словно не заметил, только глухое, довольное урчание нарушило тишину — ровное и убаюкивающее.
— Да, ты у меня философ, — усмехнулся Кузьмич. — Молчишь, а понимаешь, кажется, больше иных говорунов.
Он сел в кресло напротив, придвинул поближе к себе чашку, налив в неё свежезаваренный чай. Чай был горячим и крепким, почти горьким — таким, какой он любил последние годы. За окном завывал ветер, швыряя в стекло крупинки ледяной пыли. Но здесь, под мягким светом абажура, слушая спокойное урчание кота, ноябрьская непогода казалась чем-то далёким.
— Вот я и думаю, — заговорил он снова, пристально глядя в тёмную жидкость. — Немощь как-то незаметно подкралась. Ещё вчера, кажется, всё было по плечу, в руках всё спорилось, а в мыслях — стремления да надежды. А сегодня… сегодня замечаю за собой
— брюзжу. На погоду, на молодых, на собственные болячки. Всем недоволен стал. Старик сварливый, не иначе. Кот приоткрыл один глаз, будто оценивая сказанное. Потом медленно встал, выгнув спину, не спеша перепрыгнул к Кузьмичу на колени и снова уткнулся мордой в лапы.
— Эх, не понимаешь ты меня, — вздохнул он, гладя кота. — Тебе наверняка всё равно, каким я был. Для тебя я просто тот, кто миску наполняет. А вот для себя-то… для себя я будто другим стал. Чужим самому себе. Силы ушли — и ладно, старость не радость. Но вот эта вечная ворчливость, эта сухость внутри… будто сердце пеплом присыпало. Он сделал ещё один глоток, поморщившись, словно горечь чая смешивалась внутри с горечью мыслей.
— Раньше смотрю вокруг — трава растёт, река течёт, дождь идёт — и радовался просто так. А теперь гляжу в то же окно и замечаю только: опять слякоть, опять ветер, опять тучи тянутся без конца. Будто свет потух где-то внутри. И ведь знаю, что сам себе стал не мил, а остановиться не могу. Словно кто-то другой во мне говорит — злой, уставший, разочарованный. Ветер снова стукнул в окно заледенелой веткой сливы, росшей под окном, будто соглашаясь с его словами. Кот приподнял голову, насторожив уши, но, не обнаружив угрозы, снова расслабился.
— А ведь всегда боялся таким стать, — тихо проговорил Кузьмич, почти шёпотом. — Не хотел, чтобы жизнь на одни упрёки да сожаления сошла. Но память… память ведь не только хорошее хранит. Она и обиды копит. Вот сижу теперь с тобой, перебираю их, как чётки. Кузьмич опустил взгляд на свои натруженные руки — узловатые, с проступающими венами.
— Молодость… она ведь не только в силе была. Она в доверии. Миру доверял, людям, себе. А теперь всё настораживает. Каждый шаг — с оглядкой. Каждое слово — с опаской или с раздражением. От этого и сварливым становишься. Защищаешься, значит. Кот вдруг поднялся, переступил с лапы на лапу и спрыгнул на пол.
— Вот ты… ты не меняешься. Всегда одинаково молчаливый, если не голодный. Может, и мне просто помолчать надо? Перестать самому себя пережёвывать, — проговорил Кузьмич, глядя в сторону удаляющегося кота. Помолчав с мунуту, отпил последний глоток. Чай уже остыл, и горечь стала ещё ощутимей.
— Ладно, завтра — новый день. Может, получится посмотреть на него… другими глазами.
За окном всё гудела непогодой ноябрьская ночь, а здесь, на кухне, было тихо и спокойно. И в этой тишине Кузьмич долго ещё сидел, перебирая свои уже не такие мрачные мысли, под размеренное тиканье часов над столом.
Тут следует заметить, дорогой читатель, что Кузьмич не был пессимистом по жизни. Он был человек простого бытия: находил тихую радость в запахе свежезаваренного чая, в ясной погоде за окном, в привычном круге дел. Давно были оставлены поиски смыслов, и в этом, как ему казалось, была его горькая свобода. Ожидание чудес давно сменилось простым принятием вещей — какие они есть, а тревоги — усталой наблюдательностью. Рефлексия по прожитому накрывала лишь изредка, с переменой погоды, когда застарелые болячки особенно настойчиво напоминали о себе. В такие дни душа, в унисон телу, ныла старыми шрамами.
Всю ночь Кузьмич ворочался с боку на бок, стараясь улечься поудобнее. Лишь под утро забытьё одолело его. Реальность потухла, и ему приснился — ясный и красочный сон, будто кто-то раскрыл перед ним старую, пыльную книгу с рисунками.
Кузьмич стоял у проржавевших ворот давно заброшенного парка и переминался с ноги на ногу, будто что-то удерживало его, не давая переступить порог. Рассеянным взглядом он скользил по аллеям, словно узнавая в чертах парка старого друга, в существование которого уже почти перестал верить. И оба, казалось, боялись шевельнуться, чтобы не разрушить хрупкий мираж прошлого.
Время неумолимо, у всего есть пора расцвета и пора увядания. Когда-то жизнь здесь била через край. Звенели звонкими колокольчиками голоса детворы у качелей, шуршали колёса детских колясок, а из репродукторов на фонарях лилась модная, немного наивная музыка духового оркестра. Здесь прятались от всего мира влюблённые парочки, воздух был напоён ароматом сирени и словами первых робких признаний. Теперь же здесь царили тишина и запустение.
Наконец решившись, старик толкнул старую кованую калитку, и та, виновато проскрипев, пропустила его внутрь. Войдя за ограду, он замер — давая глазам освоиться в царящем здесь полумраке, да и сердцу требовалось угомонить волнение. И лишь затем, медленно оглядевшись, Кузьмич тронулся вглубь по аллее.
Старый парк спал. Спал тяжёлым, беспробудным сном, укутанный в саван полумрака, который, казалось, укрывал от посторонних глаз давно сгинувшие события. Липы и клёны, словно столетние великаны, смыкали высоко над головой свои кроны, создавая полумрак даже в ясный день. Их корни, могучие и узловатые, будто древние вены земли, взламывали когда-то гладкое асфальтовое покрытие дорожек. Теперь оно лежало в обломках, уступая место буйной, наглой траве, пробивающейся сквозь каждую трещинку, окутывая серые осколки давно прошедших времён живым, зелёным саваном. В воздухе витал запах влажной земли и прелой прошлогодней листвы. В редких лучах солнца, пробивавшихся сквозь густую листву, кружились едва заметные пылинки. Немного пофантазировав можно было представить, что это золотые искорки былого счастья, затерявшиеся в забытом всеми уголке.
Он медленно брёл по главной аллее, погружённый в свои мысли, а по бокам, словно стражники из сказки, стояли старые скамейки, местами покрытые толстым слоем мха. Дерево их сидений давно почернело от времени и дождей, а железные, узорчатые ножки покрылись ржавчиной, проступающей сквозь наслоения былой краски. Суета города осталась за старой оградой, и тишина с каждым шагом становилась всё гуще, а из глубин памяти, словно обрывки давно забытого фильма, на Кузьмича наплывал вал воспоминаний.
Прозрачный силуэт женщины в светлом платье, мелькнувший между деревьев. Звонкий детский смех, от которого сжалось старое сердце. Тёплое прикосновение чьей-то руки на своей, шершавой от работы, ладони. Вкус осеннего яблока, кисло-сладкий, и восторг, от которого тогда, давным-давно, перехватывало дыхание. Но лица расплывались, не желая складываться в знакомые черты, а имена ускользали, как быстрые мальки на отмели. Оставались лишь ощущения — радость, гордость, тихая грусть, — которые, смешиваясь в один клубок, давили на виски и подкатывали комом к горлу. Он пытался ухватиться за какой-нибудь образ, но тот таял, оставляя после себя лишь горьковатый привкус утраты и смутное, щемящее чувство сожаления. Так и шёл он без всякой цели, не замечая ничего вокруг, пока у поворота, где аллея образовывала небольшой круг, силы окончательно не оставили его.
Тяжело опустившись на ближайшую скамейку — от чего та жалобно вздохнула,— откинулся на спинку и закрыл глаза, давая отдых усталым, больным ногам. И тут, неожиданно для самого себя, Кузьмич почувствовал, как по небритой щеке скатилась капля, затем другая. Он смущённо, словно кого-то стесняясь, провёл рукавом по лицу, но слёзы текли, уже не переставая, — тихие и горькие, капля за каплей пробивая плотину, которую он возводил в душе долгие годы.
Пальцы бесцельно водили по замшелой поверхности сиденья, пока не наткнулись на маленький, почти засохший листик клёна. Он поднял его. Листик был жёсткий и ломкий, цвета ржавчины и меди, с причудливым узором прожилок, похожим на карту неизвестной страны или судьбы, расписанной кем-то свыше. «Всё имеет своё начало….., и завершение», — грустно подумал Кузьмич, машинально перебирая его между пальцами, — и этот крошечный, невесомый листик вдруг стал ключом, повернувшим самый потаённый замок его памяти.
Оторвав взгляд от него, Кузьмич с удивлением обнаружил, что парк, будто по мановению волшебника, преобразился. Полумрак, укутывающий ветхую заброшенность, расступился, уступая место яркому солнечному дню. Перед его ошеломлённым взором, словно живая акварель, проступила картина былого. По алее, утопающей в сиянии солнечных лучей и пахнущей свежеуложенным асфальтом, на трёхколёсном велосипеде ехал маленький мальчик. Его радостный и безмятежный смех разносился на весь парк, пока он, усердно крутя педали, пытался ускользнуть от догоняющей его с притворным упрёком мамы. Сердце старика замерло, затаившись в груди. Что-то до боли знакомое предстало перед ним. Казалось, он перестал даже дышать, весь превратившись в зрение, боясь малейшим движением спугнуть хрупкое видение. Мальчик почти пронёсся мимо Кузьмича, но тут, на миг, видение словно споткнулось. Юркий велосипед замедлил ход, и мальчик обернулся.
Время вздрогнуло и рассыпалось, словно хрупкая пелена между двух зеркал. В одном — Кузьмич, седой, с лицом, испещрённым морщинами и шрамами. В другом — мальчик с ясными глазами, в которых плещется целое море будущего. Их взгляды встретились.
— Ты всё ещё сидишь здесь? — неожиданно произнёс мальчик, улыбнувшись в ответ на изумлённый взгляд Кузьмича.
Сердце старика ёкнуло и громко забилось, отдавая болью в висках. В этих детских глазах, с любопытством смотрящих на него, казалось, отражался целый мир — голубое небо, беззаботность и та самая вера в добро, не затуманенная житейским опытом. Взгляд, ещё не знающий ни потерь, ни предательств, ни горького вкуса сожаления. У Кузьмича перехватило дыхание. Мир закружился.
— Всемилостивый мой… — прошептал он хрипло, протягивая дрожащую ладонь навстречу мальчику.
А тот, улыбнувшись в ответ, махнул рукой и умчал свой велосипед в сияющую даль аллеи — навстречу своей маме, своей долгой жизни, всем тем надеждам и мечтам, которым ещё только предстояло сбыться или рухнуть.
Видение померкло, вернув парку обычные очертания. «Как же быстро. Как неумолимо быстро всё проходит», — кольнуло старое сердце.
Он сидел не двигаясь, будто пытаясь удержать ускользающее время, но чувствовал лишь холодную шершавость скамьи под пальцами. Наконец встал и снова пошёл вглубь парка, шаркая тяжёлыми башмаками по рыжему ковру опавшей листвы, который осень щедро раскинула по аллеям.
Он шёл, и мир вокруг казался ему старым и выцветшим, почти чёрно-белым акварельным рисунком, на котором невидимый художник то тут, то там делал мазки ярких красок и света. А из этого света, из позолоченной дымки, что пробивалась сквозь редкую теперь листву, возникла Она. Совсем юная, почти девочка. Лёгкой походкой, словно не касаясь земли, она шла ему навстречу, и платье её белело призрачным, нежным облаком посреди осенней пестроты тропинки. И улыбка… Боже, эта улыбка! Она всколыхнула в глубине его души давно забытые чувства. Это была она — олицетворение той далёкой поры, когда мир состоял из грёз и надежд. Первая любовь, чистая и невысказанная.
Сердце замерло на секунду, а потом бешено забилось. — Имя! — кричал разум, но память-предательница напрасно пыталась шелестеть своими страницами. Имя ускользало, таяло как туман, оставляя лишь сладковатый привкус прошлого и смутные воспоминания в сердце. Ветреное счастье наивных, надуманных мальчишеских грёз. Она почти прошла мимо, погружённая в мирок своих мыслей, а Кузьмичу вдруг захотелось окликнуть её, обронить хоть слово — но язык предательски стал ватным, скованным внезапно нахлынувшим чувством. Так и стоял он, провожая её взглядом, не сумев вымолвить ни слова.
Белое пятнышко прошлых переживаний удалялось, и он почувствовал: вот, именно сейчас, надо догнать, признаться в том, что таил в себе когда-то, — другого шанса не будет. В груди всё клокотало, готовое вырваться наружу диким, ликующим криком. Он сделал порывистое движение, чтобы броситься, обрушить лавину накопившихся за жизнь слов. Но она опередила. Остановилась и обернулась. Глубокий, ясный и пристальный взгляд упал на него, будто рассматривая сквозь толщу лет, сквозь морщины и седину — того самого мальчишку, что когда-то молча любил её. А потом, улыбнувшись той самой улыбкой, которую Кузьмич всю жизнь так бережно хранил в глубине своего сердца, произнесла одно лишь слово: — Поздно. И прежде чем он успел что-либо понять, отвернулась и пошла. С каждым шагом белое пятно платья растворялось в золотистой полутьме, таяло, пока не исчезло совсем. Аллея была пуста.
— Поздно… — отозвалось, неведомо откуда взявшееся эхо, и поднявшийся вдруг ветер закрутил у его ног вихрь из сухих листьев. Кузьмич провёл ладонью по своему морщинистому лицу. А имя… имя он так и не вспомнил.
Так и стоял он, погружённый в свои мысли, пока не услышал голос. Казалось, он исходил со всех сторон сразу, а может, просто звучал в его голове. У Кузьмича возникло ощущение, что последние годы он часто слышал его — где-то там, на периферии сознания, то тихо, а иногда почти шёпотом. Да, определённо голос был знакомый, но это совершенно не удивило его и не испугало. Впрочем, во сне часто так бывает: самые невероятные вещи воспринимаются как само собой разумеющееся.
— Жизнь со всеми её потерями и радостями — лишь дорога, — произнёс голос, — с которой ты ненадолго свернул, чтобы перевести дух в этом парке. Ты устал и о многом сожалеешь. Жизнь кажется тяжёлым, временами невыносимым бременем. Не так ли? Давай вспомним, старик, как написано в книге. Кузьмич замер.
— Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать насаженное. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Ты думаешь, старик, что твоё время — позади? Кузьмич хотел возразить, но голос опередил: — Нет, оно просто стало другим. Дорога, по которой ты идёшь... ты считаешь её неправильной. — А разве нет? — вырвалось у Кузьмича.
Голос помедлил.
— Ты ошибаешься, старик. Ухабы? Конечно, они были. Повороты не туда? И они сочтены. Но кто из смертных прошёл по земле и не оставил следа, который хотел бы стереть? Ответь, если сможешь. Нет такого.
Кузьмич хотел было возразить — сам не зная кому и зачем, — но голос опять опередил: — Ты ищешь ответа там, где его нет. Ворошишь прошлое, как золу в давно потухшем костре, — думаешь найти тлеющий уголёк. Там нет ничего, кроме холода. Тени не греют, старик. Зачем ты зовёшь тех, кто ушёл? Они не ответят. Не потому, что забыли тебя, а потому что ты сам стал для них памятью. У памяти нет голоса, лишь эхо. Ею нельзя согреться.
Кузьмич опустил голову.
— Ты спрашиваешь себя: зачем я жил? Затем, старик, чтобы понять суть, а не затем, чтобы непременно стать героем, и не затем, чтобы копить мудрость. Ты просто жил — и этого довольно. Потому что жизнь, даже тихая, даже в четырёх стенах, с чайником на плите и котом в кресле, — уже не суета. Суета — это гнаться за миражом, который всё равно ускользнёт. Не гонись, старик. Просто иди своей дорогой, пока есть силы.
Голос сделал длинную паузу. — Всё проходит. Всё. И май, и жаворонки, и тот смех на дорожке парка. Не проходит лишь то, чем ты был в этот миг. Мальчик, крутивший педали, не уехал. Он внутри тебя. Как сердцевина в дереве. Дерево не помнит, какой ветер качал его в молодости, но помнит свет, к которому тянулись его ветви. Ты тоже не помнишь имён. Но свет, который они оставили в твоей душе, — помнишь. Этого довольно.
Кузьмич стоял словно зачарованный, не в силах вымолвить ни слова.
— Ты говоришь себе: поздно. Поздно просить, поздно каяться, поздно любить. А я скажу тебе: для того, кто дышит, ничего и никогда не поздно. Поздно — это когда завтра не будет. А пока оно есть — просто живи. Голос стал затихать, и Кузьмич уловил прощальный шёпот:
— Иди с миром. Новый день уже настал. И помни: сделанное добро навсегда останется с тобой — впрочем, как и зло. Ими тебя и измерят, когда придёт твой час. Но, прежде измерь сам себя. В этом вся суть!
— И последнее, — прошептал голос едва различимо, — Всё, что было, не напрасно. А что будет — тоже покроется снегом в своё время, а весной оттает и прорастёт, если ему суждено. А не суждено — ну что ж…
Наступила тишина. Постояв с минуту, чувствуя, как затекла спина, плотнее запахнул пальто и отправился к воротам — не спеша и не оглядываясь.
Кузьмич открыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Сначала он не понял, где находится: всё произошедшее казалось настолько реальным, что он не узнавал комнату. Но, приглядевшись, успокоился. Над головой был знакомый потолок с давно не белёной трещиной, убегавшей от карниза к люстре. Трещина эта была ему известнее, чем линии на собственной ладони.
Он лежал на спине, укрытый стёганым одеялом, и чувствовал, как ноет коленный сустав — утренним приветом застарелой болячки. За окном, сквозь тюлевую занавеску, проглядывал серый, молочного оттенка свет зимнего утра. Ветер почти утих.
Кузьмич медленно сел, свесив ноги с кровати. Босые ступни коснулись холодного, потёртого половика. Посидев так минуту или две, прислушиваясь к тишине дома и к своим мыслям, он заметил: там, где ещё несколько часов назад клокотала горечь обид и сожалений, теперь было спокойно и светло. Не радостно — нет. Просто спокойно и светло, как бывает в комнате после долгого отсутствия хозяина. С потягиванием и тихим кряхтением он встал, сунул ноги в старенькие тапки и зашаркал в сторону кухни.
Там его ждал привычный мир. Стол, застеленный клеёнкой, пустая чашка с тёмным следом на дне от вчерашнего чая и кот. Он сидел на своём неизменном месте, наблюдая за появлением хозяина, щурясь и всем своим видом намекая, что пора бы наполнить миску.
— Что, миску свою вместо мышей сторожил? — хриплым со сна голосом спросил старик и повернулся к плите, чтобы поставить чайник.
Кот в ответ лишь медленно, с достоинством прищурил один глаз — что можно было понять как снисхождение к старому хозяину.
Чайник зашипел, потом запел тонким, нарастающим свистом, а Кузьмич стоял у окна и глядел сквозь морозные узоры на белесый мир за стеклом. Там не было ни парка, ни аллей, ни мальчика на велосипеде. Была обычная зимняя улица, замёрзшие лужицы, чёрные ветки деревьев. Но сон почему-то не шёл из головы. Кузьмич оторвался от окна, вздохнул, насыпал корма в кошачью миску и заварил, по давно заведённому обычаю, крепкий утренний чай. Пахнуло терпкой чайной пылью, а потом — его густым, крепким духом. Сев за стол, налил себе чашку, из которой потянулся терпкий пар.
Сделав первый глоток, Кузьмич откинулся на спинку кресла и неожиданно для самого себя прошептал: — Ты всё ещё сидишь здесь? Но не успел он снова углубиться в свои мысли, как из прихожей донеслись чуть слышные шаги и на кухне появилась его жена Мария.
— Опять мысли свои в голове гоняешь? — мягко спросила она. — И лицо у тебя какое-то… отрешённое. Приснилось чего?
Кузьмич вздрогнул, очнувшись от забытья. Повернулся к ней, и на мгновение в его глазах мелькнуло что-то почти испуганное — желание высказать, поделиться тем странным сном, что всё ещё теплился в нём, как утренний туман. Он открыл рот, чтобы начать: «А знаешь, мне приснилось…» — но слова так и не слетели с губ. Вдруг показалось: рассказать — значит разбить что-то хрупкое, только что обретённое, разменять целый мир, который посетил его ночью. Да и поймёт ли? Не станет ли это просто очередной историей про его стариковские бредни?
— Да нет, — махнул он рукой, но голос прозвучал предательски глуше, чем он ожидал. — Просто настроения нет. Погода, наверное, и суставы ноют.
Мария внимательно посмотрела на него своими светлыми, немного усталыми глазами. Она знала его молчаливую замкнутость, эти периоды, когда он уходил в себя, словно запирался в крепости. Но в этот раз в его взгляде не было привычной суховатой отстранённости — скорее усталость, но какая-то примирённая.
— Ну, раз настроения нет, так давай хоть чай попьём вместе, — сказала она без упрёка, скорее как констатацию простого факта. — Одному-то скучно хмуриться.
Она села напротив, налила себе чаю, добавила в чашку ложку варенья. Кот, услышав привычный утренний гул голосов и звон посуды, лениво поднялся с кресла, потянулся, выгнув спину в высокую дугу, и, не спеша, направился к своей миске. Пощёлкав сухим кормом, бесшумно исчез в дверном проёме, оставив их вдвоём. Они пили чай в тишине. Кузьмич смотрел на Марию — на её привычные, неторопливые движения, на руки, тоже покрытые прожилками лет, но такие знакомые и родные. Слушал лёгкое позвякивание чайной ложечки о фарфор. За окном светлело, зимний день вступал в свои права — серый и спокойный.
И вдруг, среди этой простой тишины, среди запаха чая и домашней выпечки, остатки ночного смятения и горечи окончательно отступили. Они не исчезли, нет. Они просто ушли куда-то вглубь души, уступив место чему-то более тихому и прочному. Не радости, но и не печали. Просто — присутствию. Присутствию этого утра, этой женщины, этой жизни — такой, какая она есть.
— Чай хорош, — вдруг сказал Кузьмич.
Мария подняла на него взгляд, и в уголках её глаз легли мягкие морщинки — признак внутренней улыбки.
— Он всегда хорош, когда пьёшь его не один, — ответила она просто.
Кузьмич отпил ещё глоток и подумал: может, и правда — не всегда нужно вытаскивать наружу всё, что шевелится внутри. Иногда достаточно просто помолчать вдвоём, в утренней тишине кухни.
Мария поставила свою чашку на блюдце. — Ты знаешь, — начала она, задумчиво разглядывая мужа. — Раньше, помнишь, ты мне всегда говорил: «Жизнь — не сахар, Маша, её надо пить как чай, даже горький». Я тогда не очень понимала, а теперь вот сама чувствую. Она вся разная — и сладкая, и терпкая, и обжигающая. И переставать её пить из-за того, что сегодня горчит, — нельзя. Другого всё равно не нальют.
Кузьмич слушал, невольно любуясь женой. Простые слова, но сказанные так, будто она прочитала его вчерашние мысли. Неожиданно в груди потеплело.
— Мудрость глаголешь, — хрипловато усмехнулся он. — Откуда только берётся?
— От жизни, — просто ответила Мария. — От того, что смотрю на тебя вот такого, хмурого, и вспоминаю тебя же — молодого, озорного, который мог из-за дождя радоваться, как дитя. И знаю, что ты где-то внутри всё тот же. Просто сверху… запылился. Да и я тоже.
Она улыбнулась, и этот разговор — тихий, неспешный, по-житейски незамысловатый — пролился на душу Кузьмича, как луч тёплого весеннего солнца после долгой зимы. Не сразу, не вдруг, но в нём что-то оттаяло.
Прошло несколько дней. Зима окончательно вступила в свои права, припорошив землю рыхлым снегом, но морозы ещё не сковали всё намертво. Сон о парке не выходил из головы. Кузьмич невольно возвращался к нему, и каждый раз воспоминание отзывалось непонятным, щемящим и настойчивым чувством — словно фантомная боль давно ампутированной конечности. Это было уже не просто воспоминание; сон словно звал его. И Кузьмич, к собственному удивлению, решил ему ответить.
Он не сказал Марии, куда идёт, — просто натянул потрёпанное пальто, обмотался шарфом и вышел на улицу. Ноги сами несли его по знакомым, заснеженным улицам к окраине города. Он знал, куда идёт. В парк. Вернее, в то, что от него осталось, — небольшой заросший сквер, который когда-то действительно был полон жизни. Его давно обходили стороной.
Ворота, как и во сне, были проржавевшими, но не запертыми. Он толкнул их, и они, скрипнув, пропустили его внутрь. Реальность оказалась куда прозаичнее сна. Не было золотистого полумрака и волшебного сияния. Был обычный зимний день, серое небо, голые, чёрные ветви деревьев, пронзающие белесую пелену. Снег прикрывал сломанные скамейки и бугры, под которыми угадывались осколки асфальта и кучи мусора. Воздух пах морозом и тишиной.
Кузьмич медленно шёл по главной аллее, утопая в снегу по щиколотку. И странное дело — гнетущей тоски не было. Была почти светлая пустота. Теперь, глядя на настоящий, запустелый парк, он понимал. Прошлое было прекрасно — как тот сон. Оно было ярким, живым, полным смысла. Но оно «было». Попытка вернуться в него, ухватиться за него — всё равно что пытаться поймать в ладонь луч солнца или удержать талый снег.
Размышляя так, он дошёл до того самого круга, где в снегу угадывались очертания старой скамьи. Смахнул снег рукавицей и сел. Холод проникал через одежду, но он не спешил вставать. Перед ним была не картина былого великолепия, а тихий, всеми забытый уголок прошлого, укутанный первым снегом, словно покрывалом. И в этом был итог. И была своя правда.
«Поздно», — сказала ему тень из того сна. Может, и поздно что-то изменить. Но не поздно перестать корить себя за это. Не поздно смотреть вперёд — пусть и не на много шагов, а лишь до следующего поворота.
Жизнь идёт дальше. Вместе с ней пошёл и он — обратно к дому, оставляя на белом снегу следы. Спешить было некуда, да и слова были не нужны.
Дом встретил его теплом и тишиной. Кузьмич стянул промёрзший шарф, повесил пальто на крючок — тот самый, что скрипел ещё со времён, когда они только въехали в этот дом. Скрипнул и сейчас, будто здороваясь.
Из кухни доносился негромкий звук телевизора. Мария чистила картошку возле стола.
— Нагулялся? — спросила она, не оборачиваясь.
— Нагулялся, — ответил Кузьмич и, помедлив, добавил: — Хорошо там сегодня. Тихо.
Она не стала спрашивать, где именно. Только кивнула и смахнула очистки в ведро. Кузьмич сел на табурет, вытянув ногу. Колено, разболевшееся с утра, теперь отпустило — или просто он перестал его замечать. Кот, как обычно, дремал на своём кресле.
— Помочь? — спросил жену.
— Сиди уж, помощник, — беззлобно отозвалась Мария. — Вон лучше кота погладь. А то обижается, что ты его с утра бросил. Кузьмич протянул руку, провёл по серой шерсти. Кот заурчал — ровно, как маленький мотор. И в этом урчании, в запахе варящейся картошки, в мягком свете кухонной лампы, в том, как Мария привычно двигалась у плиты, — во всём этом было что-то такое, что не нужно было объяснять. Ни сон, ни парк, ни тот мальчик на велосипеде. Всё это было. Было — и быльём поросло.
Вечером, когда дом затих, Кузьмич лежал, глядя в потолок с той самой трещиной, что бежала от карниза к люстре. За окном тихо падал снег. Где-то далеко, на окраине, спал под снегом старый парк. Спали скамейки, спали деревья, спали тени тех, кто когда-то гулял по его аллеям.
И пусть спят. Им своя память, мне — своя. Он закрыл глаза.
Уже засыпая, подумал: завтра снова утро. Снова надо будет вставать, ставить чайник, насыпать коту корм. Снова будет за окном серый свет, а на стекле — морозные узоры.
И это — не просто «опять». Это — «ещё». Ещё день. Ещё чашка чая. Ещё шанс, что-то понять в себе. Ещё возможность просто быть.
А больше, наверное, и не надо...
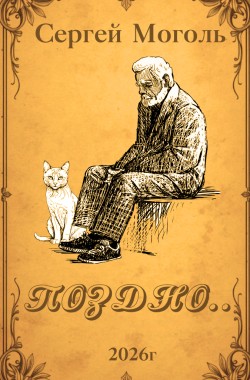





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

