Читать онлайн "Небо напрокат"
Глава: "Глава 1"
Полина Царева
НЕБО НАПРОКАТ
НЕБЕСНАЯ СИМФОНИЯ C-MOLL
LARGO
1
Тогда мне было шестнадцать лет. Я жила с мамой, бабкой (матерью моей мамы), двумя младшими братьями и пуделем Артемоном. Из этих пятерых любил меня только пудель. С Артюхой мы были закадычными друзьями. Каждое утро, ровно в шесть, он ставил лапы на мою кровать и начинал стягивать с меня одеяло. Я увертывалась, отбивалась как могла, но Артюха был непреклонен. Я вставала, приоткрыв один глаз, лениво натягивала штаны и видавший виды свитер, а собака нетерпеливо переминалась с лапы на лапу, слегка дергая меня за штанину. Надев на Артюху поводок, я открывала дверь — он срывался как бешеный и тащил меня вниз по лестнице все восемь этажей.
Мы ходили по одной и той же дороге, наслаждаясь свежестью наступившего утра. Потом возвращались домой, где остальные еще мирно посапывали. Артюха благодарно смотрел на меня, ожидая на завтрак чего-нибудь вкусненького. Его кудряшки, черные, как смоль, и до боли милые глаза наполняли мое сердце неиссякаемой теплотой. Я легонько трепала его за длинные уши, и он в ответ ласково облизывал мои руки.
— Ну что, псина? Есть будем?
Артюха склонял голову набок и смотрел на меня недоуменно: ты чего глупые вопросы задаешь? Затем подбегал и клал морду на мои ноги. Это означало: «Поторопись, пожалуйста. Есть хочу!»
2
Я росла девушкой замкнутой и необщительной. Маму боялась, бабку ненавидела, с братьями ссорилась. Отец, с которым мама рассталась до моего рождения, был закрытой темой в семье. С одноклассниками дружбы не складывалось — они обходили меня стороной. Я слыла белой вороной. В то время как сверстники учились курить за углом и пили водку в компаниях, я читала книги про Иисуса Христа и жития святых.
Мама никогда не понимала моих причуд и всем знакомым говорила, что я странный ребенок. В легком ситцевом халате и безупречно белой накрахмаленной косынке она умудрялась выглядеть пугающе: ее зеленые строгие глаза за очками казались устрашающими. Я боялась этого взгляда и, когда мама злилась, забивалась в угол, закрывая голову руками.
Училась я неплохо, без троек. Не потому, что у меня была тяга к учебе, просто я безумно боялась материнской ругани и бабкиных криков.
Однажды за одну неделю я умудрилась получить три двойки по немецкому языку. Случай из ряда вон выходящий. Учительница потребовала подпись родителей. Я возвращалась домой, и мои зубы стучали от страха. Я знала, что меня ждет расправа. Но мама, на удивление, отреагировала спокойно. «Ну ничего себе!» — устало пробормотала она и покорно расписалась в моем дневнике. Я мгновенно дематериализовалась из комнаты, не веря своему счастью.
С бабкой отношения были еще сложнее. Эта грузная пожилая женщина в косынке и в больших, в пол-лица очках, всегда с вышивкой или с вязанием в руках, внешне производила впечатление доброй старушки. Быть может, для других она таковой и являлась, но только не для меня. За что она меня ненавидела, я так и не узнала, но со временем наша взаимная неприязнь только росла. Какими же гадкими для меня были дни, когда мама уходила на дежурство ровно на сутки, а я оставалась с бабкой и братьями! Мальчишки бабку не слушались, она на них кричала противным визгливым голосом и лишь изредка бросала на меня косые, полные злобы взгляды.
Как-то она сказала:
— Мне очень хочется зарезать тебя! — и указала на самый большой и острый нож.
С тех пор я старалась не показываться ей на глаза без надобности. Я боялась. Безумно боялась. Но пожаловаться матери тоже не могла, поскольку была убеждена, что она мне не поверит.
Мой средний брат Святозар был любимчиком матери и бабки. Я сильно ревновала к нему мать, а она даже не пыталась меня успокоить или разубедить в обратном. Она просто не обращала на меня никакого внимания. Вечером, когда мы укладывались спать, она подходила к Святозару, поглаживала его по голове и тихо, вполголоса о чем-то ему рассказывала. В такие минуты я готова была убить Святозара, или Святика, как его все называли. Может, именно по этой причине мы в детстве постоянно с ним ссорились и дрались? Он тут же бежал жаловаться на меня матери с бабкой, и они всегда вставали на его сторону, а меня наказывали, ставя в угол. Святик ликовал. Пробегая мимо меня, показывал язык и называл дурой.
— Сам дурак! — вопила я.
Мы с ним были очень разными: я — медлительная, замкнутая, он — чрезмерно общительный и энергичный.
С младшим братом Гошей мы жили дружнее. Но бывало всякое. Дети жестоки. Как-то однажды я его с улицы затащила в подъезд и побила за то, что он не хотел идти домой. Теперь, вспоминая этот случай, недоумеваю: откуда во мне, забитой и скромной девочке, временами появлялась безумная агрессия, граничащая с хладнокровной жестокостью?
В детстве Гоша был некрасивым: рыжим, толстым и конопатым. Но со временем он превратился в галантного юношу с пшеничными волнистыми волосами и голубыми, как небо, глазами.
Жили мы бедно, и еды в доме чаще всего было шаром покати. Мама разрывалась между работами, бабка занималась мальчишками. Но все же предпочтение было Святику. С чем была связана эта безумная любовь бабушки к внуку, я не знаю. Но она никогда не стеснялась все самое хорошее и вкусное отдавать ему. Меня это возмущало, но высказывать недовольство я не смела, поэтому все обиды, всю боль прятала в своем сердце.
Иногда в нашем доме появлялся еще один персонаж. Правда, на мое счастье, это происходило редко и ненадолго —на два-три дня в гости к нам приезжал мамин брат. Его звали Денис. Перед его приездом дом всегда оживал: производилась генеральная уборка, стряпалась уйма пельменей и пеклось несколько тазиков булочек. Денис был младше матери на девять лет, и она воспринимала его не как брата, а как родного ребенка. Она так и говорила:
— Я его вырастила!
Я и мальчишки звали дядю Дениса просто Дэн. Худощавый, с длинным, как у ворона, носом и маленькими ехидными глазками, он всегда заставлял меня сжиматься в комок и чувствовать себя неловко. Его излюбленной темой был мой лишний вес.
— Корова! Надо тебя посадить на черный хлеб и воду! — со смаком растягивая слова, обращался он ко мне.
От этих слов я съеживалась еще сильнее. В такие минуты я себя ненавидела. Стыд, вина, неприязнь к себе успешно накапливались в моем неокрепшем сознании. Прошло очень много лет, прежде чем я смогла расстаться с этими жуткими установками, вложенными мне в нежном возрасте.
Но все эти оскорбления и унижения летели не только в мою сторону. Не состоявшийся как великая личность Дэн самоутверждался, отыгрываясь на нашей семье.
Моей маме за ее любовь, самопожертвование, нежность Дэн говорил, что она неумеха, не забывая при этом уплетать пельмени, сделанные ее руками. Бабке ни разу не привез даже плитки шоколада. Через несколько лет, когда бабка умерла, он не соизволил не то что приехать на похороны, но хотя бы выслать денег. Он вообще сделал вид, что это его не касается! Все заботы и хлопоты по организации похорон свалились на «неумеху»-сестру.
К моему несказанному удивлению, гадкие поступки Дэна нисколько не влияли на всеобщую любовь родственников к нему. Из всех нас только я одна относилась к Дэну настороженно и отказывалась признавать его пупом земли. Конечно же, я этого не озвучивала, иначе не избежать бы мне анафемы. Высказав все то, что я о нем думаю, я бы покусилась на главную икону семьи, а именно так его все и воспринимали. Его считали чрезвычайно умным, безупречно воспитанным и образцово интеллигентным, и любая попытка это оспорить выглядела бы бунтом против всех.
Однажды мы всей семьей отправились на дачу. Я терпеть не могла там бывать, но ослушаться и восстать против поездки не смела. Жара была тридцать пять градусов. Мы тащились длинной вереницей поливать грядки с помидорами. На мне был раздельный купальник и огромная, прикрывающая пол-лица шляпа. Я замыкала шествие, плетясь еле-еле и изнывая от зноя. Передо мной шел Дэн, и я невольно рассматривала его до ужаса худые и безобразно волосатые ноги. Словно почувствовав на себе мой пристальный взгляд, он обернулся, подошел вплотную и, окинув меня своим, как всегда, ехидным и наглым взглядом, спросил:
— Че такая толстая-то?!
И, несказанно довольный очередной удачной пакостью, зашагал быстро и легко, насвистывая незатейливый мотивчик.
Я стояла на проселочной дороге. Слезы подступили к горлу. Хотелось рыдать. Я себя ненавидела. Ведь я уродина! Гадкая, жирная корова! Но плакать в нашей семье тоже было не принято, и я, усилием воли удерживая подступившие к горлу рыдания, бросилась догонять скрывшуюся из виду вереницу ненавистной семьи.
3
Я предпочитала оставаться одна. Удобно устроившись в своей уютной кроватке, обняв большого плюшевого медведя, я уходила в мир фантазий и иллюзий. В мир, где не было зла, насилия, ругани, оскорблений, а торжествовала красота и любовь.
Однажды поздним вечером из этого сладостного состояния, из моего собственного мира меня вернули к реальности крики и плач матери. Я выбежала на ее голос. Перед ней стоял Святик, пьяный, невменяемый, с посоловевшими, едва видящими глазами, и пытался ей доказать, еле ворочая языком, что он «нормальный».
— Нормальный, да? Это ты называешь «нормальный»?
И она замахнулась на него ремнем. Но Святик ловко перехватил ремень и отобрал его у матери. Тогда она замахнулась рукой, видимо, собираясь его ударить. Испытывая панический ужас от этой сцены, я бросилась с воплем «Не надо!» и встала между ними. На удивление, это подействовало. Мама и Святик, не сговариваясь, молча разошлись по разным комнатам. Я осталась одна. Стояла, бессильно опустив голову, напуганная и возмущенная. Руки предательски тряслись, глаза застилали слезы, а сердце жгучей болью пронзала безысходность.
Я сделала несмелый шаг. Ноги не слушались. Держась рукой за стену, я сделала второй, третий шаг. И незаметно для себя оказалась на балконе. Роскошная ночь царила над городом. На меня дул прохладный ветерок. Я жадно глотнула воздух пересохшими от волнения губами и бессильно опустилась на порожек, прижавшись к балконному проему. Перед глазами раскинулось небо. Оно было усеяно россыпями звезд. Я смотрела не отрываясь, и меня словно затягивало в пучину тайн и загадок ночного звездного царства.
— Как хорошо было бы оказаться на небе, с яркими звездами, — прошептала я. — Если бы я могла летать, я бы ни на миг здесь не осталась, я бы не задумываясь улетела к мерцающим звездам!
Вдруг небо мигнуло и пришло в движение. От неожиданности я вздрогнула и очнулась от магического действа. Не знаю, что произошло со мной, но в комнату я вернулась уверенная, что в те минуты, когда я смотрела на небо, мне открылось что-то важное, какое-то знание без слов. Что именно — я не понимала, но ощущение тайны и величия не покидало меня многие годы.
4
С этого дня я стала часто обращаться к Богу, просить у Него помощи и сил. И, как само собой разумеющееся, меня потянуло в храм. Иконы, запах ладана, пение хора — все это приводило меня в неописуемый трепет, до мурашек по коже, до слез радости и благодати. Каждый раз, входя в церковь, я, подобно птице феникс, возрождалась из пепла. Здесь не было криков, раздражения, зла, вечных проблем. Здесь была Любовь — Вездесущая и Всепрощающая. Я молилась сердцем. Это такое особенное состояние, когда слова молитвы пропускаешь через себя. И сердце бьется все сильнее и сильнее от той мощи и всеобъятности, которая охватывает невыразимо яркой волной. И ты шепчешь: «Господи! Господи! Боже мой, Боже!» Все заканчивается как наваждение, как сладкий сон. И только остается Вера. Вера в Бога, в себя, в людей. И жить хочется, и дарить тепло, и петь от счастья.
5
В музыкальном училище, куда я поступила, я занималась в классе педагога Вербицкой. Это была запредельно неординарная женщина. Все студенты называли ее чокнутой. И только мне она безумно нравилась (о чем я, правда, предпочитала помалкивать в кругу сокурсников). Она была высокого роста, с квадратной фигурой, грузная, плавная, спокойно-задумчивая. С неожиданным при таком облике звонким и высоким голосом. Рыжие волнистые волосы ниспадали до плеч, ярко-зеленые глаза подчеркивала простенькая, но аккуратная, такая же изумрудная, как глаза, кофточка. Она курила сигары и запивала их неимоверным количеством крепкого черного кофе. Она могла часами смотреть в окно невидящим взглядом, не обращая никакого внимания на студентов. А могла сесть за рояль, заиграть Чайковского и горько заплакать, предаваясь каким-то своим особенным думам.
С Еленой Григорьевной Вербицкой у нас сразу возникла взаимная симпатия. Я не считала ее чокнутой, в отличие от большинства; ее странности меня всего лишь забавляли. Мне нравились ее доброта и способность тонко чувствовать мир.
Однажды я пришла к ней на очередной урок. Она, как это часто бывало, стояла у окна и курила сигару.
— Садись, разыгрывайся, — не поворачиваясь, сказала она.
Я села за рояль, но играть почему-то не хотелось. Я положила руки на клавиши и погрузилась в свои думы.
— Я тебя видела! — неожиданно зазвучал голос Елены Григорьевны.
— Где? — почему-то вздрогнув, спросила я.
— В храме.
— А Вы там тоже были? — задала я глупый вопрос.
— Я там пою в хоре, на клиросе. И тебе нужно петь, — помолчав, добавила она.
Больше в тот день мы этой темы не касались, но уже в следующее воскресенье я стояла на клиросе и с трепетом и благоговением пела: «Господи, поми-и-и-луй!»
Так в мою жизнь прочно вошла и утвердилась на главном месте Церковь. Я много молилась, соблюдала посты, причащалась и с великим желанием каждые субботу и воскресенье пела в хоре. Для меня теперь не существовало семейных разборок, криков: они проходили мимо, стороной. Так всегда бывает: когда отдаешь душу и сердце на благое дело, жизнь меняется до неузнаваемости.
— Артюха! Милый мой Артюха! Мне так хорошо! — трепала я свою любимую псину. — Я такая счастливая! Ты даже не представляешь, собака! — и я чмокала его в прохладный и мокрый носик. — У меня есть Церковь и ты, Артюха! А больше мне никого и не надо!
Артюха, радуясь, что я уделяю ему столько внимания, бегал вокруг и тыкался носом в мои руки и ноги, потом запрыгивал на кровать, ставил на меня лапы и пытался лизнуть в лицо. Я падала на спину, закрывая лицо руками, и смеялась, смеялась…
6
Наступил праздник Троицы. Я пришла в церковь пораньше: мне нравилось наблюдать сверху, с клироса, как собираются прихожане. Храм был усыпан цветами, горели свечи, и от всего этого великолепия у меня слегка кружилась голова.
Хор запел. Я прикрыла глаза. Сердце бешено билось. По телу разливалась приятная истома. Это было сродни единению с Господом Богом. Своим пением, своими мыслями и чувствами я возносилась к Нему. «Господи, услы-ы-ыши мя!» И Он меня слышал. Я верила. Я чувствовала. Я знала.
Когда служба закончилась, хористы быстро разошлись: каждый куда-то спешил. Мне торопиться было некуда. Хотелось продлить это состояние благоговения и блаженства. Я сложила руки на груди и закрыла глаза.
— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! — шептала я. — Господи! Господи! Господи!
Я находилась под куполом храма, и мне казалось, что здесь я ближе к Нему, здесь Он лучше меня слышит, здесь я под Его защитой.
Когда я спустилась вниз, в храме уже никого не было. Я постояла еще несколько минут, вдыхая цветочный аромат, и направилась к выходу.
— Не хочется уходить, правда? — услышала я позади звучный голос.
От неожиданности я вздрогнула и резко обернулась. Передо мной стоял отец Александр в ослепительно-белой рясе, серьезный и грозный. Небольшого роста, упитанный, он почему-то всегда ассоциировался у меня с футбольным мячом. Но, несмотря на лишний вес, во всех своих движениях был быстр и энергичен. Вплоть до кончиков своих черных волос, ниспадавших на его плечи причудливыми кудряшками. Я любила смотреть на эти кудри во время службы, когда отец Александр читал Евангелие, периодически резко потряхивая головой, отчего волосы взлетали в воздух и элегантно возвращались на плечи к своему хозяину.
Отец Александр не был красавцем. Маленькие зеленые глазки, имеющие обыкновение щуриться, уродливой формы очки, бесцветные пухлые губы, ярко и выразительно окаймленные длинной черной бородой. Иногда мне даже казалось, что он не священник, а чудище, явившееся из сказки.
Отца Александра любили. Он так искусно находил общий язык со служителями и прихожанами, с такой чуткостью внимал приходившим к нему на исповедь людям и проникался их проблемами, что внутренняя красота, идущая из самого сердца, успешно компенсировала изъяны внешности.
— Да. Не хочется, — ответила я.
— А давай я тебе подарю свой букет, — неожиданно предложил он, серьезно и в упор посмотрев на меня. — Хочешь?
Хотела ли я получить цветы? Да я об этом и мечтать-то не смела! Конечно, хочу, хочу, хочу! От волнения пересохло во рту. Я стояла растерянная и смущенная, не зная, что ответить.
— Стой здесь, я сейчас! — И он мгновенно исчез.
До этого момента я никогда не общалась с ним. На исповедь ходила к монаху, отцу Никите. А с отцом Александром лишь иногда пересекалась в храме. И каждый раз старалась избежать его грозного и пристального взгляда. Но в тот момент, когда он заговорил со мной, мне не было страшно. Наоборот, я была счастлива! И когда отец Александр вынес мне огромный красивейший букет, моей радости не было предела!
— Спасибо вам, отец Александр! — сказала я.
— Пожалуйста, — буркнул он своим басом и протянул мне еще какой-то пакет. — Это тоже тебе!
— Что это? — спросила я.
— Дома посмотришь, иди.
И, стремительно развернувшись, он исчез — внезапно, как и появился, оставив меня в недоумении с букетом цветов и странным пакетом.
Я шла домой и заглядывала в глаза каждому встречному. Посмотрите! Вы только посмотрите на мой букет! Мне его подарили! Да! Да! Мне подарили цветы! Сердце трепещет! Сердцу хочется петь! Так хочется крикнуть: «Люди! Ну обратите же на меня внимание! Посмотрите на меня: я самая счастливая!» Но люди проходили мимо с хмурыми и недовольными лицами, не обращая на меня никакого внимания.
Легкая, как бабочка, с ликованием в душе я вбежала в дом.
— Ну! Что скачешь, стрекоза? — услышала голос бабки. — Полы когда мыть будешь?
Меня словно окатили холодной водой. Свет внутри погас. Праздник окончен. Пора возвращаться в реальность.
— Что это за веник? — На пороге появилась мама. — А в пакете что?
— Не знаю, — запинаясь, пробормотала я.
— Дожилась! Не знает, что за барахло с собой таскает! — съехидничала бабка.
— Это не барахло! — опустив глаза и совсем растерявшись, тихо возразила я.
— Ну, давай, выкладывай! — буркнула мама.
Осторожно и несмело я поставила пакет на стол и достала булку хлеба, сахар, чай, пряники, банку варенья, оладьи.
Вся семья столпилась вокруг с жадными глазами. В тот день в доме из съестного практически ничего не было. Достаточно частое, впрочем, явление.
— Надо поставить чай! — чуть более дружелюбно сказала бабка.
Содержимое пакета исчезло за несколько минут. Все были так довольны и счастливы, включая Артюху, что даже забыли спросить, где я это взяла! Насытившись, каждый отправился восвояси. Мама убрала со стола и один-единственный оставшийся оладушек, положила на блюдечко, накрыла железной крышкой и поставила на подоконник.
7
Ночь была темной — ни единой звездочки на небе. Мне не спалось. Снова и снова я перебирала в памяти драгоценные моменты прошедшего дня: как меня окликнул отец Александр, как подарил букет, как с упоением я вдыхала запах ладана и цветов, как счастливая на бешеной скорости неслась домой. Я ворочалась и улыбалась ночной тишине.
С улицы изредка доносились еле уловимые звуки: смех загулявшейся компании, легкое дуновение ветерка, размеренный храп соседа за стенкой. Но все это было далеким и нереальным, а в доме царила теплая, мягкая, глубокая тишина, изредка нарушаемая поскрипыванием старого дивана.
Внезапно посреди этой мирной гармонии ночного царства раздался пронзительный, надрывный, дребезжащий грохот. Мгновенно подскочила вся дружная орда и, не понимая, что происходит, засуетилась, просыпаясь на ходу. Мы оперативно пробежались по комнатам, прижимаясь друг к другу от холода и страха. Комнаты стояли погруженные в глубокую ночь и абсолютно равнодушные к нашей панике и суматохе. Дойдя наконец до кухни и щелкнув выключателем, мы опешили. Свет вернул миру гармонию вселенной: несколько секунд все стояли, открыв рты, а потом разом, будто отсчитав про себя нужные секунды, весело расхохотались. Возле подоконника сидел Артюха, виновато потупив свои угольные глазки, а рядом валялись осколки блюдца, железная крышка и один-единственный оладушек. Артюха, решив, что до утра лакомство сторожить не обязательно, попытался стащить с блюдца крышку, чтобы добыть еду, но потерпел неудачу — вся эта конструкция с грохотом полетела вниз.
— Ну, ешь уже, ешь! — снисходительно потрепав Артюху за гриву, сказала мама.
И Артюха, безмерно счастливый оттого, что удалось избежать расправы, да еще и получить разрешение на поедание «добытого непосильным трудом», не заставив себя долго уговаривать, мгновенно проглотил оладушек.
8
Наши отношения с отцом Александром стремительно развивались. После каждой службы он бросал мне на ходу одну и ту же фразу: «Подожди меня, я сейчас!» Через пять минут он выходил переодетый в мирскую одежду и с полным пакетом, предназначавшимся для меня. Мы вместе выходили из храма и шли медленным шагом на остановку. Он мне рассказывал о Боге, о жизни, о себе. У меня впервые появилась возможность поделиться своими планами, тем, что меня волнует, и спросить о том, о чем спрашивать мне было не у кого. И однажды я поинтересовалась:
— Отец Александр! Ведь отец Никита монах?
— Ну да, — ответил он.
— И это значит, что у него никогда не будет семьи?
— Монахи не могут иметь семью, ты же знаешь!
— А что будет, если он влюбится? Ведь он же живой человек! — не унималась я.
— Наверное, ему придется выбирать: или Господь Бог, или женщина.
— Но это ведь жестоко! Это несправедливо! — искренне возмущалась я.
— Жизнь такая, какая есть, и каждый выбирает свой путь. А предъявлять претензии к Богу грешно!
— Да. Я поняла, — проговорила я сквозь слезы. Мне всем сердцем было жаль отца Никиту.
С ним мы познакомились очень необычно. Как-то я возвращалась домой, и одна милая старушка, маленькая, хрупкая, в цветастом платочке, попросила перевести ее через дорогу. Она плохо видела. Мы разговорились, старушка пригласила меня к себе домой выпить чаю. С того дня я часто бывала у бабы Моти — так ее звали. Приносила ей свежие булочки из буфета, а баба Мотя угощала меня вкусным борщом.
В один из таких визитов я и застала у нее отца Никиту. Тогда он еще не был священником, и имя его было Александр. Он только собирался принять монашество. Визуально мы друг друга знали, но никогда не общались. Баба Мотя нас познакомила. Я очень смутилась тогда.
Потом баба Мотя умерла, и наше общение с Александром-Никитой прервалось. Но когда его рукоположили в священники, я стала часто ходить к нему на исповедь. Я чувствовала к нему какое-то особенное доверие и безмерную симпатию, восхищалась его смелостью, благородством, умом, хотя так и не смогла понять, зачем молодому, красивому мужчине так необходимо было постригаться в монахи.
Отец Никита был старше меня всего на три года. Он был высокого роста и крепкого телосложения. Длинные, волнистые русые волосы его красиво струились до самой поясницы. Большие серые и немного отрешенные глаза, пухлые чувственные губы и прямой греческий профиль были предметом желаний и мечтой многих девушек, но он, увы, выбрал служение Богу.
Когда я смотрела в умные, потрясающей красоты глаза отца Никиты, я неизменно видела там нечеловеческую боль. От этого осознания щемило сердце. Вот отчего, беседуя с отцом Александром, я не смогла сдержать слезы.
9
В тот день, когда мне исполнилось семнадцать, меня никто не поздравил. Мама была на дежурстве, бабка отругала за какую-то ерунду и обозвала гадкими словами. Она даже не вспомнила про мой день рождения.
Я угрюмо брела по узкой дорожке. Не первый раз в жизни я чувствовала себя одинокой и несчастной. Но впервые мне по-настоящему стало страшно. В этот день словно открылись мои глаза, и я увидела свою жизнь или, скорее, свое существование со стороны. И ужаснулась. Казалось, что во всей Вселенной нет больше ни единой живой души — ни людей, ни животных, ни растений. Все вымерли. Я осталась одна и не знала, что с этим делать. Это ощущение длилось мгновение, но я успела испытать реальное, всеобъемлющее одиночество.
В тот день я не пошла на занятия. Свернув с узенькой дорожки, перейдя через мост и миновав длинную улицу частного сектора, я оказалась возле храма. Этот путь я проходила множество раз, но в этот день мне показалось, что эту дорогу, эти улочки я вижу впервые. Осторожными легкими шагами, чтобы не шуметь, я приблизилась к иконе Всецарицы. Я любила эту икону. Именно здесь, в этом закутке храма, мне было спокойно и хорошо. Я прикрыла глаза и забыла обо всем на свете.
Сколько прошло времени? Десять минут, а может быть, час или три? Я не знала! Но очнулась от прикосновения чьей-то руки на моем плече. Я медленно обернулась и увидела перед собой отца Александра.
— Что случилось? — спросил он так нежно и проникновенно, что у меня защемило сердце.
— Я… я… я не могу, — разрыдалась я, от слабости опускаясь на скамеечку.
Отец Александр сел рядом. Он взял мою руку в свою и свободной ладонью погладил меня по голове. Я почувствовала, как по всему моему телу разливается тепло. До этого момента меня никто не гладил по голове, я даже не предполагала, что от этого бывает так хорошо и приятно. Как по мановению волшебной палочки все мои горести таяли. Не было сил пошевелиться. Я сидела, затаив дыхание, ошеломленная и смущенная.
— Знаешь, в жизни много бывает проблем, неприятностей, — тихо заговорил отец Александр, — и это, безусловно, тяжело и горько. Но это надо пережить, переболеть — другого не дано. Только когда преодолеешь препятствия достойно, с высоко поднятой головой, приходит осознание того, что все, что с нами происходит, не случайно. Это наш путь. Наш крест. От этого никуда не уйдешь, не спрячешься. Остается принять свою жизнь и не роптать. Стремись, развивайся, делай все, что от тебя зависит, а результат предоставь Богу. Тебе легче станет жить, и ты многое сможешь понять.
Я сосредоточенно слушала. Что-то новое, доселе неизвестное, открывалось мне. Я жадно ловила каждое его слово, интонацию, жест. Мне хотелось, чтобы эта беседа никогда не заканчивалась.
— Пойдем, я тебя провожу! Тебе домой пора! — сказал отец Александр.
— Я не хочу домой, — с печалью в голосе возразила я.
— Тебе там так плохо? — слегка наклонившись ко мне, спросил отец Александр.
Я молчала. Ну как объяснить, что родная бабка меня ненавидит, что родную мать я раздражаю и что мой единственный друг — собака? Мне было страшно все это произнести, и после паузы я спросила:
— А вы бы смогли стать монахом?
— Скорее нет, чем да, — неохотно отозвался он. — В любом случае это уже невозможно: у меня есть жена и дети. А монахи дают обет безбрачия.
— А сколько вам лет? — я вдруг покраснела и опустила глаза, а отец Александр рассмеялся.
— Вот уж воистину, — сквозь смех проговорил он, — все женщины безмерно любознательны.
— Я не женщина! — возразила я и покраснела еще больше.
— Ты обязательно станешь красивой и привлекательной женщиной, — серьезно сказал отец Александр. Теперь смутился он. — А лет мне тридцать.
— Ого! — искренне удивилась я.
— Что, много?
— Нет! Просто вы не выглядите на тридцать лет!
— На сколько же лет я выгляжу? — удивился он.
— На двадцать девять!
Отец Александр смеялся до слез, а я растерянно смотрела на него, не понимая, что же его так развеселило.
10
Эти совместные походы от храма до остановки со временем превратились в нечто большее, чем просто беседы. Нечто невидимое, но прочное связывало нас. Двое людей, несчастная взрослеющая девушка и успешный священник, неожиданно для себя самих находят друг в друге отдушину. Ту самую отдушину, где четко знаешь, что нужен человеку как воздух, и человек как воздух нужен тебе.
Я не узнавала сама себя. Общение с отцом Александром шло мне на пользу. Во мне появилась уверенность, распрямились плечи, и весь мир, до тех пор неизменно тусклый и печальный, озарился вдруг ярким и необычным светом. Я слушала отца Александра и училась принимать жизнь такой, какая она есть. Издевки, скандалы, неприятности дома я воспринимала как неизбежное и не более того. И наслаждалась теми минутами, которые проводила с отцом Александром.
Он смог увидеть во мне личность. Часто он говорил мне, что я красавица и умница, но я подозрительно и недоверчиво на него косилась. Прошло немало времени, прежде чем отцу Александру удалось убедить меня в том, что он говорит правду. Он заставил меня поверить в то, что я не жирная корова, а девушка «в теле», что у меня необыкновенная персиковая кожа и удивительной красоты глаза!
После встреч и общения с отцом Александром приходилось спускаться с небес и возвращаться домой. А обстановка там становилась все напряженнее. В довершение ко всему бабка упала и сломала шейку бедра. Она больше не могла ходить и была прикована к кровати. Ей требовался уход. Необходимо было ее кормить, выносить судно, менять постель. Этим занималась мама, но когда она уходила на работу, обязанности автоматически перекладывались на меня. Ненавидя бабку, зажимая и воротя нос от судна, скрипя от бессилия зубами, я выполняла то, что от меня требовалось. С бабкой мы практически не общались. Я молча забирала судно, молча подавала еду и молча уносила обратно грязную посуду.
Однажды, поставив бабке тарелку с супом, я, как всегда, развернулась, чтобы уйти. Но внезапно почувствовала на своих ногах что-то горячее и липкое. Я посмотрела вниз. По ногам стекала суповая жижа, а рядом валялась тарелка.
— Убирайся, сучка! — крикнула бабка. — Ненавижу тебя!
Я испугалась. Это были, пожалуй, единственные слова, которые я от нее услышала с начала ее постельного режима. После этой сцены она редко что-либо мне говорила и только в том случае, если ей было что-то нужно принести или подать.
Неизвестно, сколько бы все это продолжалось, если бы жизнь меня не столкнула с моим бывшим школьным педагогом. Виктора Викторовича, несмотря на его непреодолимую тягу к алкоголю, любили все. Веселый, добрый, с чувством юмора и безмерным обаянием, он был заводилой в любой компании. Невысокого роста, с голубыми ясными глазами и неизменно зачесанными назад гладкими волосами пшеничного цвета, он был похож на доброго старика-волшебника. Где бы он ни появлялся, всегда звучал заливистый смех от его шуток и анекдотов.
Мы с ним встретились в хозяйственном магазине, куда мама отправила меня за краской для пола.
— Ну что, редиска, нос повесила? — весело поинтересовался Виктор Викторович.
— Да что-то радоваться нечему, — мрачно ответила я.
— Ну, ну, не узнаю свою девчонку-отличницу!
Повисла пауза. Я не знала, что говорить. На сердце было тяжело и неуютно.
— А чего ты вообще тут торчишь? — внезапно спросил Виктор Викторович. — Раз тебе здесь так плохо, переводись в другой город. Поселишься в общежитии, и начнется другая жизнь, — весело подмигнул он мне.
— Как? Я могу перевестись?
— Ну да.
— В другой город?
— Ну да.
— И общежитие будет?
— Будет, — утвердительно кивнул он.
— Так что же вы мне об этом раньше не сказали?
— Ну ты даешь! — пожал плечами Виктор Викторович. — Откуда ж мне было знать, что ты сбежать мечтаешь?
— Очень мечтаю, очень! Понимаете, я должна уехать, — трясла я его за руку. — Не могу я здесь больше!
— Да что с тобой? — Он серьезно посмотрел на меня.
— Спасибо вам, Виктор Викторович! Спасибо!
И я звонко чмокнула его в щеку.
11
Уехать… Ну конечно! Как я раньше не догадалась? Это же выход: начать жить самостоятельной жизнью. Я уеду, и больше не будет этого кошмара. Меня некому будет ругать и обзывать непристойными словами, мне некого будет бояться, не от чего впадать в панику и ужас. Я освобожусь от оков и неприятных обязанностей. Наконец-то я буду свободна!
Вот только от отца Александра мне будет уехать непросто. За эти несколько месяцев, в течение которых мы виделись с ним почти каждый день, он стал неотъемлемой частью моей жизни, ярким лучиком света в безрадостном существовании. Я уже не могла представить себя отдельно от отца Александра. Он успел завладеть моими мыслями и чувствами. Я попала в зависимость от него. Мне не хватало воздуха, если его не было рядом.
Я стояла перед выбором: оставить все как прежде — дружбу с отцом Александром, любовь Артюхи и невыносимую обстановку в семье — либо уехать и все изменить.
Расставаться было страшно. В этом случае необходимо было набраться смелости и попрощаться с отцом Александром, порвав отношения с единственным, кто сумел мне подарить ласку, заботу и внимание. Да еще Артюху бросить на произвол судьбы. Кто с ним будет гулять? Кормить? Заботиться о нем?
Но оставить все как есть было еще страшнее.
Я металась, словно зверь в клетке. Не могла ни есть, ни спать. Как же понять, что правильно в этой жизни, а что — нет? Кому задавать вопросы и где искать ответы?
12
После службы мы с отцом Александром, как обычно, шли на остановку. Впервые между нами не получалось разговора. Я молчала. Молчал и отец Александр. Я принимала важное решение. Быть может, первое самостоятельное решение в своей жизни. Он мне не мешал.
— Отец Александр, — начала я и запнулась.
Он посмотрел на меня серьезно и внимательно, и я невольно сжалась от этого пронзительного взгляда.
— Что случилось? — так же участливо, как и несколько месяцев назад, спросил он.
— Я… я уезжаю, — еле сдерживая накатившие слезы, ответила я.
Отец Александр прикрыл глаза. Его губы еле заметно двигались. Он молился Богу. В нем что-то боролось, и он, не в силах выдержать это испытание, обращался к Господу за помощью. Я это понимала. Слезы градом катились из моих глаз. Мне вдруг стало безумно жаль себя и этого человека рядом, с потерянным видом обращавшегося к тому, кто Выше, Чище, Мудрее и Всемогущее.
— Что с вами? — Я легко и осторожно дотронулась до его руки. — Вам плохо?
— Да, мне очень плохо, — глухим, незнакомым голосом ответил отец Александр, — но плохо не так, как ты думаешь.
— Вы говорите какими-то загадками.
— Зачем ты уезжаешь? — не обращая внимания на мою реплику, спросил отец Александр. — Ты хоть знаешь, что тебя ждет? Безденежье, голод, разврат!
— Я справлюсь, отец Александр! — дрогнувшим голосом ответила я. — Не могу я здесь больше, понимаете?
Он пристально вгляделся в мои глаза, словно пытался понять, что со мной происходит. Потом легко прикоснулся к моему плечу и придвинул меня к себе ближе. Я чувствовала его дыхание, его теплую сильную руку на своем плече. Мне казалось, что мое сердце вот-вот разорвется на части.
— Тебе здесь плохо совсем, да? — с каким-то сожалением спросил он.
Я молчала. Слезы застилали глаза.
— Можешь не рассказывать, — снова заговорил он, — я знаю, что плохо тебе живется.
— Год назад, — сквозь рыдания выдавила я из себя, — моя подружка Катя выходила замуж. Она пригласила меня на свадьбу. Дома меня на силу отпустили, с приказом явиться обратно в восемь вечера. Но вечером началось все самое интересное. Я познакомилась с мальчиком. — Тут я опустила глаза и перешла почти на шепот, но назад пути не было: я начала делиться историей из своей жизни, которая будоражила мое воображение даже спустя год. — Мне он очень понравился. Мы с ним танцевали все медленные танцы.
— Ты в первый раз танцевала с мальчиком, верно?
— Да! Это было так здорово и так красиво! Ну, в общем, домой я вернулась в первом часу ночи. Матери не было, она дежурила. Бабка встретила руганью. Другого я и не ждала. А утром началось… Я хотела идти к подруге, праздновать второй день свадьбы, встретиться со вчерашним мальчиком, но пришла с работы мама, и бабка сказала ей, что я явилась пьяная, лыка не вязала и на четвереньках ползала!
— А ты объяснила маме, что это неправда?
— Мама на меня накричала и заявила, что я наказана и никуда не пойду! Я плакала, просила, чтобы она меня выслушала. Мама не слушала. Я закрылась в комнате, не выходила день. А свадьба гуляла, и мальчик, который мне понравился, был там.
— Ты обижена!
— Они ненавидят меня! Что я такого им сделала?
Отец Александр вместо ответа легонько потрепал меня по плечу и спросил:
— Когда ты уезжаешь?
— Завтра, — мужественно ответила я.
«Бежать, бежать от него стремглав!» — пронзала меня мысль. Но нужно было найти в себе силы оторваться от его глаз, а сил не было. Мы стояли и молча смотрели друг на друга. Автобусы один за одним приезжали и уезжали. Я не могла уйти. Он не мог меня отпустить.
— Не делай этого, — сказал наконец отец Александр. — Не уезжай! Прошу тебя!
— Не надо, отец Александр. Мне пора!
Я решительно выдернула свои руки из его рук так, что стало нестерпимо больно. И от этой боли на глазах выступили слезы. Я вбежала в автобус и рухнула на сиденье, обессиленная и измученная. Я теряла человека, и мне казалось, что от меня отрывают кусок моего сердца. Но я не могла остаться только ради него. Зачем он мне? Зачем я ему? У него семья, высокое социальное положение, любовь и забота окружающих. И мне нет места возле него. Так лучше: я уеду и забуду о нем раз и навсегда! Но я обманывала себя, понимая, что уже успела глубоко привязаться к нему и забыть его мне будет ох как нелегко! Он будет жить в моем сердце. «Бред какой-то. Так не бывает. Я не могу, не имею права думать о нем». Разум мой упорно кричал: нельзя! нельзя! А сердце упорно твердило: любишь! любишь! Как страшно-то, Господи! Надо ехать. Далеко. Навсегда. Чтобы не видеть больше никогда его глаз, не слышать нежного голоса, не чувствовать ласковых рук.
13
В день отъезда я лихорадочно металась по квартире. До поезда оставалось уже совсем немного времени, а у меня еще не были собраны вещи. Все валилось из рук. Я ничего не могла найти. Мозг отказывался соображать. В отчаянии я бросила сумку и схватилась за голову, не зная, что делать. В этот самый момент раздался звонок в квартиру. «Кто там еще приперся?» — с раздражением подумала я и, с силой дернув ручку, распахнула дверь. На пороге стоял отец Александр. Нервы сдали, и, уже не контролируя себя, я бросилась к нему на шею и разрыдалась.
— Ну, ну, девочка моя, хорошая, — гладил меня по голове отец Александр. — Ты же у меня сильная, умная, красивая. Все будет хорошо!
Я уткнулась лицом в его мягкое плечо. Слезы катились градом. Я рыдала в голос, жалея обо всем на свете. О том, что в свой день рождения вместо занятий оказалась в церкви, что ко мне подошел отец Александр и заговорил, что он необратимо стал для меня близким и дорогим человеком.
Мне было страшно уезжать, а еще страшнее не уезжать. Сердце разрывалось от боли и отчаяния. Зачем он пришел? Ведь я уже смирилась с тем, что теряю его. Пыталась, сжав зубы, разорвать эти странные отношения со священнослужителем. А он снова встал на моем пути, будто дьявол-искуситель. Он мучает меня и терзает! Он издевается надо мной!
— Не плачь, девочка моя, хорошая, милая. — Он вытирал мне слезы своим неизвестно откуда появившимся платком. — Не плачь.
Он осторожно взял меня за плечи и, придерживая, словно боясь, что я рухну, подтолкнул в комнату. Мы сели друг напротив друга. Трясущимися руками я налила нам по чашке чая. Но к чаю мы так и не притронулись.
Стояла мертвая тишина, в которой громоподобно тикали часы и стучало сердце.
— А у меня есть для вас подарок, — наконец нарушила я молчание и достала из своей курточки маленькую иконку Богородицы Всецарицы. — Я хочу, чтобы эта иконка хранила вас от бед и несчастий.
— Спасибо, моя хорошая.
Он перекрестился, и осторожно взял икону из моих рук. Потом достал из кармана свою фотографию и положил передо мной.
— Это тебе.
Я ничего не сказала. Мне не хотелось брать его снимок, но отказать ему я не могла и вложила фото в свой паспорт.
Время поджимало. Пора было ехать на вокзал. Отец Александр попрощался с моей семьей, с любопытством наблюдавшей за нашей встречей. Я, бросив на ходу: «Сейчас приду!», вышла за ним. Мы медленно спускались по грязной, заплеванной окурками лестнице. Я шла за отцом Александром почти вплотную, чувствуя приятный запах от его темных кудряшек. Посреди лестничной площадки он вдруг резко остановился. Я невольно вздрогнула. Он внимательно и серьезно посмотрел на меня и тихо, но настойчиво сказал:
— Иди сюда!
И протянул мне свои пухлые, чуть красноватые руки. Я покорно подошла. Меня трясло как в лихорадке. Отец Александр притянул меня к себе и крепко обнял, прижимая лицом к своей щеке. От неожиданности и новых, неизведанных ощущений мои ноги подкосились, и я повисла на руках отца Александра, как тряпичная кукла. Он только крепче сжал меня в объятиях, чтобы я не рухнула на пол. Потом отстранил от себя и, взяв мое лицо обеими руками, заглянул в глаза. Я качалась из стороны в сторону, грозя вот-вот потерять сознание. Тогда отец Александр принялся покрывать легкими поцелуями мой лоб, глаза, щеки… И вот я почувствовала его губы на своих губах — теплые, нежные, просящие, настойчивые. Мои губы дрогнули, и мы слились с отцом Александром в единое целое долгим нежным поцелуем.
Оказывается, это здорово, когда тебя целует мужчина! Я всегда считала, что это противно и гадко, а оказалось, что это непередаваемо приятные ощущения, которых мне еще никогда не приходилось испытывать. Сердце бешено колотилось, угрожая выпрыгнуть наружу. И тогда вдруг резко, будто опомнившись, я оттолкнула отца Александра и убежала вверх по лестнице.
VIVACE
14
Я часто писала ему письма, и он на каждое отвечал. Я рассказывала про город, про учебу, про жизнь в общежитии. «Тут очень красиво, — писала я, — всюду зеленые, аккуратненькие улочки. Мне очень нравится! Все совсем по-другому. Но мне очень не хватает Вас. Я так к Вам привыкла, привязалась, что трудно теперь жить без Вас!»
В ответ он писал: «Милая, хорошая, здравствуй! Спасибо тебе за письма. Ты здорово умеешь писать. Зачитываюсь! Но я хочу тебе сказать другое. Я люблю тебя! Люблю не только как друга, хорошего человека, но как женщину. Ты уже взрослая девочка и должна понять: так бывает. Мужчина влюбляется в женщину, женщина влюбляется в мужчину. Конечно, я не имею права говорить с тобой о любви между мужчиной и женщиной, ведь я — священник. У меня есть семья. Но сердцу не прикажешь. Ты для меня, милая девочка, самый дорогой и близкий человек на земле! Знай это. Целую тебя. Твой отец Александр».
Я снова и снова перечитывала его строки. «Люблю тебя как женщину!» Что это значит? Чего он хочет от меня? Зачем пишет такое? У него есть жена. Значит, он ее любит? Должен любить! Но разве можно любить еще и меня? Так не бывает!
Эта моя наивность, граничащая то с мудростью, то с глупостью, забавляла отца Александра. За это, как сам писал, он меня и полюбил. Я ему задавала наивные, на первый взгляд даже дурацкие вопросы. А он искренне признавался, что не знает, как мне, глупенькой, объяснить необъяснимое. Умный дядька, изо дня в день наставляющий свою паству на путь истинный, не знал, что мне ответить, — а я с нетерпением ждала его ответов! Я, сама того не желая, заставляла его задумываться о жизни, о людях, их поступках. И отец Александр вынужден был смотреть на свою жизнь и на себя самого другими глазами. Он пытался убедить себя и меня, что пишет мне только ради того, чтобы поддержать, дать мудрый совет опытного священника. Но можно обмануть и меня, и свой разум, а вот сердце обмануть невозможно.
15
Моя жизнь стремительно менялась в лучшую сторону. Я записалась в спортзал и через несколько месяцев упорных тренировок похудела почти на десять килограммов. Пройдя курс лечения у косметолога, я приобрела гладкую кожу. Глаза сияли от удовольствия и результатов, которые приносила работа над собой. Я фонтанировала новыми идеями. Жизненная энергия била ключом.
О доме я вспоминала редко и никогда не скучала. Меня поражало, что остальные студенты с нетерпением ждали возможности съездить домой, к своим родным и близким. Единственным членом семьи, о котором я скучала, был Артюха. Мне его не хватало. Никто теперь не согревал мне ноги в холодные ночи, никто не будил по утрам, не к кому было прижаться, когда бывало трудно. Как там теперь живет моя любимая псина? Кто его выгуливает? Кормят ли его?
Ну и, конечно же, большую часть мыслей занимал отец Александр. Каждый вечер, закрывая глаза, я представляла нашу с ним встречу. Как приеду и брошусь ему на шею, как затеряюсь, утону в его мягких, нежных руках. Как скажу ему, что безумно скучала и чуть не умерла от тоски по нему. Безудержные фантазии затягивали меня все дальше и дальше. И однажды, находясь во власти своих эмоций, я написала ему письмо:
«Здравствуйте, мой дорогой отец Александр! У меня сегодня прекрасное настроение! Можете меня поздравить: экзамен, которого я так сильно боялась (ну, помните, я Вам рассказывала?), сдала на пятерку! Так легко сразу стало, будто камень с души свалился! Вообще, у меня здесь другая жизнь, совсем не похожая на прежнюю. Я Вам уже писала об этом.
Знаете, иногда мне становится так хорошо, что кажется, я не иду по земле, а лечу по воздуху. И это все благодаря Вам, отец Александр. Помните, я спрашивала у Вас, что такое любовь? Кажется, я поняла: любовь это и есть то чувство, благодаря которому ты не ходишь по земле, а летаешь по небу! Мне так хорошо! Спасибо Вам, отец Александр, за то, что Вы у меня есть. Теперь я Вам точно могу сказать: я люблю Вас! Я Вас люблю! Целую Вас крепко и надеюсь на скорую встречу с Вами».
16
Шли дни, летели недели. Отец Александр молчал.
Я изводила себя ожиданием, по несколько раз в день спускаясь к почтовому ящику. Писем не было.
Его телефон не отвечал.
Я бессмысленно бродила по усыпанным желтыми листьями аллеям.
Когда порвалась эта ниточка, все потеряло смысл. Учеба заброшена и сессия сдана кое-как.
Начались каникулы.
Я ехала домой с тяжелым чувством, заранее догадываясь, что ничего хорошего меня там не ждет. И не ошиблась. Дома встретили так, будто бы я никуда не уезжала, а вышла на несколько часов прогуляться. Каждый занимался своими делами, не обращая на меня никакого внимания. Рад был только Артюха, не отходивший от меня ни на шаг.
— Ну что, псинка, рассказывай, как ты тут без меня? — спросила я его, прижимаясь к его мокрому черному носику.
— У-у-у-у, — протянул Артюха.
— Все с тобой понятно! Плохо тебе живется! — неожиданно для себя заговорила я словами отца Александра.
Артюха склонил голову набок и внимательно смотрел на меня.
— А, — махнула я рукой, — пойдем гулять. Тащи поводок!
Собака послушно в считаные секунды притащила поводок, и мы, как бывало прежде, отправились на прогулку.
Я медленно шла по знакомому маршруту. Артюха радостно и лихо бежал впереди, иногда на миг останавливаясь и к чему-то принюхиваясь.
Я пыталась найти в себе чувство сожаления, ностальгии по родным краям. Пыталась, но не находила. Все мне казалось тусклым и чужим. Мне вдруг захотелось бежать. Обратно — в студенческое общежитие. Бежать, чтобы не видеть ничего, напоминающего мне о прошлой жизни. Но необходимо было найти отца Александра. И только это обстоятельство удерживало меня от немедленного отъезда.
Мы вернулись домой. Как обычно, я вымыла Артюхе лапы, потрепала его за длинные кудрявые уши и сказала:
— Ну, все, друг, я пошла! Пожелай мне удачи!
В прихожей, где я поправляла прическу, возник Дэн. И смерил меня откровенно любопытным взглядом, будто рассматривая музейный экземпляр.
— Куда это такая красота направляется? — ехидно спросил он.
— Не твое дело, — буркнула я и открыла входную дверь, спеша поскорее избавиться от его общества.
— А ты похудела, — заметил Дэн, — молодец!
От неожиданности я застыла на месте и обернулась. Это было, пожалуй, его первое доброе слово в мой адрес со времен моего появления на свет. Чтобы кому-то услышать от Дэна комплимент, обычно нужно было сделать невозможное. Вероятно, мне это удалось. Несколько секунд я стояла ошарашенная, изумленно глядя на Дэна. Потом тряхнула головой, прикоснувшись рукой к волосам, и с достоинством ответила:
— Я знаю!
Теперь уже изумился Дэн, но я, довольная собой, уже легко бежала по лестнице, предвкушая долгожданную встречу.
17
Я шла обычным нашим маршрутом, которым столько раз ходила с отцом Александром. Какие-то странные, нехорошие предчувствия не давали мне покоя. Чем ближе становился храм, тем сильнее меня охватывало неприятное волнение.
В храме, как всегда, было тихо и спокойно. Только изредка потрескивали догорающие свечи. Я встала у иконы Богородицы, той самой, возле которой отец Александр наставлял меня на путь истинный. Но не было и следа от прежнего умиротворения — в душе росла тревога. Я ждала с нетерпением, когда откроется алтарь и оттуда выйдет отец Александр. Священники и служащие выходили один за другим, но его не было видно.
Наконец я не выдержала, подошла к женщине в платочке, которая продавала свечи, и почти выкрикнула:
— А где отец Александр?
— Так уехал он, — последовал ответ.
— Как уехал?
В глазах у меня помутнело, и ком подкатил к горлу.
— Перевели его в другой город, — участливо объяснила женщина.
Я тупо смотрела в одну точку. Он уехал и ничего мне не сказал. Он подло бросил меня. Где его теперь искать? Да и стоит ли? Но без него мне ничего не нужно. Без него мне одиноко. Как он мог? Почему он не пишет?
Я вернулась домой. Запустила пальцы в густую теплую шерсть Артюхи. Мне было холодно.
18
Все последующие дни я пролежала в кровати. Болела. Ко мне вызвали доктора, но он никаких отклонений не нашел. Долго удивлялся: вид болезненный, но все показатели в норме. Температура, давление — все в порядке. Разве мог он понять, что у меня сердце разрывалось от тоски, истекая кровью от подлости и предательства близкого человека? Мог ли он это увидеть? Мог ли излечить? Нет. Медицина была бессильна.
Ослабленная и бледная, я с трудом поднялась на ноги через несколько дней. Каникулы заканчивались, и надо было уезжать. Я была рада, что эта пытка подходит к концу.
Откуда мне было знать, что в общежитии меня ждет окончательный удар в спину?
— Тебе письмо, — радостно сказала вахтерша, увидев меня, — пляши.
— Спасибо! — подпрыгнула я на месте и помчалась вверх по лестнице.
На конверте был почерк отца Александра, и я торопилась прочесть его содержимое. «Наконец-то он вспомнил обо мне! Наконец-то!» Вбежав в комнату и бросив сумку на пол, дрожащими руками я вскрыла конверт. Внутри был маленький клочок бумаги. Странно. Отец Александр всегда писал мне длинные, обстоятельные письма. Я еще раз взглянула на конверт: все правильно, письмо от него — и тогда уже прочла:
«Ты мне не нужна. Не пиши и не звони. Исповедайся, покайся и причастись. Отец Александр».
Наверное, я забыла русский язык. Я не понимала ни одного слова. Снова и снова перечитывала записку: «Ты мне не нужна».
«Не нужна, не нужна, не нужна», — стучало в голове. Прислонившись к холодной стене, я медленно съехала вниз. «Не пиши, не пиши… Не пиши и не звони… Не звони, не звони, не звони», — ударял молоточек по мозгам. «Покайся». Тело горело, словно в огне. Я задыхалась. Мир рушился. Голова сильно кружилась. Образ отца Александра меркнул, а на его место приходили пустота и боль. Я стискивала пальцами этот крошечный клочок бумаги, не зная, что с ним делать дальше. Немного подумав, я аккуратно убрала записку обратно в конверт и вложила его в кипу толстых учебных тетрадей.
19
Дни проходили размеренно и спокойно. Острая боль постепенно утихала, оставляя кровоточащую рану. Я старалась занять себя, загрузить, чтобы не вспоминать о том, кто еще совсем недавно был близок и дорог. С учебы на работу, с работы на тренировку. Свободного времени практически не оставалось. Я возвращалась в общежитие поздно вечером, ложилась и мгновенно засыпала, ни о чем не раздумывая.
Вскоре мою размеренную жизнь нарушила телеграмма от матери. Умерла бабка, нужно было срочно выезжать на похороны. Уже через несколько часов я мчалась в ночном поезде. К утру я была дома. Посреди зала стоял гроб с бабкиным телом. В квартире было невыносимо много народу, все суетились, переговаривались, бросая на меня равнодушные взгляды. Я ходила как неприкаянная. Смерть бабки меня нисколько не тронула. Я равнодушно смотрела на мертвое разлагавшееся тело и не испытывала абсолютно никаких эмоций по этому поводу.
— А, приехала? — походя окликнула меня мама. Она ничуть не изменилась. Все такая же энергичная, властная, она четко и коротко отдавала указания по организации похорон. — Что стоишь-то? — с укором спросила она. — Иди за священником, отпеть же надо! — И удалилась, только слышен был ее командный голос, распоряжающийся незнакомыми мне людьми.
Я покорно поплелась в церковь, к отцу Никите. Застала я его на входе в храм и буквально вцепилась в его руку.
— Отец Никита, у меня бабка умерла, вы очень нужны! — на одном дыхании выпалила я.
— Поехали, — коротко ответил он, и мы прямиком направились к дому.
— Ты когда приехала-то? — спросил по дороге отец Никита.
— Два часа назад, — устало ответила я.
Наша квартира находилась на восьмом этаже. Лифт уже года два не работал. Отец Никита, грузный и плотный, переступал ступеньку за ступенькой, часто останавливаясь и тяжело дыша. Я поддерживала его под руку то с одной, то с другой стороны, успевая вытирать выступавший на его лбу крупными каплями пот. До двери мы добрались оба обессиленные, отец Никита задыхался, а у меня тряслись руки и подкашивались ноги.
Несколько минут отец Никита молча готовился к отпеванию, а потом неожиданно сунул мне молитвенник и строго сказал: «Читай!» Я открыла страницу, но буквы прыгали перед глазами, расплываясь мелкими кляксами. Дрожащим от страха и усталости голосом я начала читать и не узнала себя. Голос был чужим. Девичья мягкость и нежность куда-то исчезли. Появились строгие, грозные интонации. Голос звучал глухо и тревожно.
Отец Никита буквально вырвал из моих рук молитвенник. Я подняла на него глаза и с трудом поняла, что отпевание закончилось. Передо мной стояло два отца Никиты и два гроба. Голова закружилась, и я невольно схватилась за спинку стула.
— Ну, ничего, ничего, — тихо сказал отец Никита, — ты молодец!
— Спасибо вам, отец Никита, — хрипло произнесла я.
Похороны плыли как в тумане: яма, гроб, земля. Как странно: была женщина, жила восемьдесят два года, к чему-то стремилась, кого-то любила, кого-то ненавидела. А потом все закончилось в один миг: она закрыла глаза и больше их не открыла. И теперь ее запихнули в ящик, зарыли в землю, на съедение червям. Могила со временем порастет травой, крест истреплется от снегов и дождей, память затрется. Потом умрут и те, кто знал ее. И ничего не останется. Все закончится. Жалкий бугорок с покосившимся крестом да сорной травой будет одиноко стоять, забытый и всеми покинутый. Вздыхать и плакать будет один лишь ветер.
Мне хотелось скорее со всем этим покончить. Я устала. Но на мне лежали обязанности, от которых я не могла отказаться.
Уже вечером, когда все разошлись, я спросила у мамы, домывая посуду:
— Ты Дэну дала телеграмму?
— Конечно. — Она подняла на меня тоже уставшие, ко всему безразличные глаза.
— И где он? Почему он сейчас не здесь?
— Не смог приехать, — отмахиваясь от меня, как от назойливой мухи, ответила мама.
— Что значит «не смог приехать»? — возмутилась я, сама удивляясь своей реакции.
— Домывай посуду и иди спать! — строго сказала мама.
Как же так? Ведь бабка его любила больше жизни! Она готова была отдать все, лишь бы Дэну было хорошо. Я всегда удивлялась, почему бабка не заботилась о маме так же, как о нем. Ведь Дэн далеко. Непонятно в каких разъездах и на каких работах. А мама здесь, рядом. Она ухаживала за бабкой и делала все возможное и невозможное, чтобы скрасить ее последние дни жизни.
Бабка очень любила книги, и мама часто, иногда на последние копейки, приобретала художественную литературу. Бабка читала запоем, не отрываясь. Мне казалось, что конец своей жизни она провела в другом, иллюзорном мире, спасаясь тем самым от болей и от жестокой реальности.
Именно от бабки я унаследовала любовь к книгам. Часто в тишине, в те моменты, когда меня никто не видел, я открывала шкаф, до отказа набитый книгами, и перебирала их, одну за другой, сдувая пылинки и разглаживая смятые листочки. Я оказывалась в мире сказок и фантазий. И, подобно бабке, начинала жить в этом мире. Это было захватывающе и увлекательно. И так не похоже на тот мир, который окружал меня в реальности.
Я вошла в комнату, где когда-то лежала бабка, читая многотомные произведения. В комнате никого не было. Постель была аккуратно заправлена. Я осторожно села на нее, и мой взгляд упал на случайно завалившуюся за кровать книгу. Я взяла ее в руки. В книге, примерно на середине, лежала закладка. Бабка, видимо, с упоением и наслаждением читала, но, увы, дойти до финала не успела.
Впервые мне ее искренне стало жаль. Я вдруг вспомнила ее ситцевое платьице, белый платок, повязанный поверх седых волос, большие, в пол-лица очки. Что она чувствовала, когда лежала здесь одна, лишенная возможности двигаться и способная только безмолвно читать и наслаждаться жизнью в несуществующем мире? О чем она думала? Что вспоминала в последние дни своей жизни? Безусловно, она ждала Дэна. Дэн был для нее светом в окошке. Она ждала его, чтобы в последний раз прикоснуться к его руке, чмокнуть по-матерински в щеку, заглянуть в глаза своего любимого чада. Она ждала и, возможно, умирая, шептала его имя. Она не дождалась. Имя застыло на помертвевших холодных губах.
— Дэн, скотина! — От злости я сжала покрывало на опустевшей кровати.
Я всегда его недолюбливала: за его ехидную неискреннюю улыбку, за его насмешки и издевательства, за его оскорбления. Но боялась в этом признаться даже самой себе. В семье о Дэне запрещалось говорить плохо. Его превозносили. Боготворили. Но я интуитивно чувствовала, что превозносить его не за что. И что под красивой оберткой кроется отвратительная, вонючая гниль. Я понимала, что, приезжая к нам в семью и унижая и высмеивая маму и меня, Дэн таким образом самоутверждался. Он постоянно был в поисках заработка и всегда приезжал к нам без денег. За годы сложилась традиция: мама с бабкой его откармливали, одевали-обували, а потом покупали ему билет и отправляли восвояси. За все эти добрые дела они получали в свой адрес едкие замечания и ехидные насмешки. Обо мне и говорить нечего. На мне Дэн отыгрывался по полной программе и виртуозно оттачивал свое «мастерство». «Не носи лифчик, — помню, сказал он мне однажды в присутствии матери. — А то сиськи отвиснут, и будешь похожа на корову!» Я вжалась в стул. Мне было стыдно, жутко стыдно. Если бы было возможно провалиться сквозь землю, я бы провалилась. Если бы можно было раствориться и стать невидимой, я бы с большим удовольствием превратилась в невидимку. Мама сделала вид, будто ничего не услышала. Она никогда не перечила Дэну и стойко и мужественно терпела все его издевки.
Теперь, когда я сидела в бабкиной комнате и перебирала эти гадкие эпизоды с участием Дэна, стало больно и обидно: за себя, за маму, за бабку. В этот день для меня вскрылась гнилая суть Дэна, и я решила, что больше не позволю ему наносить оскорбления ни мне, ни матери.
20
Безразличная, опустошенная и равнодушная, возвращалась я в общежитие. Что-то надломилось во мне. Слишком много событий случилось со мной в последнее время. Встреча с отцом Александром, переезд, предательство, смерть бабки — все это не прошло для меня бесследно. За несколько месяцев я повзрослела на несколько лет. Жизнь открывалась для меня с совершенно новой, ранее неизвестной стороны. И я, напуганная и ошарашенная ее стремительным и бурным течением, не знала, что мне теперь со всем этим делать.
Церковь больше не приносила умиротворения. Наоборот, на душе становилось тревожно и неспокойно. В каждом священнике мне мерещился отец Александр, и потому каждого священника я ненавидела.
Теперь я знала, что под рясой у всех у них кроются пороки и грехи. Как можно исповедоваться священнику, который сам погряз в разврате и грехе? Как можно довериться священнику, который еще порочнее и невежественнее тебя? Я боролась сама с собой. Я не хотела терять храм — отдушину для моей измученной души. Но и находиться в храме тоже не могла. Не в силах больше выдерживать эту ношу, я пришла на исповедь к одному из таких священников. Я хорошо помнила записку отца Александра: «Исповедайся, покайся и причастись». Не могу сказать, что у меня было желание его слушаться. Скорее всего, я сама понимала, что мне просто необходимо снять с себя тяжкий груз. Я физически ощущала на себе тонны грязи, и безумно хотелось отмыться, очиститься, чтобы стало легче и спокойнее.
Этот священник не был похож на отца Александра. Он был высокого роста и худощав. Его рыжие редкие волосы безжизненно свисали с плеч. Борода, такая же редкая и рыжая, торчала во все стороны. Густые длинные бесцветные брови окаймляли небольшие светлые глаза. Резко очерченный рот был плотно сжат, и когда он говорил, казалось, что его рот некто невидимый дергает за ниточки.
— Я целовалась со священником! — выпалила я. — И не только целовалась, но еще и переписывалась.
— Знаешь, как это называется? — грозно, с каким-то жутким отвращением спросил святой отец. — Это называется блуд.
От гнева и возмущения он раскраснелся и покрылся испариной. Я молчала, униженная, растоптанная и растерзанная, склонив голову. А внутри, словно снежный ком, нарастал, накатывал еще больший гнев на всех священников. В чем я виновата? В том, что живая и могу любить? Это он, взрослый дядька в священном одеянии, заставил меня полюбить его. Это он полез целоваться к невинной девочке. И теперь другой священник, возможно не менее грешный, грозит мне расправой и Божьим Судом. За что? Что я вам всем сделала, священные чины? Я выбежала из храма. Слезы катились градом. Я не нашла покоя, я не нашла поддержки там, где должна была ее найти. Меня преследовали боль, разочарование и чувство омерзения. Дорога в храм была закрыта.
21
Время шло быстро. Из юной девушки я превращалась в молодую красивую женщину. Мне исполнился двадцать один год, и я заканчивала училище. Ничего не изменилось за эти четыре года. Мои сокурсницы вовсю дружили с молодыми людьми, выходили замуж. А я об отношениях с парнями даже слышать ничего не хотела. Для меня их просто не существовало. Я и в мыслях, в своих самых смелых фантазиях, не могла представить, что какой-то юноша будет меня целовать. Да и кто может сравниться с отцом Александром? На его фоне все мужчины казались никчемными и меркли.
От отца Александра после той унизительной записки больше не было никаких вестей. Он не писал и не звонил. Я тоже не писала и не звонила, хотя стоило это мне героических усилий. Много раз за эти годы моя рука, предательски дрожа, тянулась к телефону, чтобы набрать его номер. Но в последний момент разум приказывал мне остановиться. Нельзя! Умом я все очень хорошо понимала. Я знала, что если бы он хотел, то обязательно дал бы о себе знать. Если бы он так же страдал без меня, как я без него, он бы позвонил. Но он молчал. И я не смела вторгаться на его территорию, в его судьбу.
Когда я уже окончательно смирилась с тем, что он больше не появится в моей жизни, с вахты мне крикнули: «Тебя к телефону!» Я нехотя подошла к аппарату. Я никого не ждала.
— Алле, — равнодушно произнесла я.
— Здравствуй, милая моя девочка! — раздался в трубке голос отца Александра.
Я молчала. Странно, у меня не было никаких эмоций. Я не обрадовалась, не удивилась. Не было ни злости, ни обиды, ни радости. Не было ничего, кроме пустоты и безразличия.
— Алле! Ты меня слышишь? — гремел его бас. — Я сегодня выезжаю к тебе, поездом. Слышишь меня? Алле!
— Сегодня выезжаю поездом к тебе! — глядя в одну точку, повторила я.
— Ну, все! До встречи! — И он отключился.
Зачем он едет? Что ему опять от меня нужно? Ведь я только успокоилась, только научилась жить без него, дышать без него. И он, тут как тут, неизвестно зачем появляется на моем пути.
Конечно же, я его ждала. На смену пустоте и безразличию пришло волнительное предвкушение. В общежитии я сказала, что ко мне едет дядя, чтобы не было лишних вопросов.
Часы перед встречей тянулись мучительно долго. Я ходила по своей маленькой, но уютной комнатушке, нервно поглядывая на себя в зеркало.
И вот долгожданный стук в дверь. Мне показалось, что это рухнуло мое сердце. Дрожащей рукой я с силой дернула ручку, и дверь послушно открылась. На пороге стоял отец Александр, которого я знала четыре года назад. Он нисколько не изменился. Мы смотрели друг на друга. Как будто и не было расставания, как будто и не было той подлой записки. Но в памяти настойчиво билась мысль о предательстве отца Александра, и я вмиг поняла, что уже не смогу относиться к нему так, как прежде. Слишком много претензий и горечи засело в моем сердце. И они затмили все те светлые чувства, которые я когда-то к нему испытывала.
— Здрасьте! — язвительно заговорила я.
— Здравствуй, моя хорошая! — Он перешагнул через порог и нежно обнял меня, отчего меня просто захлестнула обида за все унижения, которые я вытерпела по его милости.
Мы прошли в комнату. Повисла тягостная пауза. Он сел на кровать и ласково посмотрел на меня. Меня распирало от злости, но лицо горело по совсем другой причине.
— Сними с моей шеи крестик! — тихо, но твердо сказал отец Александр.
Повинуясь, я приблизилась и трясущимися руками коснулась его горячей шеи. Меня окатило волной возбуждения. Стало невыносимо жарко. Я тяжело дышала. Подавленная нежность и желание пробивались наружу. Я злилась на себя за свою слабость, но чувства были сильнее меня. Я села к нему на колени, обняла за шею и зарылась своим лицом в его густых кудряшках. Слезы, силой удерживаемые мной, рвались наружу. И не справившись с нахлынувшими эмоциями, я разрыдалась, как маленькая девочка, на его мощном плече. Он молча гладил меня по голове, слегка покачивая, до тех пор пока я не выбилась из сил и не затихла. Мне стало легко и хорошо. Слезы вытащили из меня накопившуюся боль. Я сидела на коленях у человека, которого когда-то любила. Любила и теперь. Но защитный барьер, который я возвела за эти годы, не давал мне раскрыться. Я не могла полностью расслабиться, поскольку больше не верила ему. Он пал в моих глазах. Из-за него я ненавидела всех священников. Благодаря ему я больше не ходила в церковь. И именно по его милости мое сердце узнало боль и отчаяние первой любви.
Отец Александр был со мной ровно сутки. Мы болтали с ним на разные темы, как две близкие подружки. Он рассказал, что ту позорную записку его якобы заставила написать жена. Что ей попались на глаза мои письма. Но я почему-то не верила этому. Мне не давало покоя ощущение, что я кукла-марионетка в его спектакле жизни. Ему нравилось держать меня на веревочке, то ослабляя ее, то натягивая до предела.
— Ага! Жена заставила! — передразнила я его. — А ты сам-то способен принимать решения и брать на себя ответственность или как?
Он опустил глаза и слегка покраснел. Ему было неловко. Ничего не ответив, он закурил. Он много курил и литрами пил крепкий черный кофе. Я смеялась над ним: святой отец — и с сигаретой в руках! Он улыбнулся, подошел близко-близко и притянул меня к себе, намереваясь поцеловать. Я отшатнулась от него, как от огня:
— Я тебе не кукла!
Он отвернулся к окну и тихо сказал:
— Прости меня.
— Да иди ты со своим прощением, преподобный отец! — задыхаясь от злости, выпалила я.
Впрочем, хорошие моменты в нашей с ним встрече тоже были. Я с интересом его расспрашивала, как ему служится на новом месте, нравится ли.
— А вот когда люди исповедуются, они сами начинают рассказывать тебе о грехах? — интересовалась я.
— Кто как. Некоторые сами. Кто подходит и молчит, того спрашиваю я, стараясь разговорить, — охотно объяснял отец Александр. — Знаешь, бывают такие грехи, о которых очень тяжело заговорить!
— Знаю! — невесело ответила я.
Я не рассказала ему, что была у священника, не рассказала, как этот священник отругал меня за отношения со святым лицом. Не призналась я ему и в том, что теперь ненавижу всех священников, вместе взятых. И его в том числе! Что во мне наряду с безумной и сумасшедшей любовью к нему живет лютая ненависть. Я не могла понять, чего во мне больше: любви? ненависти? Или того и другого поровну? Меня одновременно и тянуло к нему, и отталкивало.
Перед отъездом он сделал еще одну попытку добиться близости: его рука, погладив меня по голове, опустилась на мою грудь.
— Отстань! — с силой оттолкнула я его. — Я не хочу! — и, закрыв лицо от неловкости и стыда, отвернулась к стене.
Прощались мы рассеянно и холодно. Было неловко. Мне — за то, что я слишком строго и вызывающе себя вела, ему — за то, что позволял себе слишком много вольностей. Мы стояли перед зданием железнодорожного вокзала, и он нервно курил.
— Ты не жалеешь, что приехал ко мне? — вдруг спросила я.
— Нет! — коротко ответил он и отвернулся.
Я уткнулась в его плечо. Он обнял меня своими мощными руками. И мы замерли в ожидании поезда.
— Прости меня, пожалуйста, отец Александр! — с грустью в голосе произнесла я. — Я вела себя как дура!
— Ну что ты, глупенькая. Разве могу я на тебя обижаться? Ты ведь мой самый дорогой и близкий человечек.
— Я не могу без тебя! — вдруг выдала я.
Он помолчал, поежился.
— Помнишь, ты мне читала стихи?
Я кивнула. Любовь к стихам у меня была с детства. Как-то после очередной службы мы шли с ним на остановку. Я сказала, что обожаю поэзию, и он попросил что-нибудь прочесть. И сейчас тем же голосом, с той же интонацией:
— Прочти, пожалуйста, то стихотворение.
Не ломаясь, я начала читать средь шумной разношерстной вокзальной толпы:
В том городе, не верящем слезам,
Есть женщина. Она слезам не верит.
Она тебя спокойным взглядом смерит:
Сам полюбил — расплачивайся сам!
Та женщина все в прошлое глядит,
Оно ей крепко крылья изломало.
Что сделаешь? Ее щадили мало.
Так и она тебя не пощадит!
— Не пощадит! — глухо повторил отец Александр.
— Посадку объявляют, — рассеянно произнесла я.
На перроне мы как-то неумело прижались друг к другу, не зная, что сказать. Я отворачивалась, делая вид, что разглядываю толпу, спешащую к вагону, а на самом деле прятала слезы, беспощадно душившие меня. Что-то говорило мне, что мы прощаемся надолго, может, навсегда. Я теряла отца Александра. И даже зная, что мне необходимо его потерять, забыть, вычеркнуть разом из своей жизни, я не могла унять боль разлуки. Сердце рвалось на части. Он стоит, курит, смотрит вдаль. О чем он сейчас думает? Что с ним происходит? Он молчит, и я не смею нарушить его сурового молчания. Кто придумал эти проводы-провожания? Это же настоящая пытка! Время, как назло, тянется медленно. Кажется, оно остановилось, застыло на месте. Когда же уже отправление?
— Ты мне напишешь? — спрашиваю я, зная заранее ответ.
— Конечно напишу.
Врет! Но как красиво и трогательно. Ведь не будет никакого письма. Я знаю. И он тоже знает. Он тоже решил меня забыть, потерять, вычеркнуть раз и навсегда из своей жизни.
Сейчас хлопнет дверь вагона, и все закончится. Грешная любовь, неожиданная встреча — все канет в Лету. Как будто бы и не было этих лет!
— Ты у меня самая замечательная, — говорит отец Александр, запрыгивая в вагон. — Я позвоню, — кричит он, стремительно отдаляясь от меня.
Я киваю, из последних сил сдерживая слезы. Поезд превращается в маленькую точку, а потом и вовсе исчезает. Дует сильный ветер, заметая следы отца Александра и следы грязного прошлого. Я облегченно вздыхаю. Пусть уезжает. Пусть уезжает далеко. Пусть уезжает из моей жизни. Пусть.
22
После отъезда отца Александра началась новая страница моей жизни. В скором времени я окончила училище и уехала учительствовать в рабочий поселок. В школе, куда я устроилась работать, обитали в основном педагоги маразматического пенсионного возраста. И тут появилась я — жизнерадостная девочка-припевочка. Маленькая, худенькая, с серыми глазами в пол-лица, я оказалась белой вороной. Особенно меня невзлюбила Нина Павловна Князева, преподаватель русского языка и литературы. Она не страдала интеллектом, у нее были проблемы с речью, и писала она… с ошибками! Меня это поражало до глубины души. Чему может научить учительница, пишущая с ошибками и ставящая неправильные ударения в словах? Я всегда любила русский язык и неплохо в нем разбиралась, поэтому все промашки Нины Павловны замечала. Конечно, я этого не озвучивала, но она каким-то задним чутьем это чувствовала и люто меня ненавидела.
Потом начались проблемы с детьми. В мой класс врывались тридцать человек маленьких бандитов, и я должна была с ними что-то делать. Что можно делать на уроках музыки в школе? Да все что угодно! Испокон веков про уроки музыки, как там деточки ходят по партам, легенды ходят! Музыку никто и никогда за предмет не считал. И мне, к сожалению, не удалось в этом переубедить ни детей, ни педагогов. Оглядываясь впоследствии, я с ужасом вспоминала свои уроки. С младшими классами я еще как-то находила общий язык, старалась сделать свои уроки увлекательными за счет игровой формы. Иногда получалось очень даже неплохо. Я радовалась своим маленьким победам и достижениям. Но когда на пороге появлялись седьмые-восьмые классы, всем моим стараниям приходил конец. На мои просьбы спеть фрагмент из какой-нибудь песни они квакали или мычали. Когда я включала музыкальное произведение для прослушивания, вскакивали и бегали по партам. Особенно мне запомнился Петя Федорцов из седьмого «В». Он заходил в класс как король. Его все боялись, включая учителей. Меня он каждый раз окидывал ехидным взглядом и с довольной усмешкой говорил:
— Ну что, училка, споемся?
Меня воротило от этой пошлости и наглости. Но что я могла? Федорцов вел себя так развязно не только на моих уроках, а везде и со всеми. Когда классный руководитель Федорцова Елена Викторовна взялась за его воспитание: оставляла заниматься после уроков, проводила профилактические беседы и периодически вызывала родителей в школу, — домой она шла только в сопровождении мужа, которой каждый вечер, ровно в семь, появлялся в школьном дворе. Федорцов угрожал убить ее, а заодно и директора, Контрабаскину Лидию Яковлевну, тучную даму бальзаковского возраста. Что было говорить о моих скромных и никому не нужных уроках музыки. Я даже не пыталась воздействовать на этого подрастающего бандита, терроризировавшего всю школу. Старалась не обращать на него внимания, хотя это было практически невозможно.
Однажды он весь урок писал на парте матерные слова, не забывая при этом бекать и мекать. Весь класс, как обезьяны, повторял за ним все действия. Ведь он был явный лидер класса, еще не понимающего, что на самом деле он просто паршивая овца. Я не выдержала и пригласила Елену Викторовну. Мне нравилась это женщина. Она была одной из немногих в этой школе, кто знал свой предмет и умел интересно донести информацию. И писала она без ошибок, за что Нина Павловна ее тоже недолюбливала. Проницательные карие глаза Елены Викторовны умели видеть одновременно весь класс. От нее не ускользала ни одна шпаргалка, ни одна подсказка. Но зато все, кто у нее учился, знали историю назубок. Так что она была моей последней надеждой.
— Ну что, Федорцов, опять уроки срываешь? — выпалила она, входя энергичной походкой в кабинет музыки. — Что случилось? — обратилась она к нему.
Федорцов сидел, развалившись на двух стульях, перед исписанной матами партой и молчал, ехидно улыбаясь.
— Что случилось? Я тебя спрашиваю, Федорцов! — повторила она.
— А что сразу Федорцов? — произнес он тоном человека, добившегося своего. Ему нравилось привлекать к своей персоне внимание.
— Завтра родителей в школу! — твердо сказала она. — И не забудь после урока вымыть парту! Продолжайте! — обратилась она теперь уже ко мне и так же стремительно покинула класс.
— Вы мне за это ответите! — прогремел Федорцов, злобно уставившись на меня.
На мое счастье, прозвенел звонок, и вся эта дикая орава понеслась с воплями по коридору трепать нервы следующему педагогу.
— Вы мне за это ответите! — повторил на прощание Федорцов и скрылся за дверью.
Федорцов меня не обманул. С этого дня он устроил мне невыносимую жизнь. Собрав парней из десятых классов, он каждый вечер стал приходить с этой бандой в общежитие, где я обитала. Они пинали мою входную дверь, стучали в окно, выкрикивая гадкие слова. А однажды подожгли на моем окне сетку от комаров.
Все это происходило на глазах у соседей. Никто не вмешивался, боясь этих маленьких разбойников. За стенкой жила старая, лет восьмидесяти, бабка Ленка. Она мне сочувствовала, но тут же признавалась, что помочь ничем не может. Позже выяснилось, что один гаденыш из банды был сыном ее близкой подруги — и та прекрасно знала от бабки Ленки, что ее сынок каждый вечер донимает молодую училку, но даже не потрудилась с ним поговорить.
Я понятия не имела, что делать. Ситуация заходила в тупик. Я стала нервной, раздражительной, вздрагивала от каждого шороха и стука. Помощи просить было не у кого, и однажды, не в силах больше молчать, я пожаловалась молодой учительнице географии. Ирина Дмитриевна была моей ровесницей и полной моей противоположностью. Высокая, статная, уверенная в себе, она, в отличие от меня, умела укрощать хамов. Поэтому, выслушав мою историю, сказала:
— Надо этих козлов выследить!
Вечером она приехала ко мне в общежитие на машине, за рулем которой был ее любовник по имени Эдик. Армянин по национальности, он плохо говорил по-русски. Зато имел серьезные связи в «верхах», работал неизвестно где и неизвестно кем, но зарабатывал достаточно, чтобы содержать законную жену с двумя детьми и законную любовницу Ирину.
— Садись в машину! — скомандовал мне Эдик.
Он отъехал и развернул машину так, чтобы можно было видеть мое окно и всех появлявшихся вблизи общежития. Мы ждали. Я сильно нервничала. Эдик спокойно курил. Ирина, сощурившись, всматривалась в темноту.
— Вот они! — наконец сказала она.
Я схватилась за ручку машины и хотела выйти.
— Куда? — перехватил мою руку Эдик. — Сиди спокойно!
Я плохо знала по фамилиям учеников старших классов, поскольку предмет музыки преподавался до восьмого класса. Их знала Ирина, как раз работавшая со старшеклассниками. Все так же щурясь, она принялась легко перечислять нарисовавшуюся банду по фамилиям:
— Сизов, Крылатов, Гнездицкий, Шульгин, Кобыляцкий и замыкает эту банду Федорцов.
— Кобыляцкий? — удивилась я. — Ты сказала Кобыляцкий?
— Да, а что? — спросила Ирина.
— Да ничего! Просто этот Кобыляцкий — сын тетки, с которой дружит моя соседка. Вот сволочь! — вырвалось у меня.
— Сволочь! — с сильнейшим акцентом подтвердил Эдик.
Он завел двигатель, включил дальний свет и прямиком поехал на толпу, которая вовсю развлекалась возле моего окна, думая, что я уже дома.
Они испугались и от неожиданности попятились назад. Я не выдержала, высунулась из машины и закричала:
— Пошли вон, ублюдки! И чтобы духу вашего здесь больше не было!
Хулиганы разбежались. Из своих окон тут и там выглядывали соседи, с интересом наблюдая за происходящим. Я вышла из машины. Меня трясло.
— Сволочи, сволочи! — повторяла я сквозь слезы.
— Ну, все, все, — ободрял меня Эдик. — Они больше не придут!
Но я на этом не успокоилась. Во мне кипели злость и ненависть к этим малолетним подонкам. Мне хотелось их наказать, отомстить за все издевательства, которые я от них вытерпела.
На следующий день, ближе к вечеру, я отправилась в дом семьи Кобыляцких. К Кобыляцкому у меня были особые чувства. Он меня раздражал, бесил до белого каления уже одним своим видом — неприятным, под стать его натуре. Длинный, как каланча, худой, как дистрофик, рыжий и конопатый, с маленькими светло-серыми глазками, которые, казалось, постоянно искали, что бы такого натворить, кому бы сделать плохо. И тут подвернулась я. Каждое утро мы сталкивались с Кобыляцким по дороге в школу, и он сверлил меня взглядом, ехидно улыбаясь. Будто спрашивал: «Хорошо ли ты спала после моего вчерашнего позднего визита?» Я его ненавидела и теперь шла с предвкушением сладостного чувства мести. Я знала, что у него очень строгий отец, и надеялась, что родитель разберется со своим пакостным чадом.
Я вошла в калитку, нервно, с грохотом захлопнув за собой дверь. Отец Кобыляцкого колол на улице дрова. Это был высокий грузный мужчина, лет сорока пяти, с пухлыми, в мозолях, руками и курчавыми темными волосами. Сын на отца был совсем не похож, и я подумала, что, возможно, это отчим. В какой-то момент мне стало страшно от созерцания того, как Кобыляцкий-старший размахивает топором. Захотелось уйти. Но я глубоко вдохнула и направилась в его сторону. Все это время Кобыляцкий-младший, высунувшись из сеней, внимательно наблюдал за мной. Впервые я видела в его взгляде не бахвальное ехидство, а панический животный страх. И сразу поняла, что Ирина не шутила, говоря, что единственный человек, способный укротить Кобыляцкого, — это его отец.
— Здравствуйте! — вплотную подойдя к старшему, сказала я.
Он не спеша обернулся и вопросительно посмотрел на меня умными карими глазами.
— Я учительница музыки, — продолжала я, не дожидаясь ответа, — и живу вон в том общежитии, — я показала кивком головы и выпалила на одном дыхании: — Ваш сын каждый вечер стучится в мои окна, выбивает ногами входную дверь и выкрикивает маты.
Отец, бросив топор, внимательно и с удивлением слушал меня. В отличие от мамаши Кобыляцкого, он ничего не знал о вечерних похождениях сына, и чем дальше я рассказывала, тем напряженнее становился.
— И если он не прекратит свои визиты, — твердо и со злостью предупредила я, внезапно осмелев, — я напишу заявление в милицию!
Он рассеянно посмотрел на меня, словно переваривая полученную информацию. Потом медленно повернулся в сторону дома, откуда на него испуганно смотрели Кобыляцкий и его мамаша, и грозно сказал сыну:
— Ну, иди сюда, скотина!
— Нет! — трясущимися губами проговорил Кобыляцкий.
— Тогда я сам подойду! — прогремел разъяренный отец и быстрыми шагами направился к нему.
Вся семья Кобыляцких скрылась в доме, и я уже оттуда услышала:
— Ты что себе позволяешь? Как ты смеешь?! — кричал старший.
— Я больше не буду! — вопил младший.
— Не трогай его! — рыдала мамаша.
Я вышла из калитки, зловеще улыбаясь.
— Так тебе и надо, подонок, — вырвалось у меня вслух. — В следующий раз будешь думать, чем на досуге заниматься!
Утром вся школа была в курсе происшедшего. Мой поступок не одобрили ни учителя, ни дети. К тому же Кобыляцкий, которого отец избил, не явился на занятия. Остальная банда притихла, напуганная моими угрозами заявить в милицию. Даже Федорцов сидел на уроке тихо, заставив весь класс молчать. От гробовой тишины в седьмом «В» было непривычно и неуютно. Тридцать пар детских глаз смотрели на меня с ненавистью и презрением, а взгляд Федорцова испепелял меня так, что к концу урока мне казалось, что на мне горит одежда.
Зайдя в учительскую, я ощутила на себе ту же ненависть, только теперь уже не детскую, а взрослую.
— Ну, и что ты теперь будешь делать? — намеренно громко, во всеуслышание поинтересовалась Нина Павловна.
— А что бы вы сделали на моем месте? — неожиданно для себя и для всех резко спросила я и сверкнула глазами на Нину Павловну.
Она растерялась, явно не ожидая от меня такой реакции, и молчала, соображая, чем же ответить на мой выпад. Учителя подходили, окружая меня и Нину Павловну плотным кольцом и предвкушая возможность насладиться скандалом.
— Ну, я имела в виду… — растерянно начала Нина Павловна.
— Я знаю, что вы имели в виду, — перебила я. — Я напишу заявление в милицию! Даже не сомневайтесь!
По учительской прокатился шепот. Эти старые тетки были изумлены моим резко изменившимся поведением. Им было не понять, что я доведена до отчаяния и мне теперь абсолютно все равно, что будет дальше. Я бы не удивилась, если бы, придя домой, обнаружила свою комнату сгоревшей дотла. От этих деточек можно было ожидать чего угодно, поскольку между мной и ими развязалась нешуточная война и теперь шла борьба за выживание.
— Ты позоришь нашу школу! — вскипела Нина Павловна.
— Ее давно уже опозорили вы, придя сюда преподавать русский язык, которого не знаете! — парировала я.
Учительская загудела. Нина Павловна схватилась за сердце. Кто-то закричал: «Воды! Воды! Нине Павловне плохо!»
Я вышла. Больше мне здесь нечего было делать. Я понимала, что вырыла себе яму, но нисколько об этом не жалела. Ведь кто-то же должен был всколыхнуть это вязкое мерзкое болото, под названием «средняя общеобразовательная школа»!
Я сидела в своей комнатушке, обхватив голову руками. Стоял ноябрь. Было холодно. Сквозь огромные щели в моей двери безжалостно дул ледяной пронизывающий ветер. Я мысленно придумывала текст заявления в милицию. Я решила идти до конца: мне объявили войну, меня травят, но я просто так, без боя, не сдамся!
В комнату постучали. С трудом оторвав от головы заледеневшие руки, я медленно поднялась. «Кого там еще принесло?» — подумала я, с раздражением распахивая дверь. На пороге, вместе с холодным завывающим ветром, появился Кобыляцкий.
— Здравствуйте! — смиренно сказал он, не глядя мне в глаза.
— Чего тебе? — рявкнула я, охваченная яростью: опять он собрался надо мной издеваться!
— Я пришел просить прощения, — еле выговорил он.
Я оторопела, и, мгновенно успокоившись, только сейчас заметила, как сильно изменился Кобыляцкий за эти несколько дней. Лицо совсем осунулось, щеки впали, теперь он был похож на ходячий скелет. Светло-серые глаза потухли, но в них появилась осознанность. Вероятно, он многое передумал за это время и сделал для себя определенные выводы. Я стояла, грозно упершись рукой в бок, но в душе уже раскаивалась за то, что затеяла свою «расправу». Почему-то мне стало жаль этого мальчишку, живущего с мамашей-кукушкой и отцом-тираном. Два родителя — две крайности. Мамаша покрывает подлые поступки сыночка, даже не потрудившись провести с ним поучительную беседу, а папаша-тиран избивает до полусмерти — не допуская мысли, что, опять же, можно поговорить со своим чадом и доступно объяснить, что приемлемо, что недопустимо.
— Не пишите заявление. Пожалуйста! — взмолился Кобыляцкий.
— С чего это вдруг? — строго спросила я. — За свои поступки надо отвечать, Кобыляцкий!
Я потянулась открыть дверь, чтобы выпроводить его. Но он перехватил мою руку.
— Мне в институт поступать, а с такой биографией будет очень сложно. — Он слегка пошатывался — казалось, что сейчас возьмет и рухнет к моим ногам. — Я больше не буду! Правда! А дверь я вам починю. Пожалуйста!
— Ладно уж, — смягчилась я. Бессмысленно было продолжать эту сцену. — Сильно тебя папаша избил? — вдруг спросила я.
— Так себе, — заулыбался Кобыляцкий, и его глаза просияли. — Мне не привыкать, — добавил он.
— Что, так часто попадает?
— Бывает, — склонив голову, ответил он.
— Иди, Кобыляцкий, иди, — сказала я. — Не буду писать заявление.
— Правда? — оживился он. — Вы правду говорите?
— Обещаю. — И я захлопнула дверь.
Я сдержала слово и в милицию не пошла. Со временем эта история утихла, и все пошло своим чередом. На моих уроках стало тише и спокойнее. Никто уже не стремился нарываться на конфликт со мной. Я показала характер и выдержку, и дети это усвоили. С учителями я практически не общалась и в учительской появлялась довольно редко. Но в отличие от детей, тетки не успокоились и продолжали меня травить.
Однажды ко мне на второй урок не явился седьмой «А». Прозвенел звонок, в школе наступила умиротворяющая тишина, а класс в полном составе словно провалился. Я подождала несколько минут и отправилась на поиски. Сходила к классному руководителю, потом в спортзал — безрезультатно. Закаленная и ко всему готовая, я отправилась в кабинет завуча — он же рассадник слухов и сплетен. У заведующей учебной частью Марины Ивановны Шумахер собирались сотрудники для того, чтобы в очередной раз перемыть косточки всем и вся, не подозревая, что в их отсутствие здесь появлялись другие и мыли косточки уже им. Когда Марина Ивановна занималась работой — для меня лично оставалось загадкой. Но все же, в отличие от Нины Павловны, она была не так безнадежно глупа и свои обязанности знала неплохо. Полная, грузная, она всегда сидела за своим столом, подпирая его мощной, роскошной грудью. Мне нравились ее голубые, цвета озера, глаза. В них иногда мелькали проблески ума, что для этой школы было очень ценным, редким качеством.
— У меня седьмой «А» не пришел! — заявила я.
— То есть как не пришел? — Шумахер подняла на меня свои спокойные прозрачные глаза и улыбнулась. Привыкнув к тому, что меня вечно сопровождают ЧП и скандалы, она никогда не удивлялась моим новостям.
— Вот так, не пришел и все! — теряя терпение, раздраженно ответила я.
Марина Ивановна перевела свой взгляд на расписание.
— Так, — сказала она, — первым уроком была математика у Зои Васильевны, ищи там!
Эта математичка считалась в школе самой вредной и несговорчивой и всегда была в курсе всех событий. Худая, невысокого роста, слегка сгорбленная, она напоминала мне старуху Шапокляк — для полноты образа ей не хватает только крысы. Впалые щеки, резко очерченный рот, проницательные узкие глаза выдавали в ней сильную и властную личность. Ходить обычным шагом, как все, она не умела, и передвигалась легким бегом, отчего дети справедливо прозвали ее Торнадо.
В кабинет Зои Васильевны я вошла не стучась — там сидел седьмой класс «А», и она преспокойно занималась с ними математикой во время моего законного урока музыки.
— Вообще-то у вас музыка, — обратилась я к классу, игнорируя математичку. — Сейчас все дружно поднимаемся, — ледяным, не терпящим возражения голосом, продолжала я, — и идем в кабинет музыки.
Я вышла, не дожидаясь реакции на мое заявление, спустилась в свой кабинет и села за стол. Меня трясло от злости. Я была уверена, что Шапокляк не отпустит класс до конца урока. Каково же было мое удивление, когда через две минуты ко мне ворвались тридцать голов седьмого «А».
После уроков я снова зашла в кабинет Марины Ивановны и уверенно объявила:
— Зоя Васильевна сорвала мне урок. Разберитесь. Пожалуйста, — добавила я, закрывая за собой дверь и слыша в ответ:
— Хорошо.
Наступила весна. Среди всей этой травли и ненависти мне необходимо было подготовить художественный смотр. К нам ехала какая-то важная комиссия, и в школе ощущались напряжение и суета.
Подготовка шла тяжело. У меня еще не было опыта проведения таких мероприятий, а обратиться за помощью было не к кому. Нина Павловна, которая якобы меня курировала, то и дело вставляла мне палки в колеса. Остальные тетки тоже при каждом удобном случае старались уколоть меня язвительными высказываниями и замечаниями. Их тупые головы не понимали, что они не меня травят, а школу обрекают на провал.
Детей я выбрала не по способностям, а взяла тех, кто был послушным и ответственным и ходил на все репетиции. Естественно, уровень страдал. Времени до смотра оставалось совсем немного, а у меня, как назло, все разваливалось. Дети то болели, то внезапно отказывались от участия. И даже те немногие номера, которые мы с огромным трудом отрепетировали, так называемые педагоги нашей школы пытались зарубить.
За два дня до смотра мы с Ниной Павловной утверждали очередность номеров. И тут на пороге возникла Шумахер. Она, как учитель литературы, готовила чтецов.
— Поставь еще Корягина в программу, он все-таки будет читать, — обратилась Шумахерша к Нине Павловне.
— Некуда ставить, номеров очень много, — возразила Нина Павловна.
— Ну так выброси всякую дрянь, — Шумахерша кивнула в мою сторону, — и поставь Корягина! — и, гордо подняв голову, вышла, не дожидаясь ответа.
— Ничего себе, «всякую дрянь»! — сквозь слезы проговорила я. Нервы уже не выдерживали. Я устала от изнурительной подготовки к мероприятию и травли.
— Ты что, оскорбилась? — ехидно поинтересовалась Нина Павловна. После случая в учительской она считала своим святым долгом сделать мне плохо и больно. Иными словами, мстила мне.
— Нет, я обрадовалась! — съязвила я. — А «всякую дрянь» действительно нужно выбросить. Не забудьте, пожалуйста!
На смотре дети, подготовленные мной, выступили, к моему удивлению, неплохо. И председатель комиссии, грузная важная тетка, в присутствии всех участников выразила мне благодарность как молодому специалисту за успешно проделанную работу. Ни Шумахершу, ни Нину Павловну она не отметила. Я видела, как их физиономии вытянулись от недовольства, как люто они сверлили меня злобными глазами. Я ликовала. Молодая девчонка обошла солидных педагогов с солидным стажем работы.
От всех переживаний и серьезных нагрузок у меня защемило нерв, и я попала в больницу. Но я нисколько не расстроилась, наоборот, была счастлива отдохнуть некоторое время от школы. Приближались летние каникулы, по основным предметам проводились контрольные работы, и отсутствие уроков музыки всех только радовало.
Мне назначили обезболивающие уколы, поили какими-то гадкими таблетками, и я с наслаждением валялась на больничной койке, ничего не делая и пялясь целыми днями в потолок. Все было хорошо ровно до того момента, пока меня не пришла навестить Ирина.
— Ты разве не в психиатрической клинике? — смеясь, спросила Ирина.
— Нет, — растерявшись, ответила я. — Что за странные шутки?
— Это не шутки. По всей школе ходит слух, что ты наблюдаешься в психиатрической клинике! И знаешь, кто этот слух пустил? Угадай с трех раз.
— Нина Павловна?
— Она самая.
— Я так и думала, что она не успокоится.
— С этим надо что-то делать, — решительно сказала Ирина.
— А что с этим можно сделать? — У меня закружилась голова. Голос прерывался и дрожал.
— Ну, морду ей набей, что ли? — усмехнулась Ирина.
— Ладно, подумаю, — ответила я серьезно.
На следующий день, отпросившись из больницы, я прямиком направилась в школу, в кабинет Нины Павловны. Видимо, выражение моего лица внушало такой ужас, что Нина Павловна сразу как-то неестественно съежилась.
— Тебя уже выписали? — спросила она.
— Еще нет, — бросая на стул сумку, ответила я. — Психиатр категорически против моей выписки.
Нина Павловна смотрела на меня испуганно и молчала.
— Зачем вы распустили слухи о психиатре? Вам заняться больше нечем? — Я подошла вплотную, глядя ей прямо в глаза.
— Я такого не говорила, — наконец выдавила она из себя.
— У меня есть свидетели, — парировала я, продолжая ее разглядывать в упор, — которые именно от вас слышали эту информацию.
Дальше отпираться было бессмысленно. Она опустила глаза.
— Я подам на вас в суд за клевету. И будьте уверены — выиграю этот суд!
Я вышла, закрыв за собой дверь и оставив Нину Павловну в полном смятении. Я знала, что сильно испугала ее. Люди такого сорта обычно пакостны и трусливы одновременно. Я чувствовала, что она поверила моим угрозам, и теперь будет трястись, как заяц, а то и вообще забьется в свою нору, чтобы переждать бурю.
Я не ошиблась. На следующий день я узнала, что после моего визита Нина Павловна устроила показательный спектакль с валерьянкой и корвалолом. И, конечно же, не забыла озвучить, что это я ее довела. Таким образом, она срочно заболела и ушла на больничный.
Я была удовлетворена. В очередной раз мне удалось укротить эту старую змею, которая вместо того, чтобы думать о работе и своем саморазвитии, занималась тем, что разносила грязь по школе, и без того заплеванной и загаженной.
В больнице я пробыла несколько недель. Лечение шло тяжело, мне ничего не помогало. Вероятно, я сознательно не хотела выздоравливать, чтобы дольше не возвращаться в школьный гадюшник. Выписали меня лишь к концу четвертой четверти. Учебный год заканчивался, и необходимо было привести документы в порядок. Как всегда, меня ждал сюрприз. Группа учителей, науськанная Ниной Павловной, уже выставила четвертные и годовые оценки по предмету «музыка»! Я смотрела в журналы и не верила своим глазам: они посмели залезть в мои документы! Это было откровенным вызовом.
Я толкнула дверь директора Контрабаскиной и влетела со стопой журналов без приглашения войти.
— Вот! — бросила я журналы ей на стол. — Ваши педагоги посмели выставить оценки без моего участия.
Всегда спокойная и выдержанная, Контрабаскина предложила мне сесть. Я послушалась и рухнула на стул.
— Я очень прошу вас, разберитесь! — уже спокойнее и тише сказала я. — Это переходит все границы.
Я устало потерла лоб, вдруг осознав, что трачу свои силы зря и Контрабаскина ни с кем разбираться не будет. Она была директором лишь номинально. Школой, по сути, управляла Шумахерша, которая, в свою очередь, была близкой подругой Нины Павловны. Я попала в замкнутый круг, разорвать который было практически невозможно. Что могла сделать молодая девчонка против этих маститых наглых баб, не обремененных интеллектом?
Контрабаскина все же вызвала Шумахершу, и та с ходу начала орать. О том, что я ушла на больничный на неизвестный срок, что я ее не поставила в известность, что они не могли ждать, поскольку оценки необходимо было выставить в табели. Я молчала. Возражать было бессмысленно. Шумахерша избрала верную тактику: лучший способ защиты — нападение. Я даже не пыталась защищаться, понимая, что проиграла и изменить ничего нельзя. Оставалось лишь одно: смириться.
Наступила осень. Обстановка в школе была тяжелая, напряженная. Зарплату не выплачивали месяцами. В основном учителя выживали своим хозяйством — огородом. Я уже не могла видеть ни хлеб, ни картошку, ни школу. Надо было срочно что-то менять в своей жизни. Но что? Я не видела никакого выхода и уже почти смирилась с тем, что есть. Но тут неожиданно в моей жизни вновь появился Виктор Викторович. Я всегда поздравляла его с днем рождения. Позвонила ему и в этот год, чтобы в очередной раз пожелать банальных здоровья, счастья и долгих лет жизни.
— Спасибо, спасибо, дорогая! — басил он в трубку. — Рад, несказанно рад тебя слышать! Ты сама-то как? Замуж не вышла?
— Плохо, Виктор Викторович, — вдруг вырвалось у меня. — Замуж не вышла, и такого счастья, видимо, не предвидится, да и работа так задолбала, что сил никаких нет!
— Не дрейфь! — как всегда бодро и жизнерадостно откликнулся он. — Хочешь на север поехать? Там неплохую зарплату платят и жильем тебя обеспечат.
— Хочу, — не раздумывая, согласилась я.
— Ну, вот и хорошо! Я поговорю насчет тебя и перезвоню.
ПАСТОРАЛЬ
23
Через месяц я уже ехала в плацкартном вагоне на север. Виктор Викторович сдержал слово и направил меня к своему другу, начальнику Управления культуры, который оперативно подыскал для меня работу в школе искусств какого-то там забытого богом поселка.
Из прежней школы я ушла с великой радостью. Мне выдали расчет. За несколько месяцев накопилась приличная сумма, и я чувствовала себя богатой, свободной и счастливой.
Обрадованная возможностью исчезнуть из ненавистной мне школы, я даже не потрудилась спросить название поселка. И теперь понятия не имела, куда я еду и что меня там ждет. Из вещей я взяла только самое необходимое, и этого необходимого оказалось две багажные сумки среднего размера.
В Управлении мне дали указание ехать до конечной станции Парабола — там меня встретят. Впервые я столкнулась с дивными мифическими названиями населенных пунктов: Хиноты, Танн, Кия. Было ощущение, что я попала в параллельный мир.
Утром меня разбудил проводник:
— Вставай, приехали.
— А где все? — спросонья спросила я, потирая затекшие руки.
— Погулять ушли, — резко ответил он. — Пошевеливайся!
Я натянула на себя шапку, шубу, сапоги и выбралась со своими сумками из вагона.
— Вот наша девочка! — услышала я где-то совсем близко приятный женский голос. — Ты учительница?
— Ага.
— Сережа! — позвала женщина.
Передо мной вырос двухметровый амбал, подхватил мои сумки, будто две пушинки, и понесся быстрым пружинистым шагом по направлению к машине.
— Я Надежда Алексеевна, заместитель начальника Управления культуры, — представилась женщина. — Меня попросили доставить тебя до места и сдать из рук в руки.
— Ага, — повторила я.
На станции Парабола заканчивались железнодорожные пути, это был тупик. Дальше на огромном безмерном пространстве разливалась непроходимая тайга, по которой меня повезли в «Волге». Чем дальше мы ехали, тем неотступнее крутилось в голове: что я натворила? куда я еду? Надо было быть совсем сумасшедшей, чтобы решиться на эту авантюру. Автомобиль резко подскакивал на выбоинах и кочках, а перед колесами шмыгали шустрые белки. За все три часа, что мы ехали, нам не встретилось ни одной машины. Населенных пунктов тоже не встречалось. Лишь однажды, на полдороге, на горизонте возникла крохотная деревенька с покосившимися домами. Деревня называлась необычно — Пьянчуга. Странный населенный пункт быстро скрылся за соснами, и мы опять покатили по непроходимой тайге.
— Солнышко светит — хороший знак, — заметила Надежда Алексеевна.
На дворе стоял двадцать третий день декабря, и такая солнечная и теплая погода в зимнее время года для тех мест, как узнала я позже, была исключительной редкостью.
— А как поселок называется? — спохватилась я.
— Киндзя! — с достоинством ответила Надежда Алексеевна.
«Боже, только этого мне не хватало! — подумала я, уронив голову на спинку переднего сиденья. — Мало того, что забралась черт-те куда, — ругала я мысленно себя, — так еще и жить буду в каком-то занюханном поселке с таким позорным названием!»
— Ты не переживай, — видимо прочитав мои мысли, сказала Надежда Алексеевна. — Я когда-то тоже примерно в твоем возрасте, двадцатидвухлетней, приехала сюда по контракту на три года да так и осталась на всю жизнь. Поверь мне, все у тебя будет хорошо, — ласково добавила она.
— Спасибо, Надежда Алексеевна. Я постараюсь.
Мы въехали в поселок, который мало чем отличался от Пьянчуги. Серые невзрачные дома с покосившимися ветхими крышами, узкая, будто сплющенная, центральная улица имени Ленина, убогий, еле заметный продуктовый магазин. У меня нехорошо заныло сердце. Мне здесь не нравилось, и я ругала себя на чем свет стоит за глупый, необдуманный поступок. Досталось и Виктору Викторовичу: насоветовал, блин, старый хрыч!
Машина остановилась возле школы, в которой мне предстояло работать. Я вышла, и у меня мгновенно закружилась голова. Чистый, свежий, окутанный морозцем воздух совершенно отличался от того, к которому я привыкла. Это было совсем другое ощущение. Другой мир! Другая жизнь! Конец света!
По одну сторону поселка располагалась река, которая, как мне предстояло узнать, кормила добрую половину населения — рыбная ловля процветала. По другую, словно охраняя и защищая жителей, — на возвышении нависала тайга, так называемая верхняя дорога. Забравшись туда, можно было увидеть весь поселок Киндзя!
Школа меня не впечатлила. Маленькое одноэтажное здание, похожее на сарай, одиноко стояло в конце узкой улицы. Деревянные ступени крыльца невыносимо скрипели. Надежда Алексеевна открыла дверь, и мы оказались в полутемном невзрачном коридоре. Навстречу вышло несколько женщин, приветствуя нас и с неподдельным интересом разглядывая меня. От этих назойливых взглядов я сжалась в тугой комок. Мне уже заранее не нравились эти тетки, напомнившие об училках из прошлой моей школы, и от этих воспоминаний меня передернуло и бросило в дрожь.
Нас усадили за щедро накрытый стол, и я, измотанная дорогой, с удовольствием уминала селедку, грибочки, домашние маринованные огурчики. Стало тепло и хорошо. Женщины, с которыми мне предстояло работать, уже не казались такими вредными и ужасными.
— Мне пора, — сказала Надежда Алексеевна.
Я мгновенно опять почувствовала тревогу и бросила на нее умоляющий взгляд, словно утопающий, хватающийся за соломинку.
— Не обижайте молодого специалиста, — добавила она, кивнув в мою сторону, и шепнула мне: — Все будет хорошо!
Я смотрела, как машина с Надеждой Алексеевной стремительно исчезала в таежных соснах. Занавес опустился. Я осталась одна на краю света, в уже успевшем стать для меня ненавистным поселке Киндзя.
— Ну, давайте знакомиться, — сказала одна из женщин.
Самая молодая, Юлия Павловна, лет двадцати трех, была директором школы и преподавала класс баяна. Она была высокая и крупная. Белокурые волосы окаймляли бледное веснушчатое лицо. Голубые выразительные глаза смотрели проникновенно и доброжелательно. Нижняя пухлая губа выпирала чуть вперед, что придавало ей особый шарм и привлекательность.
— Добро пожаловать в наш коллектив! — приветливо сказала она. — Это Наталья Васильевна, преподаватель по классу вокала и фортепиано. — И она легким движением руки указала на одну из соседок.
Наталья Васильевна расплылась в улыбке, показав свои редкие гнилые зубы. Под ее неказистыми, перекошенными очками скрывались красивые, цвета морской волны, глаза. Волнистые волосы, видимо, давно не мытые, отливали в лучах солнца насыщенным каштановым цветом. На вид ей было лет тридцать пять. Все ее движения и манеры говорили о былой красоте и изяществе, но теперь, располневшая и небрежно одетая, она была похожа на женщину, смирившуюся с тяжелой долей.
— А это, — продолжала Юлия Павловна, — Ольга Владимировна, наш незаменимый художник.
Ольге Владимировне было лет под тридцать, и, несмотря на наличие двоих детей, выглядела она моложаво, имела вполне стройную фигуру и одета она была аккуратно и со вкусом. Красавицей она не была: небольшие зеленые глаза, длинный крючковатый нос, как у Бабы-яги, — но брала жизнерадостностью и задором. Любила анекдоты и, как выяснилось позже, инициатором всех шуток всегда была именно она (впрочем, и сплетен тоже).
— Наш архивариус и почетный работник Елена Анатольевна, — представила директор школы следующую женщину.
Елена Анатольевна мне сразу понравилась. Она производила впечатление умудренного жизнью человека с неординарным и пытливым умом. Она не заканчивала никаких институтов, работала обыкновенным секретарем и еще техничкой на полставки. У нее были шикарные светлые волосы, волнистые от природы. Она никогда их не красила и не завивала — все было своим, настоящим. На зависть всем женщинам. По характеру Елена Анатольевна была, что называется, себе на уме, никогда не выдавала своих эмоций. Единственный ее сын вырос и уехал учиться в город, муж неделями зависал в командировках, и поговаривали, что у него имелась вторая семья. И Елена Анатольевна, Леночка, как впоследствии я ее называла, сорокалетняя женщина, жила одна. Именно с ней я быстрее всего нашла общий язык. Что-то такое было в нас, на что у обеих отозвались самые тонкие струнки души. Возможно, любовь к пению. Я отлично владела аккордеоном и безумно любила вокалистов. А у Леночки был яркий, сочный, очень красивый тембр голоса. Она божественно пела. Но до моего появления ей просто некому было аккомпанировать.
Однажды я сидела в кабинете, что-то негромко наигрывая. Леночка, как всегда неслышно и осторожно, вошла с нотами и попросила сыграть одну из песен. Я легко исполнила ее просьбу.
— Мне очень нравится эта песня! — с восторгом сказала она.
— Ну так давай споем?
— А ты подыграешь? Правда?— недоуменно спросила она.
— Ну конечно!
Позже я узнала, что Юлия Павловна не любила аккомпанировать, особенно вокалистам, а Наталья Васильевна слишком плохо владела инструментом и при всем своем желании не справилась бы с этой задачей. Вот почему мое предложение спеть вызвало сначала недоверие, потом удивление и только после всего этого — несказанную радость.
Дети мне понравились. В них не было наглости и хамства, от которого я натерпелась, работая в предыдущей школе. Я вела уроки с удовольствием, отдавая себя без остатка.
Морозы стояли под шестьдесят градусов. Дом, который мне выделила местная администрация, к счастью, находился совсем рядом со школой. Но, даже преодолевая это крошечное расстояние туда и обратно, я успевала безнадежно замерзнуть. Магазин находился подальше, и мне, чтобы добраться до него живой и невредимой, приходилось бежать не останавливаясь.
Я открывала для себя новую жизнь: училась топить печь, колоть дрова, таскать воду, расчищать дорожки от снега. Было тяжело. Но жалеть себя было некогда, работа и бытовые проблемы поглощали меня полностью.
С коллективом отношения складывались тяжело. Через несколько дней жизни в поселке Киндзя я поняла, что здесь совсем другой уклад, другое мировоззрение — далекое для меня. Необходимо было учиться подстраиваться. Но я была юной гордячкой и максималисткой. Я не хотела быть как все! И благодаря своему упрямству опять зарекомендовала себя белой вороной. Меня это ничуть не смущало, даже наоборот, забавляло и умиляло. Впоследствии меня назовут экзальтированной личностью, а переводя на их язык — просто чокнутой.
Утро в школе начиналось со сбора всех сотрудников в гардеробной. Этот уголок считался святым местом сплетен. Здесь обсуждались последние события нелегкой сельской жизни. Я в этом действе никогда не участвовала и ни в какие пересуды не вникала (и не хотела вникать!). Поначалу коллектив удивлялся моей отстраненности от дел насущных, но потом все привыкли и оставили меня в покое.
Еще работала в школе так называемый завхоз — Любовь Васильевна Завалюхина. За ней тоже числилось немало странностей. Быть может, поэтому она сразу взялась опекать меня как маленькую девочку.
Это была добрая, но чрезмерно шебутная и приставучая женщина пятидесяти пяти лет. Она не давала расслабиться никому, начиная с коллег по школе и заканчивая главой местной администрации. В школе ее называли неофициальным директором, поскольку все вопросы с начальством решала именно она.
Любовь Васильевна обливалась ледяной водой в лютые морозы, ходила босиком по снегу, а летом выращивала целую плантацию ягод, овощей и цветов. Ее необыкновенно красивыми цветами любовался весь поселок. Переступая через порог ее калитки, я словно проваливалась в цветочный рай, безнадежно утопая в неземной красоте.
Она успевала все, поскольку спала всего два-три часа в сутки, а работала как электровеник! Именно Любовь Васильевна учила меня топить печь. Она ходила ко мне домой каждый день на протяжении двух недель, пока я наконец не освоила технику ведения тяжелого сельского домашнего хозяйства.
— Не получается! — восклицала я.
— Дык ты полено-то сухо положи, — мило улыбаясь, терпеливо наставляла она.
— А это мокрое, что ли? — отчаянно спрашивала я.
— Сырое, — спокойно поправляла меня Любовь Васильевна.
— Они же абсолютно одинаковые! — возражала я, тупо рассматривая два полена, похожие друг на друга как две капли воды.
— Смотри: вот это полено тяжелое, — она поднимала полено и качала в руке, — значит, оно сырое и никогда не разгорится. А вот это, — ловко подхватывала она другое полено, — легкое, — значит, сухое и разгорится быстрее.
Эти знания северного быта давались мне тяжело. Выросшая в городе и не знавшая, как выглядит печь и что такое туалет на улице, я с трудом привыкала к новому укладу жизни.
24
Я часто думала об отце Александре. Перед тем как уехать на север, я ему долго и упорно звонила. Хотела услышать его голос. Мне был необходим его совет. Но телефон предательски молчал. Отец Александр был самым светлым воспоминанием моей жизни. Тем воспоминанием, которое хранят подобно дорогому и редкому самоцвету. Я перебирала эти минуты счастья, словно листала страницы ценной раритетной книги. Мне не хватало, как воздуха, общения с ним, и, не выдержав, я написала ему письмо:
«Я не могу. Я погибаю здесь, на краю света. Я сделала глупость. Мне невыносимо больно и одиноко. Помоги мне! Умоляю!»
На что я надеялась, когда писала это полное отчаяния и горечи письмо? Что он, как добрый волшебник, все бросит и прилетит в этот забытый богом поселок? Или, быть может, предложит приехать к нему? Возможно, где-то в глубине души я на это все и надеялась, а возможно, и нет. Просто отец Александр был единственным человеком, которому я могла пожаловаться и поплакаться в жилетку.
Когда от него пришло письмо, я не верила своим глазам и долго не решалась заглянуть внутрь. Наконец трясущимися руками я вскрыла конверт. Там оказалась его фотография — он причащал какого-то младенца — и небольшое письмо:
«Гони тяжелые мысли. Гони уныние. Это грех. Все у тебя наладится и все обязательно получится, потому что ты у меня самая умная и самая талантливая девочка в мире!»
К письму прилагался денежный перевод. «Он откупается от меня!» — почему-то мелькнула мысль. Сначала я хотела отослать ему деньги обратно, но соблазн потратить эту сумму на свои нужды взял верх, и я передумала.
Больше он не писал. Я тоже молчала. Мне нечего было сказать. Я не ошиблась: он откупился от меня и моих проблем деньгами.
25
Леночка становилась для меня близким человеком. Нас свела песня. Мы пели, едва появлялось свободное время. Пели песни, которые просто нравились и которые брали за душу. Как только у меня заканчивались уроки, Леночка, в своей осторожной, бесшумной манере, входила в мой кабинет и клала на стол кипу новых отобранных ею песен. Мы выбирали наиболее подходящие и выигрышные произведения для голоса Лены и начинали разучивать, не забывая повторять уже выученные ранее.
— Я еще в хоре пою, — однажды сказала она.
Я вопросительно посмотрела на нее.
— У нас в поселке ансамбль, — продолжала она, — там поют женщины, в основном кому за пятьдесят. Я самая молодая, — гордо добавила она. — Хочешь тоже? — вдруг спросила Лена.
— Хочу! — не задумываясь, ответила я.
Спустя несколько дней я шла на репетицию, тревожась и волнуясь о том, как меня встретят эти «женщины за пятьдесят». В аудитории все уже были в сборе. Конечно же, хор — это громко сказано! Вокальный ансамбль «Калинушка», состоящий из шестнадцати человек. Все, как одна, уставились на меня. Я сразу почувствовала себя неловко. Куда я пришла? И зачем? Они все зрелые женщины, с огромным багажом жизненного опыта. У них свои разговоры, секреты, интересы. Что я буду делать в этой нескучной компании «старушек»?
— Это наш молодой специалист, — представила меня Леночка, — она желает петь.
— Мы рады! — заголосили «старушки».
«Старушки». Именно так я их называла впоследствии. Любя, конечно. А иногда и старыми кошелками — впрочем, тоже любя. Я переживала напрасно, поскольку на удивление легко влилась в их коллектив, не почувствовав никакого дискомфорта из-за значительной разницы в возрасте. Мы с певуньями стали хорошими друзьями. «Старушки» были простыми деревенскими бабами, привыкшими пахать как лошади и тащить на себе все проблемы и трудности. Но и отдыхать тоже умели. «Калинушку» они посещали на общественных началах, не получая за свое пение никакого материального вознаграждения. Просто для души.
Оплачивался лишь труд руководителя и аккомпаниатора ансамбля в одном лице и по совместительству учителя музыки в единственной поселковой школе. Это была очень видная и знающая себе цену дама, Ставицкая Галина Михайловна. Я старалась избегать общения с ней, смущаясь пристального взгляда исподлобья, которым меня неизменно одаривали ее карие небольшие, но выразительные глаза. Ее лицо не было красивым: слишком большой длинный нос и слишком тонкие нервные губы выдавали в ней личность своенравную и капризную. Тем не менее она выглядела лучше остальных женщин вместе взятых. В отличие от них она была ухоженной. Ее кожа сияла здоровьем, одевалась она всегда дорого, аккуратно и со вкусом — огромная редкость в селе Киндзя.
Пение в хоре стало для меня своеобразной лечебной терапией. Это занятие с каждым разом все сильнее и сильнее затягивало меня, и вскоре я уже не представляла своей жизни без этих милых «старушек», без зоркого взгляда Ставицкой, без пения задушевных лирических песен и не менее задушевного общения.
В преддверии Дня Победы мы особенно тщательно готовились к концерту. Репетиций стало больше, занятия — длиннее. Я волновалась. Для меня это был первый выход на сцену в поселке. Я знала, что буду предметом пристального внимания собравшихся сельчан. Слух о необычной девушке, то есть обо мне, разлетался со скоростью света. Для поселка на краю света приезд нового человека сам по себе был великим событием, а уж мое появление в гуще их жизни стало поистине бомбой.
Мы выступали на огромной сцене местного Дома культуры. Отопление уже отключили, но май выдался прохладный, и в помещении, без преувеличения, была морозильная камера. Мои «старушки», женщины все до одной в теле, закаленные суровым северным климатом, как ни в чем не бывало стояли за сценой в легких шифоновых блузках ярко-красного цвета, ожидая своего выхода на сцену. И лишь одна из них, художественный руководитель дома культуры Любовь Михайловна Неровная, вдруг предложила:
— А давайте по пять капель. Для сугреву.
Ставицкая запротестовала было, но «старушки» так жалобно и просяще заголосили, что ей пришлось сдаться.
— Но только по пять капель, и не больше! — строго сказала она.
«Старушки» мгновенно, непонятно откуда достали бутылку самогонки. Одна из них наливала целебную жидкость в столовую ложку, а остальные, как перед причастием, подходили и принимали чудодейственный напиток. Глаза у всех разгорелись, и они лихо рванули к сцене.
Я зачарованно, восхищенно наблюдала, с каким жизнелюбием, энтузиазмом, с какой верой в успех эти обыкновенные сельские женщины выходят на сцену, словно великие и прославленные звезды. Ничего подобного я в жизни не видела.
К концу мероприятия я, не принявшая «пять капель», совсем окоченела. Леночка, увидев, что у меня зуб на зуб не попадает, приобняла меня за плечи. Ее руки были теплыми и мягкими. И я, повинуясь этому зовущему и согревающему чувству, прислонилась к ней, закрывая глаза.
— Замерзла? — услышала я над собой голос Ставицкой.
Ее голос был особенным, неповторимым. Перепутать его было невозможно. Яркий, звучный, насыщенный, с приятной хрипотцой, он мягко, но уверенно лился, обволакивая своим необычным тембром.
Я нехотя открыла глаза и безразлично кивнула. Говорить не было сил.
— Я скажу Юре, чтобы он отвез ее домой, — сказала она Лене и исчезла за кулисами.
Через несколько минут появился молодой человек — тот самый Юра, сын Ставицкой. До этого момента я много о нем слышала, а взглянув теперь на него, вспомнила, что однажды мы уже с ним встречались. Я бежала, опаздывая на урок, периодически останавливаясь, чтобы отдышаться. В какой-то момент со мной поравнялся синий старый мотоцикл. Я испуганно посмотрела на того, кто управлял этим транспортом. Это был молодой парень, лет двадцати пяти, в седле казавшийся не очень высоким, крепкий, черноволосый. Карие искрящиеся глаза, точно такие же, как у Ставицкой, с хитрым прищуром, бегали нервно и быстро. Широкий нос, пухлые губы — он тоже не был красивым, но по-своему обаятельным.
Тогда я очень испугалась, решив, что здесь начинается то же самое и мне опять не дадут спокойно жить. Я прибавила шаг и свернула в узкий проулок. Мне удалось от него скрыться. И вот теперь передо мной стоял тот самый «преследователь», чтобы отвезти меня домой.
— Пойдем, — хитро сощурившись, сказал он мне.
— Отвези ее домой и отогрей! — приказала Ставицкая. Она сняла с себя теплую пуховую шаль и набросила ее мне на плечи.
Я села на мотоцикл за Юрой, обняла его плотное тело, и мы понеслись по проселочной дороге, оставляя за собой хвост пыли. Незаметно для себя я сложила голову на его плечо и закрыла глаза. Так было приятно, прижавшись к мужскому телу, мчаться на бешеной скорости к теплому дому с горячим чаем.
Мы сидели с Юрой за столом и болтали, как две давние подружки, встретившиеся через много лет.
— А ты чем занимаешься? — спросила я Юру, грея ладони о горячую чашку.
— Управляю КСК.
— КСК?
— КСК, — подтвердил Юрик.
— А что это?
— Это скоростной катер, — гордо ответил он.
— Ух ты! Здорово!
— Хочешь прокачу?
— Хочу. А мотоцикл научишь водить?
— Научу, — пообещал он.
В дверь постучали. Счастливая, согревшаяся, довольная, я повернула ключ и распахнула дверь. На пороге стояла Ставицкая со своей боевой подругой и главной советницей Лизаветой Будильниковой — преподавателем математики и певуньей в «Калинушке».
— Можно? — спросила она.
— Проходите, — растерялась я.
Теперь мы вчетвером сидели за чаем и вели непринужденную беседу о музыке, школе, о концертах и скоростных катерах и вообще о жизни. Ставицкая уже не казалась мне такой строгой, как раньше. В домашнем кругу она была совсем другой: мягкой, веселой, беззаботной. Она ласково смотрела то на Юру, то на меня и удовлетворенно качала головой.
С этой встречи, с легкой подачи Ставицкой, у нас с Юрой завязались романтические отношения. В тот вечер мы перетанцевали в местном клубе все медленные танцы, а потом, возвращаясь по освещенной луной дороге, он заботливо переносил меня на руках через все попадавшиеся на пути лужи. Это было так трепетно и так трогательно!
Впервые за много лет я забыла об отце Александре и наслаждалась объятиями другого мужчины.
Юра очень быстро ввел меня в свой дом, в свою семью. Помимо Ставицкой в доме проживали еще Ставицкий-старший, отец Юры, и Ставицкий-малой, младший Юрин брат. Разница в возрасте между братьями составляла ни много ни мало четырнадцать лет.
Отношения с Вадиком, братом Юры, которого все называли Малой, у меня складывались сложно. Он меня вообще никак не называл, ни о чем никогда не спрашивал, а я в общении с ним ограничивалась словами «привет» и «Вадик».
Зато со Ставицким-старшим у меня с самого начала завязались теплые и дружеские отношения. Это был мужчина пятидесяти лет, невысокого роста, с пивным животиком. Его большие светлыми глаза смотрели на мир строго и как бы чуть свысока. Он никогда не выдавал своих эмоций, много не говорил и сохранял строгий вид, даже когда шутил.
Семья Ставицких вскоре стала для меня близкой и родной. Я жила на два дома: то у себя, то у них, — и такая жизнь меня вполне устраивала. Каждый вечер мы с Юрой отправлялись гулять по ночной Киндзе или шли в клуб на дискотеку. Прошел уже месяц, но Юра не делал никаких попыток к сближению, и я была ему за это благодарна. Я понимала, что рано или поздно наступит момент, когда он перейдет к более решительным действиям. Этого я ждала с нетерпением и боялась одновременно. Мне было двадцать три, но я понятия не имела, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они остаются одни. Как себя вести? Что делать? Из опыта интимных отношений у меня был всего лишь один-единственный поцелуй отца Александра, мимолетный и призрачный. Я очень стеснялась кому-либо признаться, что все еще девственница, а значит, и задать волнующие вопросы было некому — по поселку сразу поползли бы слухи, нежелательные и ненужные.
Однажды мы спустились с Юрой к речке и долго стояли, любуясь закатом. Было прохладно.
— Замерзла? — вдруг спросил он так же, как спрашивала Ставицкая.
Я не ответила. Только молча подошла к нему и прислонилась головой к его плечу.
— А нос-то совсем холодный! — сказал тихо Юра.
Он дотронулся теплыми губами до моего носа и замер на несколько секунд. Потом медленно опустился к моим губам, и мы слились в долгом нежном поцелуе.
Поцелуй Юры был совсем не таким, как поцелуй отца Александра, но не менее приятным и волнующим. Я чувствовала его теплое дыхание, нежные руки, страстное желание. Меня это пугало и завораживало одновременно. Впервые я ощутила себя настоящей женщиной, которая встречается с самым обыкновенным мужчиной. Впервые я не испытывала вины и страха. Я просто отдалась во власть нежных и страстных объятий Юры.
С тех пор мы целовались везде, в любой подходящий момент. Однажды, находясь дома, мы с ним дурачились и, как всегда, это перешло в длительные нежные поцелуи. Вдруг Юра положил руку мне на грудь. Я напряглась, но не воспротивилась. Тогда он медленно расстегнул пуговицы моего легкого домашнего халатика и, опустившись на колени, принялся ласкать языком мои груди. От неожиданных новых ощущений мне стало трудно дышать. Я ахнула и едва удержалась на ногах. Тогда Юра подхватил меня на руки и отнес на кровать. Когда, раздев меня, он раздвинул мои ноги и начал там ласкать языком, я непроизвольно застонала.
Он снял брюки, и я впервые увидела мужское достоинство. Никакого впечатления на меня это созерцание не произвело. Но когда он приблизился для того, чтобы войти в меня, я испугалась.
— Нет! — почти выкрикнула я.
— Ты чего? — растерявшись, спросил он.
— Нет! — повторила я.
Юра не настаивал. После этого случая мы часто занимались ласками, но как только Юра начинал претендовать на большее, то получал стойкий отпор.
— Я хочу тебя! — в порыве страсти говорил он.
Я молчала. Сказать было нечего. Я не могла объяснить не только ему, но и себе тоже, что же все-таки со мной происходит. Почему я так странно реагирую на попытки Юры лишить меня девственности?
Он никогда меня ни о чем не спрашивал. И это лишь усугубляло наши и без того странные отношения.
В один из вечеров мы с Юрой, как обычно, отправились на дискотеку. Мероприятие еще только начиналось, и я остановилась перекинуться парой слов с Любовью Михайловной. Когда я обернулась, Юры рядом уже не было. Я попыталась отыскать его в толпе танцующих в темном зале. Но и здесь его тоже не было. Поняв, что это бесполезно, я отошла к окну, наблюдая за происходящим. Мне нравилось смотреть на молодых парней, девушек, отмечая кто во что одет, кто и как двигается в танце. Танцевали в основном девушки. Парни передвигались по залу, о чем-то переговариваясь друг с другом, подходили к диджею, чтобы поздороваться и поболтать. И только услышав медленную композицию, в мгновение разбредались по парам. Кто-то приглашал понравившуюся девушку на танец робко и смущаясь, кто-то, наоборот, смело и даже нагло. И вот уже в мелодичном потоке красивой песни о любви пары плавно двигались в пространстве танцевальной площадки. Прошло минут сорок, одна песня сменяла другую. Юры не было. Стоять в одиночестве становилось совсем неловко, и я снова подошла к Любови Михайловне. Перебросившись с ней несколькими ничего не значащими фразами, я вышла на улицу. Было темно и прохладно. В поселке освещалась только главная улица, вся остальная территория с наступлением ночи погружалась во мрак. Я стояла, соображая, что же делать дальше, как вдруг услышала крики. Прислушалась. Крики доносились с торца клуба. Я прошла вдоль здания и повернула за угол. Передо мной предстала страшная и неожиданная для меня картина: семь-восемь молодых человек дрались, жестоко избивая друг друга. Среди этих людей был и Юра. Он тоже дрался, остервенело, беспощадно. Несколько секунд я стояла, не шевелясь, завороженная происходящим. А потом, что есть силы, сама от себя не ожидая, закричала:
— А ну прекратите сейчас же! Уроды хреновы!
Парни замерли. Несколько пар озлобленных, горящих азартом глаз уставились на меня в растерянности: что за девчонка влезла в их недетские мужские разборки? Впоследствии я узнала, что драки возле клуба во время дискотеки — местная традиция. Без них мероприятие будет незавершенным. Об этих тупых, никчемных разборках знали все: милиция, администрация, сотрудники клуба, жители. Но никто и никогда не вмешивался в эту потасовку: было не принято. И тут появилась я, пигалица, которая нарушила все правила, посмевшая идти против всех!
«Сейчас они меня растерзают!» — подумала я. Но толпа, не произнеся ни слова, стала медленно расходиться. Наконец остались я и Юра на ночных неприветливых задворках местного клуба. Юра был пьян. Он подошел ко мне, намереваясь обнять, но я увернулась и сквозь зубы зло выпалила:
— Ты — урод!
И пустилась бежать по ночной Киндзе. Теперь мне было уже не страшно. Теперь мне было все равно. Меня душил гнев, и я готова была разогнать еще несколько таких же тупых компаний.
В тот вечер я должна была ночевать у Ставицких. Нас ждали вдвоем с Юрой. Я прибежала одна. Ставицкая еще не спала. Она подметала пол на кухне.
— Что случилось? — спросила спокойно и ласково.
— Они подрались! — зло сказала я.
Она не удивилась. Конечно же, ей было известно об этих разборках. Ведь она работала в школе и была в курсе всех проблем местной молодежи.
— А ты что? — невозмутимо поинтересовалась она.
— Я их разняла, сказала Юре, что он урод, и убежала, — выпалила на одном дыхании я.
— Ты их что? — вот теперь Ставицкая от удивления отставила веник в сторону и села на стул напротив меня.
— Разняла, — устало и равнодушно повторила я.
— Ну да, разняла, — рассеянно проговорила Ставицкая. — Иди спать, ты устала.
Проснулась я рано. В доме было тихо: все еще спали. Стараясь не шуметь, я быстро оделась и вышла из дома Ставицких. Я больше не хотела у них оставаться. Поведение Юры меня потрясло и оскорбило. Мало того, что он бросил меня одну, мало того, что подрался и подверг меня опасности, так еще и напился, как последняя свинья! Мне было противно и гадко. Я не хотела его больше видеть.
Прошло три дня. Я жила своей обычной жизнью, в обычном режиме, решив, что со Ставицким все кончено. За это время он пытался со мной поговорить: перехватывал меня на улице, ломился ко мне пьяный в дом, но я его игнорировала. Наконец на третий день, он преградил мне дорогу на своем неизменном мотоцикле. Я остановилась, недовольно уставившись на него.
— Вернись! Мне плохо без тебя!— хриплым голосом сказал Юра.
— Нет! — отрезала я.
— Там дома все волнуются. Со мной никто разговаривать не хочет.
— Освободи дорогу! — строго сказала я.
— Не освобожу! — хитро сощурив свои глаза, ответил он. — А нос-то холодный! — Он приблизил ко мне свое лицо и нежно и ласково поцеловал в губы.
Я замерла, боясь пошевелиться, а потом страстно ответила на его поцелуй. Но это был совсем другой поцелуй, другие ощущения. Я не испытала того восторга и волнения, которые познала, впервые целуясь с Юрой на берегу реки. Его поцелуи мне были приятны, но только и всего, никаких особых чувств они не вызывали. Я поняла, что не люблю Юру и никогда не буду его любить. Я люблю отца Александра! Он всегда будет стоять между мной и другими мужчинами.
— Пойдем домой, — оторвавшись от моих губ, ласково сказал Юра. — Тебя все ждут!
С этого дня наши отношения вошли в прежнее русло: жизнь на два дома, семья Юры, романтичные прогулки под луной, откровенные ласки — и, на удивление, Юра по-прежнему не настаивал на большем.
Весь поселок уже был в курсе, что я невеста Юры, и эта новость повышала мой статус, поскольку семья Ставицких в поселке была на хорошем счету. Но чем дольше длились наши отношения, тем больше я убеждалась, что Юра страдает алкоголизмом. Он периодически уходил в запои на несколько дней, потом два-три дня болел, потом вспоминал, что у него есть невеста, и приползал ко мне на коленях просить прощения, и каждый раз клялся, что это был последний запой в его жизни. Я его прощала, две-три недели мы жили душа в душу, а потом все повторялось по тому же сценарию: снова запой, он снова наведывался ко мне грязный и заросший и устраивал пьяные скандалы. Я его выгоняла. Иногда он отказывался уходить, падал на ковер и засыпал, как бродячая собака.
Поселок жил в ожидании веселой свадьбы. Ставицкую постоянно спрашивали, когда же будет праздник. Но я уже четко понимала, что даже если и выйду замуж за Юру, то брак наш будет недолгим. В отношениях между нами что-то надломилось. Все попытки Юры сделать меня женщиной терпели поражение: я орала от боли и страха. Заканчивалось все безобидными ласками и сладким храпом в одной кровати.
Может, причиной этих неудач было нежелание выходить за Юру замуж? Вовсе не таким я рисовала в своих бурных фантазиях своего первого мужчину. Его постоянные пьянки, исчезновения на несколько дней, скандалы во время запоев напрягали меня. Если даже сейчас, когда меня ничего не сковывает, он позволяет себе такое отвратительное поведение, то что же будет потом?
Тем не менее отношения продолжались. В те счастливые периоды, когда Юра не пил, мы весело и беззаботно проводили время. Юра сдержал свое обещание, которое дал в первый день нашего знакомства, и научил меня ездить на мотоцикле. Я оказалась безумной лихачкой и два раза чуть не перевернулась. Но это меня не остановило, и я продолжала гонять по поселку на всех парусах.
Ставицкие-родители делали все, чтобы нам было хорошо. Но Юрины запои продолжались. Его приходилось разыскивать по притонам и забегаловкам, приводить в чувство и божеский вид. Он мог отсыпаться сутками, а когда просыпался, то не помнил, где был и что делал. Ставицкая устраивала ему скандалы и давала хорошей трепки, я объявляла бойкоты и не разговаривала с ним до тех пор, пока он окончательно не приходил в нормальное состояние и к нему не возвращалась способность мыслить по-человечески. И постепенно из-за всего этого во мне выработалось стойкое отвращение к своему нареченному жениху.
26
Занятия в ансамбле продолжались. С тех пор как начались мои отношения с Юрой, я чувствовала себя свободно и раскрепощенно. Еще бы! Ведь я была под покровительством самой Ставицкой! А против нее никто не смел высказываться. Ее слово, ее мнение — закон.
В начале лета мы отправились с концертом на день села в поселок Снежный. Мы переправлялись на пароме через Ангару, и я была сражена наповал красотой этих мест. Горные выступы, поросшие ярко-зеленым мхом, нависали над рекой, будто покровительствуя ей. Голубое прозрачное небо казалось близким — только руку протяни!
В этом поселке было много близких родственников Ставицких. Дожидаясь начала концерта, мы успели зайти в несколько домов. Везде нас встречали радушно, с деревенской щедростью и простотой. Везде Юра представлял меня своей невестой и везде ему наливали выпить за счастье будущей семьи.
Пока шел концерт, Юрик посетил еще нескольких родственников, принимая поздравления в свой адрес. К тому моменту, когда нужно было возвращаться обратно, он не стоял на ногах — буквально падал на землю и был не в состоянии самостоятельно подняться. Язык его заплетался, но это не мешало ему браниться на всю улицу. Я отошла в сторону. Мне было стыдно за человека, который только что называл меня своей невестой.
С этой поездки Юра сорвался в запой на целых три недели. Никто и ничто не могло его отрезвить. Он приходил ко мне и грозился порезать себе вены, если я не впущу его в дом. В доме он устраивал очередные пьяные концерты, кричал и хамил до тех пор, пока не выбивался из сил. Потом падал, как свиная туша, и мгновенно засыпал.
К концу третьей недели он постепенно начал приходить в себя. На двадцать первый день он проснулся у меня дома, куда силой вломился накануне вечером. Заросший и грязный, похожий на бомжа, шатаясь из стороны в сторону, вышел на улицу проблеваться. Я смотрела на него с отвращением. Потом измазанный рвотой вернулся в дом, омерзительно воняя перегаром. Попросил хриплым голосом:
— Чаю дай!
— Пошел вон! — сжимая зубы, ответила я. — Видеть тебя не могу!
Слегка протрезвевший, он внимательно посмотрел на меня, будто впервые увидел.
— Что? — тихо переспросил.
— Вон отсюда! — вне себя заорала я.
— Ладно.
Юра спокойно вышел, аккуратно закрыв за собой дверь.
Его не было несколько дней. Я испытывала противоречивые чувства: с одной стороны, мне было плохо и непривычно без Юры, дни казались пресными и бесцветными, с другой — я устала от его бесконечных загулов и понимала, что наши отношения длиной в шесть месяцев подходят к концу.
Юра появился через неделю. Гладковыбритый и хорошо выспавшийся, он выглядел намного лучше. Я обрадовалась ему и тут же сама удивилась своей реакции.
— Я заглянул сказать, — начал он ровным голосом, — что ушел жить к другой женщине.
Минуту мы смотрели друг на друга. Медленно, но верно, до меня доходил смысл его слов.
— Ты ушел жить к другой женщине? — переспросила я, не веря своим ушам.
— Да, — тихо ответил он, опустив голову.
В глазах поплыло. Слезы покатились крупными градинами, и мне было все равно, что он думает обо мне в этот момент: мне больно и обидно — и черт с ним, с этим имиджем, с этой гордостью и неприступностью. Я плакала. Плакала и не могла остановиться. Он молчал и смотрел на меня. Сочувствующе. И с презрением.
— Извини! — сказал он наконец и, как и в прошлый раз, аккуратно закрыл за собой дверь.
Что-то сломалось, рухнуло. Меня охватывали зло, обида, ненависть, ревность. Подлец! Негодяй! В свои загулы он не терял времени даром и подыскал себе запасной вариант.
Я тяжело переживала расставание. Не сам разрыв отношений меня беспокоил, а уязвленное самолюбие, растоптанная женская гордость. В очередной раз я стала для Киндзи музейным экземпляром. На меня практически показывали пальцем, ехидно заглядывая в лицо. Поселок гудел. Сельчане злорадствовали и расплывались в гадких улыбках оттого, что мне плохо и горько. Довыделывалась, мол, городская фифа! Получай!
Все было как в тумане. Я ходила на работу, возвращалась домой, ложилась спать, снова шла на работу. И так каждый день, словно по замкнутому кругу. Мне поистине было плохо. Злорадство и насмешки сельчан меня не волновали. Было не до них. Ставицкие-родители готовились к свадьбе: Юра сделал предложение той, другой женщине, которую, кажется, звали Марина. Она работала в школе вместе со Ставицкой, преподавала русский язык. У нее имелся ребенок двух лет, она курила как сапожник и пила, как лошадь. Но выглядела при этом вполне неплохо. У нее были синие выразительные глаза, орлиный нос, пухлые губки и кучерявые русые волосы. Поговаривали, что ее папа очень серьезное лицо в соседнем поселке и сбагрил дочь из дома только ради того, чтобы не позориться перед сельчанами за ее далеко не ангельское поведение.
Ставицкий женился на Марине ровно через месяц после нашего расставания. В отличие от меня, Марина сразу нацелилась окрутить Юру и в два счета добилась своего. К тому же ей нужно было думать о будущем своего ребенка. И новоиспеченный муж официально удочерил ее девочку.
Но после всех этих событий поселок Киндзя не утихомирился. Поползли слухи, что Ставицкий бросил меня беременной и променял на бабу с ребенком. «Как он мог!» — возмущались сельчане. Вероятно, Юра, не меньше моего боясь огласки интимных подробностей, так никому и не рассказал, что мы ни разу не переспали! Я даже не пыталась отрицать свою мнимую беременность. Во-первых, это было бы бесполезной тратой времени и нервов, во-вторых, мне безумно льстило, что наконец-то злорадный и ехидный поселок встал на мою сторону!
От пережитого потрясения я отходила тяжело. Я перестала посещать репетиции в ансамбле. С Леной мы тоже не пели. Она, как обычно, заходила в мой кабинет. Садилась рядом. Я пристраивала голову к ней на плечо, и мы, не говоря ни слова, думали каждая о своем, бабьем. Периодически на меня накатывали истерики. Я рыдала без всяких на то причин, просто от боли, ощущая себя ненужной и покинутой в этом далеком и чужом для меня захолустье. Для себя я решила, что уеду из ненавистного поселка. Но тут неожиданные события вывели меня из одного шокового состояния и привели в другое.
— Ты знаешь, что произошло? — спросила меня Лена, вбегая в мой кабинет. Всегда тихая и спокойная, она была встревожена, щеки раскраснелись. — Ставицкую увезли в больницу! — выпалила она. — Ночью поднялось высокое давление. Она в тяжелом состоянии.
— В какой она палате? — ровным голосом спросила я.
— В третьей, — коротко ответила Лена.
— Я пошла.
— Иди!
По поселку еще со свадьбы ходили слухи, что Ставицкая на ней напилась до отключки и свалилась в сугроб, из которого ее поднимали несколько крепких мужчин. Чрезмерное употребление алкоголя не могло не сказаться на ее здоровье. Да еще и переживаний столько. Говорили, что она очень не хотела, чтобы Юра брал в жены женщину с ребенком, что она его просила на коленях «не делать этой ошибки», но все ее уговоры оказались бесполезными. Смирившись, она начала готовиться к свадьбе.
Мы практически не общались с ней после моего разрыва с Юрой и не обсуждали ни нашего с ним расставания, ни его женитьбы на Марине. Однако, зная Ставицкую и ее железный характер, я не могла представить ее в тяжелом состоянии на больничной койке.
Я вошла в палату. Она лежала бледная и неподвижная, с полуприкрытыми глазами.
— Ну и что это такое? — бодро спросила я. — Попридуриваться захотелось?
Ставицкая никак не отреагировала на мой юмор. Я тоже молчала, не зная, что сказать.
— Пришла! — наконец отозвалась она. — Скоро концерт, — как ни в чем не бывало, продолжала она, — нужно обязательно выступить, это очень важно. — Она помолчала, перевела дыхание. — Сходи к нам домой, возьми ноты, будешь аккомпанировать вместо меня.
— Да вы еще сами успеете поправиться до концерта!
— Нет, — горько и с сожалением сказала она. — Это надолго.
— Хорошо, я буду аккомпанировать, — сказала я, — но обещайте мне, что вы поправитесь очень быстро!
— Ладно, — отмахнулась Ставицкая и закрыла глаза, словно стряхнула с себя тяжкий груз.
Я поняла, что прием окончен. Больше ей от меня ничего не надо. Аккуратно, чтобы не шуметь, я поднялась с больничного стула, поправила свисавшее с кровати одеяло и вышла, прикрыв за собой дверь.
В отличие от Ставицкой, со Ставицким-старшим, которого я по старой привычке упорно продолжала называть Папиком, мы общались постоянно. У меня, как у нормальной одинокой женщины, периодически выходил из строя утюг, отключался свет, отказывался работать телевизор. Папик всегда выручал. К тому времени он работал водителем на ассенизаторской машине, и за один рабочий день его машина раз двадцать проезжала мимо моих окон. В любой момент — стоило мне выбежать на улицу и помахать ему рукой — он, как настоящий спасатель, бежал ко мне на помощь.
После визита к Ставицкой я отправилась к ней домой, предполагая, что Папик волнуется и переживает за свою благоверную. Но он бодро вышагивал по дому с сигарой в руках, насвистывая что-то под нос.
— Я была у Галины Михайловны, — сказала я, бросая на диван сумку.
— А-а, — протянул он, даже не поинтересовавшись ее состоянием.
— Она сказала забрать ноты.
— Забирай.
Я прошла в комнату. Там ничего не изменилось с тех пор, как я бывала в этом доме. Все вещи аккуратно стояли по своим местам, пыль была вытерта, пол вымыт. В доме у Ставицкой всегда был идеальный порядок и стерильная чистота. Я взяла ноты и, обернувшись, наткнулась взглядом на Папика. От неожиданности я вздрогнула.
— Вы чего? — испуганно спросила я.
— Это тебе! — Он достал из своего кармана небольшую коробочку с духами, подошел ко мне вплотную и, оттопырив вырез кофточки, положил мне подарок на грудь.
— Зачем? — спросила я, вконец растерявшись.
— Так Восьмое марта на носу! С наступающим, кстати!
— Спасибо, — рассеянно сказала я, взяв подарок.
— А поцеловать?! — И он приблизил ко мне свое морщинистое, изрядно изношенное лицо.
Смутившись, я все же легонько чмокнула его в щеку. Он схватил меня и впился своими бесцветными губами в мои. Оттолкнув его, я размахнулась и со всей силы въехала ему по физиономии.
— Молодец! — неожиданно весело сказал он.
Я подхватила ноты и выбежала из дома Ставицких.
27
Начались мои репетиции с ансамблем. Я легко осваивала новую роль. Аккомпанировать мне нравилось даже больше, чем петь. Теперь я видела поющие лица всех участников, и это доставляло мне огромное удовольствие. Наши репетиции проходили легко и весело. «Старушки» слушались и не перечили. Это забавляло и умиляло: молоденькая девчонка укрощала матерых женщин, умудренных жизненным опытом. После репетиций я приходила к Ставицкой в больницу, рассказывала, как прошло занятие, что делали, что учили, что получилось, а над чем еще придется поработать. Она давала ценные указания и подсказывала, как сделать лучше. А потом мы просто болтали о жизни, о музыке, о новостях и сплетнях в поселке. Ни я, ни она не упоминали про свадьбу Юры. Как будто этого события и не было вовсе. Лишь однажды Ставицкая, внимательно посмотрев на меня, сказала:
— Я так хотела, чтобы вы с Юрой поженились!
У меня защемило сердце. Я отошла к окну, чтобы скрыть внезапно набежавшие слезы. Неожиданно свалившиеся на меня репетиции ансамбля отвлекали, поглощая все мое свободное время. Но иногда какая-нибудь неловкая фраза, вскользь напомнив о былых отношениях с Юрой, выворачивала мою душу наизнанку, и нестерпимая боль вновь и вновь бередила еще не затянувшиеся глубокие раны.
Папика я избегала. Но, к своему удивлению и страху, понимала, что меня к нему непреодолимо тянет. Мне не хватало его общества, его шуток и острых, язвительных высказываний. Его поцелуй снова и снова будоражил воображение. Я старалась гнать эти безумные мысли, но они возвращались, мучая еще сильнее.
Приближался день концерта. Ставицкая поправлялась и иногда приходила из больницы на репетиции. Мы поменялись ролями: теперь я аккомпанировала, а она пела в хоре. Мне нравилось слушать ее. Она запросто могла перепеть весь ансамбль, настолько звучным и сильным был ее голос. Даже когда она пела не в полную силу, я все равно в целом ансамбле голосов легко выделяла ее тембр, не похожий ни на кого. Этот вынужденный обмен ролями пошел и мне, и ей на пользу. Но больше, видимо, все же мне. Благодаря этому обстоятельству я открыла в себе талант аккомпаниатора. Причем очень профессионального. Я не просто нажимала на клавиши, механически проигрывая мелодию песни, но вкладывала частичку себя, все свои не растраченные в реальной жизни чувства. Впервые в жизни я ощутила, испытала на себе и узнала, что такое полет души. Когда я слушала пение, мои руки порхали над клавишами, колдуя дивные, потрясающие мелодии, которые приятно ласкали слух. Я была влюблена в то, что делаю, и мое увлечение платило мне взаимностью.
Ансамбль уже стоял на сцене. Все как один — в ярко-красных блузках, с горящими от возбуждения и азарта глазами. Лишь одна я, аккомпаниатор, была в белом. Белые брючки, белые туфельки и белая, слегка отдающая серебром кофточка. Я вышла на сцену. Зал был полон. Множество глаз смотрели на меня. Участников ансамбля много, а я одна, выделяющаяся, приметная, запоминающаяся. Я села на стул, спокойно окинула взглядом певуний и посмотрела на Ставицкую. Она заметно похудела, но стояла, как всегда, гордая и независимая, с высоко поднятой головой и осанкой королевы. Мы встретились взглядом. «Все хорошо!» — прочла я в ее глазах. Я вскинула руку над клавиатурой, и проникновенная, выразительная мелодия полилась по огромному, переполненному людьми залу.
С тех пор как я начала аккомпанировать ансамблю, я фонтанировала идеями. Во мне вдруг раскрылись журналистский, актерский, драматургический таланты: я отправляла в местную газету статью за статьей, читала стихи и монологи, пела и танцевала, придумывала забавные сценки и серьезные спектакли. Оплакивать расставание с Юрой было некогда. Именно в этот период моего творческого подъема директору школы Юлии Павловне вздумалось уйти в декретный отпуск. Меня назначили исполняющей обязанности директора. Теперь помимо всего прочего мне приходилось сидеть над бумагами, осваивать премудрости управления персоналом и считать рабочие дни сотрудников. А еще требовать, просить, ругаться, договариваться и обходить острые углы. Последнее получалось не всегда, поскольку завистников к тому времени у меня было более чем достаточно, и многие только и мечтали о том, чтобы я где-нибудь оступилась и прокололась. Но директорская должность все же пошла мне на пользу. Я стала смелее, раскованнее, напористее и даже нахальнее.
Особенно мне нравилось уезжать в командировки. Я отвлекалась и отдыхала от своей бурной, перенасыщенной жизни в Киндзе. Сев в поезд, я могла часами смотреть в окно и наслаждаться сменяющими друг друга пейзажами. Или просто дремать под стук колес. Эти поездки стали спасением и отдушиной в моей деятельной жизни.
28
Перед очередной командировкой я сильно волновалась и не могла понять, в чем дело. Все документы и отчеты были в полном порядке, причин для беспокойства не было. Однако, обычно расслабленная и умиротворенная, на этот раз в поезде я не находила себе места. Мне казалось, он никогда не доедет до пункта назначения. Я не могла уснуть. Ворочаясь с боку на бок, перебирала в памяти отдельные эпизоды своей жизни. Перед глазами, как в кино, мелькали картины из прошлого. Я не хотела воспоминаний. Но они упорно лезли в мою голову. Мне вдруг вспомнилось, как однажды, много-много лет назад, когда еще продукты покупали по талонам, мне безумно захотелось колбасы. Обычно мама не отоваривала талоны на колбасу, а меняла на сахар. Но в тот раз я ее уговорила, и мы поехали в магазин, в котором продавали только колбасные изделия и ничего больше. Я торопила маму, тащила за руку, мне казалось, что она идет очень медленно.
— Мам, ну мам, ну давай быстрее!
— Куда ж тебя так несет, угорелая? — недовольно ворчала она.
— Колбасы хочу! — упорно отвечала я.
— Вот приспичило-то! — удивлялась мама.
В магазине нашему взору предстала многокилометровая очередь.
«Видимо, не одной мне колбасы захотелось!» — подумала я тогда.
— Ну что, дочь? Будем стоять?— заметив мое смущение, спросила мама.
— Будем! — героически выпалила я.
Отстояв полтора часа, мы продвинулись к заветному прилавку с колбасой ровно наполовину. Я с завистью смотрела, как кто-то, дождавшись своей очереди, победоносно складывал в свои авоськи палки аппетитной колбасы разных размеров.
— Ну что? Ты еще не расхотела колбасы?— спросила мама, очевидно испытывая меня на прочность.
— Не-а, — коротко отвечала я.
Простояв два часа и сорок пять минут в душном и тесном магазине, набитом людьми, будто селедками в бочке, мы усталые, но счастливые вышли из магазина с полной сумкой колбасных изделий.
— Как вкусно пахнет! — прикрыв глаза, сказала я.
— Довольна? — поинтересовалась мама.
— Еще бы! Спасибо, мама!
Придя домой, мама поставила внушительную сумку на кухонный стол. Артюха вертелся рядом, выпрашивая угощение.
— А на тебя талонов не дают! — отрезала мама, обращаясь к Артюхе.
Пока вскипал чайник, все разошлись по квартире, занявшись своими делами. Как вдруг на пороге кухни появился Артюха, держа в зубах самую длинную из всех палку колбасы. Та смешно торчала по обе стороны его пасти. Являя собой воплощенный девиз «никому не отдам, даже под страхом смертной казни», Артюха молнией юркнул под диван.
— Стой, собака! — закричала мама.
— Держите его! — крикнул кто-то еще.
— Несите швабру! Надо выгнать его.
— На фиг он нужен! Надо колбасу спасать!
В доме поднялся переполох. Пока все суетились, Артюха лихорадочно откусывал от колбасы внушительные куски и проглатывал не жуя, догадываясь, что счастье будет недолгим. Просунув швабру под диван, колбасу, изрядно покусанную, но еще годную для применения, извлекли, к великой радости всей семьи. Следом выполз Артюха, одновременно довольный и разочарованный, и положил, как всегда бывало, свою бесстыжую морду к маминым ногам.
— Ну! И кто ты после этого?— грозно спросила мама.
Артюха поднял на нее печальные глаза и многозначительно вздохнул.
Мы дружно рассмеялись, не в силах больше сдерживаться, и Артюха, еще больше смутившись, медленно поднялся и ушел на свое место, забившись в самый дальний угол.
— Пойдемте кушать, — спохватилась мама, — а то нам сегодня ничего не достанется!
И мы толпою двинулись на кухню.
29
Поезд уже въехал в город и медленно, скучно тащился мимо серых унылых домов. Чем ближе я подъезжала к станции, тем сильнее меня охватывала непонятная тревожность. Вместо обычной радости поездки было желание повернуть обратно.
Еле волоча набитую своими вещами и отчетами сумку, я вошла в здание вокзала. Меня окружала пестрая людская мозаика, но из всего этого множества лиц мой взгляд моментально выхватил одно. В нескольких метрах от меня стоял он. Я внимательно присмотрелась, не померещилось ли мне. Закрыла глаза, снова открыла. Нет, я не ошиблась. Это был отец Александр. Он не видел меня, стоя вполоборота среди сумок и пакетов. Он совсем не изменился. Это был тот же самый отец Александр, которого я знала семь лет назад. Мне двадцать четыре, ему, должно быть, тридцать семь. Лишь приглядевшись, я заметила, что в его черных кудряшках появились седые волосы. Он, видимо, ожидал кого-то, слегка облокотившись о перила вокзальной лестницы. Не в силах больше сдерживаться, я рванула к нему со своей сумкой.
— Саша! — почти закричала я, готовая броситься ему на шею и расцеловать.
Но, к моему изумлению, он отвернулся к лестнице, старательно делая вид, что понятия не имеет, кто я такая. Расстроенная, растоптанная и униженная, я медленно попятилась. Он даже не шевельнулся и так и не повернулся в мою сторону. Уже отойдя на приличное расстояние, я увидела, как к нему подошла женщина и слегка обняла его. «Он с женой! Трус! Предатель! Подлец! Даже не поздоровался! Даже не кивнул!»
Он что-то говорил своей спутнице и тайком от нее бросил быстрый взгляд в мою сторону. Это было мгновение, всего лишь взгляд, но я была уверена, что он успел прочесть в моих глазах презрение и ненависть. Я резко развернулась и вышла на свежий воздух. Мне было нехорошо. Я прислонилась к холодной вокзальной стене. Я ненавидела отца Александра. Я ненавидела себя.
30
Эта командировка тянулась мучительно долго. Я ходила на совещания, заседания, но смысл всего, что там говорилось, до меня доходил с трудом. Слова будто ударялись о мою голову и отлетали обратно. Я тупо пялилась в документы, перечитывая их по нескольку раз и ничего не понимая. Хотелось одного: чтобы все эти дурацкие семинары, лекции, мастер-классы скорее закончились. Мне казалось, что вся эта никчемная болтовня и формальная, для галочки, отчетность, бесконечны, как число пи. Что-то надломилось внутри. В очередной раз отец Александр поступил со мной подло, и в очередной раз я испытала адскую душевную боль. Мне казалось, что с моей души медленно снимают тонкую, нежную кожу. И от этого ощущения все тело скручивалась, как в судороге. Я не хотела есть. Я не хотела спать. Я не хотела возвращаться в Киндзю.
Взяв отпуск за свой счет, я прямиком из ненавистной командировки отправилась погостить в материнский дом. Я понимала, что мне нужно отвлечься и развеяться. В глубине души, где-то очень глубоко, мне хотелось, чтобы меня хоть кто-нибудь приласкал, пригрел, одарил нежностью и окружил заботой. Когда-то это делал отец Александр. Теперь я лихорадочно нуждалась в человеке, который сумел бы отогреть мое замерзшее и истерзанное сердце, и искала тепла в своей семье. Я хотела верить, что там меня ждут, там обо мне помнят и хотя бы немного скучают.
Но в доме все было по-прежнему. Моему появлению никто не удивился и не обрадовался. Лишь спросили мимоходом:
— Ты надолго?
— Дня на три, не больше, — безразлично ответила я.
Артюха, мой единственный друг в этом доме и во всей жизни, совсем состарился. Он больше не носился по квартире, а ходил медленно и осторожно, будто пробираясь в темноте на ощупь. Он практически ослеп и постоянно на все натыкался, устало повизгивая от ударов. Он почти все время лежал, растянувшись на своем любимом коврике, и с трудом поднимался, чтобы выйти на три минуты на прогулку да к своей миске немного поесть.
Я подошла к лежавшему на коврике Артюхе.
— Привет, псинка!
Но Артюха не поднял головы, не залаял, не запрыгал, не лизнул моего лица, как бывало раньше. Он равнодушно посмотрел на меня и прикрыл свои помутневшие глаза.
— Смотри, что я тебе принесла! — Я достала из мешочка большой кусок колбасы.
Артюха понюхал, но есть не стал, у него не осталось сил.
Я погладила его гриву и прислонилась щекой к его морде. Я чувствовала, что теряю его. Вот зачем я приехала — мне необходимо было попрощаться с Артюхой. Меня ждал очередной удар. Четырнадцать лет он был для меня самым дорогим и близким существом. И теперь, после всех пережитых подлостей, предательств, разочарований, я теряла единственное живое существо, никогда не предававшее и безумно и бескорыстно любившее меня.
С болью в сердце я смотрела на угасающего Артюху, с которым жила рука об руку, лапа об лапу столько долгих и одновременно коротких лет. «Он ждал меня!» — пронеслось в голове. Я зарылась лицом в его милые, до боли родные черные кудряшки. Его тельце тяжело дышало.
— Артюшенька, собачка! Чем тебе помочь? Родной мой, хороший! — в отчаянии шептала я, прекрасно понимая, что помочь ему уже ничем нельзя, потому что собачий век недолог и ничто не вечно в этой жизни. Все когда-нибудь заканчивается независимо от того, хотим мы этого или нет.
Я не отходила от Артюхи и почти жила с ним на коврике, то и дело ласково гладила его и шептала:
— Артюшенька! Солнышко мое! Любимая моя собачка!
Он смотрел безучастными, но, как всегда, благодарными глазами преданного друга.
А потом эти черные угольки, в которых было столько любви, преданности, нежности, ласки, закрылись навсегда…
31
Я проснулась. Было ровно шесть утра. За долгие годы Артюха научил меня просыпаться без будильника в одно и то же время. И эта привычка осталась со мной. Независимо от того, нужно мне было вставать рано или нет, я открывала глаза ровно в шесть.
В доме было тихо, слышалось только мирное посапывание беспокойного семейства. Впервые я не услышала здесь знакомого Артюхиного голоса, никто не поставил своих лап на мою кровать, никто не лизнул меня в лицо горячим ласковым языком, никто не принес тапочки.
Я встала и подошла к пустующему коврику Артюхи, который еще не успели убрать. В сердце больно кольнуло, и я ощутила безрадостную щемящую пустоту внутри себя, похожую на этот одиноко лежащий и никому теперь не нужный коврик. Слезы градом лились из глаз, больно обжигая мое лицо. Меня невольно потянуло к большому зеркалу. Там больше не было меня прежней. С Артюхой минули безвозвратно детство и юность. На меня смотрела молодая, красивая, но незнакомая мне женщина.
Я тупо и безразлично смотрела в одну точку. Ничего не хотелось, все казалось пустым и никчемным. Теперь я понимала, откуда была тревога: я предчувствовала неприятности. Эта поездка в командировку обошлась мне слишком дорого. Подлый поступок отца Александра и потеря любимого Артюхи легли темным пятном на мою жизнь.
— Может, не поедешь в свою Киндзю? Оставайся дома,— сказала мама. — Сколько у тебя там вещей? Купишь новые. Не езди туда больше. Оставайся!
В какой-то момент мне безумно захотелось послушаться и остаться. Жить в своем доме, как все нормальные люди, завести другую собаку, быть рядом со своей семьей. Но это состояние было лишь мгновенным наваждением. Тряхнув головой и резко поднявшись со стула, я сказала:
— Нет! Я возвращаюсь в Киндзю. Мне пора.
32
В сердце уже закрадывались сомнения. Нужна ли мне дальнейшая жизнь в Киндзе? Что меня там ждет? Работа и одинокая жизнь в безнадежно спивающемся поселке. Что-то подсказывало, что мое пребывание в этом забытом богом месте подходит к концу. Все, что я там могла сделать, — сделала. Дальше развиваться было некуда. Выходить замуж за пьющего мужчину из поселка Киндзя я категорически не хотела. Надо было что-то менять.
В поселок я вернулась знаменитой. В местной газете напечатали мою статью о беззащитности детей и безразличном отношении к ним родителей. Статья была острой и немного жесткой. И ошарашенная Киндзя только и говорила обо мне и моем материале. Они словно проснулись. Поглощенные пьянками-гулянками, жители Киндзи абсолютно не занимались своими детьми, пуская воспитание на самотек. Им в голову не приходило поговорить с ребенком о его проблемах или рассказать ему о жизни. Статья стала для них откровением, настоящей бомбой. Не осталось ни одного жителя, который не знал бы меня в лицо. Я была довольна. Это был мой дебют в журналистике, похоже, удавшийся. Меня забавляло и радовало, что я смогла разбудить это сонное царство и заставить задуматься об элементарных и жизненно важных вещах.
Еще не успели утихнуть страсти по поводу статьи, а я, сама того не желая, опять взбудоражила поселок. Мое решение уехать было непреклонным. Я не хотела больше оставаться. Теперь я даже не сомневалась в том, что моя миссия в Киндзе окончена и пора уезжать. Мое заявление об уходе прогремело громом среди ясного неба: никто не ожидал, что я, находясь на местном пьедестале славы, вот так запросто возьму и уйду.
Но случилось непредвиденное: у меня начались обмороки с потерей памяти! Самой было дико смотреть на себя со стороны — как никогда и ничем не болевшая, ведущая здоровый образ жизни, цветущая и успешная женщина вдруг без всякой на то причины падает без чувств и потом три дня следуют провалы в памяти. Я не помнила, что со мной произошло. Потом Леночка рассказывала, что я вела урок, вышла из кабинета, уткнулась в стену — и отключилась. Мимо нашей школы обычно ходила домой врач. Девчонки ее оперативно подкараулили и попросили осмотреть меня. Врач сделала укол, но через некоторое время Любовь Васильевна, придя закрывать школу, нашла меня лежащей на полу.
Я помнила мелькающие лица. Любовь Васильевна, Леночка, Ставицкая. Потом машина скорой помощи, доктора, капельницы и окутывающий меня яркий солнечный свет.
Только на четвертый день я начала понимать, что нахожусь в больнице. Вокруг меня суетились, негромко советуясь друг с другом врачи. И я безразлично спросила, обратившись к одному из них:
— Что со мной?
— Не знаю, — честно ответил он.
Состояние было нестабильным. Иногда мне становилось лучше, и я просила отпустить меня домой. Но состояние резко ухудшалось, и мне снова капали безмерное количество непонятных лекарств.
Доктора диагностировали мне то эпилепсию, то инсульт. У меня отнимались ноги, и я с трудом передвигалась. По Киндзе судачили, что на меня навели порчу.
Я и раньше знала о том, что в этих таежных краях полно шаманов и колдунов. Они никогда не афишировали своих способностей, жили особняком, тихо и незаметно, но в поселке об этих людях ходило много легенд. Говорили, например, что если шаман задумывал спровадить кого-то на тот свет, то легко и быстро достигал своей цели. Я наслушалась немало подобных мистических историй, но всегда была уверена, что меня это не коснется. Я никогда и ни с кем не конфликтовала, и у меня не было, как я думала, врагов.
— Ходят слухи, что тебе порчу сделали, — сказала Наталья Васильевна, придя навестить меня в больницу.
— Да что ты! — рассмеялась я. — У меня и врагов-то нет!
— Ты уверена? А зависть? Тебе ведь весь поселок завидует!
— И ты завидуешь? — почему-то спросила я.
Наталья Васильевна ничего не ответила, лишь слегка опустила голову и улыбнулась.
Прошел месяц. Улучшений не было. Наоборот, мне становилось хуже. Я ходила гулять и по возможности шла в школу, чтобы позаниматься на инструменте. Пальцы плохо слушались и болели, руки отказывались работать. Но я упорно заставляла себя играть, через силу, через боль: я была молода, и у меня было фантастическое желание жить и творить!
Приближался юбилейный концерт. Поселок готовился к встрече важных и нужных гостей: ждали несколько человек из администрации края. Я тоже готовилась, не допуская и мысли, что концерт в поселке Киндзя состоится без меня. Такого не могло быть! Я приходила из больницы, и мы занимались с Натальей Васильевной, Леночкой. К моему удивлению, Ставицкая тоже изъявила желание петь соло и посещала мои репетиции. Я возрождалась. Занятие любимым делом воскрешало меня. Еле волоча ноги, слабая и больная, я доползала до кабинета и тяжело падала на стул. Мне подавали аккордеон. Я делала привычный взмах рукой и, касаясь клавиш, начинала извлекать звуки. В эти моменты я не чувствовала ни боли, ни слабости, ни усталости. Все болезни, все проблемы уходили. Оставались только музыка и я.
33
В день концерта я решила себя побаловать. Обычно скупая к своим желаниям, я доковыляла до магазина и накупила себе всяких вкусностей. Передвигалась я теперь очень медленно, осторожно и долго. Ноги практически не слушались. Я не чувствовала нижней части тела. На обратном пути мне встретилась одна из певиц ансамбля и, посмотрев на меня с нескрываемым сочувствием, предложила на нее опереться. Так и вправду было легче. Но такая удача выпадала редко. Обычно я ходила в одиночестве.
День получился шумным и суетливым. В школе все готовились к выступлению: распевались, красились, разыгрывались, причесывались. Так уж повелось, что к каждому концерту Наталью Васильевну в порядок приводила я. Не знаю уж почему, но ей очень нравилось, как я делаю ей прическу и макияж. Даже концертное платье утюжила ей тоже я. Мне нравилось, как из неухоженной и неопрятной женщины Наталья Васильевна превращалась в полногрудую привлекательную красавицу. Этот раз не был исключением. Я накручивала пышные темные волосы Натальи Васильевны на плойку, перенося вес с одной ноги на другую. Спиной я опиралась о стену, но это мало помогало: стоять было тяжело. Меня это раздражало и нервировало, и я уже несколько раз прижгла ее макушку горячими щипцами. Но она терпела, как стойкий оловянный солдатик. Уж очень ей хотелось на важном мероприятии, где будет много людей, выглядеть превосходно. И терпела Наталья Васильевна не зря. Когда она встала и посмотрелась в зеркало, то ахнула от неожиданности. Перед ней предстала совсем другая женщина. Под концертным, удачно подобранным платьем излишний жир превратился в пышные соблазнительные формы. Волосы были уложены аккуратно, локон к локону. Необычный цвет глаз удачно подчеркивала синева косметических теней.
Она обернулась и, пребывая в восторге от собственного отражения, крепко меня поцеловала.
— Да ладно, — отмахнулась я от нее.
— Спасибо тебе, — сказала она.
Я тоже бросила взгляд в зеркало. После всех принятых лекарств в немереном количестве я выглядела старше. Осунувшееся бледное лицо и уставшие безразличные глаза выдавали серьезные проблемы. Я заметно похудела. Но худоба не сделала меня привлекательнее — наоборот. И все же у меня оставались козыри: я была молода и хорошо одета, на зависть многим. Черная юбка до колена из дорогого материала выгодно открывала мои красивые стройные ноги в сапожках из качественной натуральной кожи, обтягивающих икры, голубая кофточка с расширяющимися книзу рукавами подчеркивала упругую грудь.
Папик, как всегда, посигналил три раза. Он приехал отвезти меня из школы в клуб по распоряжению Ставицкой. С того момента, как я влепила ему пощечину, мы больше не виделись. Мне не хватало его. Но я понимала, что если буду поддерживать с ним отношения, то рано или поздно ружье выстрелит и мы станем любовниками.
— Здрасьте! — поприветствовала я его, и мне стало неловко.
— Привет! — легко ответил он. — Будем загружаться?
Без шуток он не представлял своего существования.
Меня на самом деле пришлось грузить. Его ассенизаторская машина была огромной, а мои ноги не сгибались. Папик не смог подсадить меня в одиночку — пришлось звать на помощь Наталью Васильевну и Ольгу Владимировну. Втроем они взгромоздили меня в кабину ассенизаторской машины, словно на пьедестал, и мы наконец тронулись. Я молчала. Говорить было не о чем.
— Как ты? — нарушил он наконец неловкое молчание.
— Как видите, — я взглядом указала на ноги.
Папик ничего не ответил. Впервые за все время знакомства я видела его печальным и рассеянным. Уставясь непроницаемым взглядом на дорогу и крепко вцепившись в руль, он вдруг сказал:
— Ты выздоравливай, ладно?
— Ага.
Возле клуба меня уже встречали Ставицкая и участницы ансамбля: им позвонила, пока мы ехали, Наталья Васильевна — предупредила, что меня надо будет выгрузить.
Ставицкая, увидев машину, скомандовала:
— Пошли, девочки!
Несколько закаленных, всего повидавших на своем веку баб подошли к машине, вытащили меня из нее, как пушинку, и аккуратно поставили на землю.
— Живая? — спросила Ставицкая.
— Не дождетесь, — буркнула я.
34
Зал был полон — мне показалось, что в этот старый, полуразвалившийся клуб набилась вся Киндзя. Я осторожно выглянула из-за кулис, и от пестрой толпы закружилась голова. На мгновение мне стало страшно. Я еле держалась на ногах. Мне предстояло выйти на сцену несколько раз и показать яркие, выразительные номера. Я не могла себе позволить выступить плохо и опозориться перед всем поселком. Это была моя лебединая песня в Киндзе, и эта песня должна была быть несравненной.
Я расправила плечи, приподняла подбородок и, как и прежде, ощутила азарт и гордость, которые всегда испытывала перед выходом на сцену. Кто-то опустил руку на мое плечо. Я оглянулась. Это была Ставицкая. В последнее время она относилась ко мне трепетно и нежно, чего от нее в принципе трудно было ожидать. В жизни она была сдержанной на чувства. Заставить ее открыто проявить свою нежность и заботу могло только что-то невероятное, выходящее за рамки. Зная Ставицкую, я понимала: она мной восхищается. Восхищается моей силой, мужеством, упорством. Восхищается, поскольку сама такая же сильная, мужественная и упорная.
Мы были похожи. И обе знали об этом, хотя и никогда не обсуждали эту тему. Именно поэтому после свадьбы Юры наши с ней отношения не только не закончились, но стали еще теснее. Я, в свою очередь, ценила то, что она смогла, несмотря ни на что, найти в себе силы остаться моим другом. Я знала, что она тяжело пережила наше с Юрой расставание. Но она никогда ни словом, ни делом не выдала своих чувств. Она была железной — такой же, как я.
— Страшно? — спросила она.
— Уже нет! — улыбнулась я.
— Ты — молодец!
Услышать похвалу из уст Ставицкой было практически нереально. Она никогда и никого не хвалила. И то, что она сказала «молодец!», было чем-то фантастическим. На мгновение мне показалось, что я вижу в ее глазах боль. Но она быстро справилась с нахлынувшими чувствами и улыбнулась. Я молча положила голову на ее плечо. Она обняла меня и нежно чмокнула в щеку.
— Тебе пора! — твердо сказала она. — Удачи!
Мне нужно было дойти до середины сцены. Несколько сотен пар людских глаз зачарованно смотрели на меня. Я осторожно сделала первый шаг. Так пробуют ногой воду, собираясь войти в быструю холодную реку. И тут вдруг ощутила прилив сил, меня наполнили уверенность, азарт и радостная злость. Так воин идет в бой, готовый ради победы снести все преграды на своем пути. Я шла медленно, но уверенно, гордо вскинув голову. Я знала, что напряженный зал вздрагивает от каждого моего шага. Независимо от того, любили меня или ненавидели, они все в эту минуту восторгались мной! Я дошла до середины сцены и спокойно опустилась на стул. Окинула взглядом зал. Зрители затаили дыхание. Ставицкая вынесла аккордеон и поставила мне на колени. Это было жестом уважения ко мне: она не отправила кого-то, она принесла мне инструмент сама!
Привычно, как миллион раз до того, я вскинула руку и опустила на клавиши. По залу разлилась божественно красивая мелодия. Я играла как в последний раз в жизни. Играла по натянутому нерву. Играла навзрыд. И видела, что многие зрители украдкой вытирали слезы. Это плакали люди, закаленные севером, люди, которых практически ничем невозможно было разжалобить. Я закрыла глаза. Я поняла, что победила.
Я оторвала руку от клавиатуры. Раздались бурные аплодисменты. Зал встал. Я сидела ошарашенная, потрясенная, еще не успевшая прийти в себя после исполнения произведения. Никто не выходил, чтобы забрать у меня аккордеон. Позже я узнала, что Ставицкая распорядилась подождать и дать мне вволю насладиться минутой славы.
Она снова вышла сама и буквально вырвала у меня инструмент из рук — так я вцепилась в него, сама того не заметив, будто он был моим спасением, защитой и опорой. Я медленно встала, скрестила руки на груди в знак благодарности публике. Поклонилась. Зал стоял. Аплодисменты не смолкали до тех пор, пока я не зашла за кулисы. Это был мой звездный час, доставшийся мне очень дорогой ценой.
После концерта я потеряла сознание. Все повторилось: больница, врачи, капельницы и провал в черную, непроходимую бездну. Лицо Ставицкой, склонившейся надо мной и нежно целующей меня мягкими губами. Руки Папика, подхватившие меня словно пушинку и уносящие в неведомое пространство. Голос Любови Васильевны, зовущей докторов. Никто не знал, что со мной происходит. Мне становилось все хуже и хуже, и в конце концов Ставицкая с Папиком, погрузив меня в свою машину, отвезли к поезду, где уже ждали мама и Святозар, которых вызвали срочной телеграммой.
35
Незадолго до отъезда я столкнулась на больничном крыльце с Юрой — он курил. В больницу он пришел навестить жену. Я подошла ближе.
— Привет! — сказала я.
Он посмотрел на меня с загадочной полуулыбкой. С тех пор как расстались, мы не сказали друг другу ни слова. В те редкие моменты, когда нас сводила судьба в одном месте, мы как по команде отворачивались друг от друга и проходили, не здороваясь. В душе клокотала буря эмоций: обида, возмущение, гнев. Я ненавидела его, он — меня. Я очень переживала, что мы так гадко и некрасиво разошлись. И винила прежде всего себя за то, что не сумела сохранить с ним дружеских отношений. И вот теперь, спустя четыре года, мне вдруг безумно захотелось сказать этому человеку что-нибудь хорошее, невзирая на пропасть, которая нас разделяла.
— Я хочу попросить у тебя прощения, — начала я. — Прости меня, пожалуйста. Все эти годы мне было больно оттого, что мы ненавидим друг друга.
Он молчал. Но мне было уже все равно. Я хотела поставить точку в отношениях.
— Я желаю тебе удачи и счастья! — я улыбалась, на сердце стало легче. — Прощай!
И, поднявшись по лесенке, я ушла в палату. Юра так и остался сидеть с сигаретой в руках, задумчивый, слегка улыбаясь. Он простил меня. Я была уверена в этом.
И теперь, больная и разбитая, уезжавшая из Киндзи с тяжелым сердцем, я сказала Ставицкой:
— Я попросила у Юры прощения! — Я сделала паузу. Она напряженно ждала, что я скажу дальше. — Думаю, он простил меня. — Я сделала еще паузу. Дышать было тяжело. — Простите меня и вы!
— Ну что ты, что ты! Ты ни в чем не виновата! — она волновалась. — Никто не виноват в том, что у вас с Юрой не сложилась жизнь… Я всегда боялась, что он возьмет в жены женщину с ребенком. За что боролись, на то и напоролись! — с горечью добавила она.
36
Моя встреча с мамой и Святозаром на станции вышла холодной и безрадостной. Я категорически не хотела возвращаться в семью. Меня, как тряпичную куклу, не спросив моего мнения, затолкали в поезд и увезли в другой город, в другую жизнь.
Я лежала на полке плацкартного вагона и думала о том, что произошло с моей жизнью, почему все так странно получилось. Но мысли путались. Не хотелось ни о чем и ни о ком вспоминать. Я боялась анализировать ситуацию, в которой оказалась.
Прошло четыре года жизни на севере, определенный отрезок, с радостями и печалями, с огромными достижениями и позорными провалами. Зачем все это было? Для чего? Чтобы закончиться таким образом?
Я не могла уснуть. Закрывая глаза, я видела, как страшные, безобразные чудища с пятью ногами и двумя головами, одна над другой, режут меня на части. Сначала мне отрезают правую руку и безумно хохочут, потом левую. Крови нет. Я остаюсь без рук. Чудища хватаются лапами за мои ноги и выдергивают их. Снова раздается безумный хохот. Я вижу свое туловище с головой и разбросанные вокруг меня руки и ноги. Страха нет. Боли нет. И только один-единственный вопрос: как же калеке жить дальше?
С поезда меня отвезли прямиком в больницу. Все повторялось: врачи, обследования, капельницы. Я больше не спрашивала о своем диагнозе. Его никто не знал, включая врачей. Болезнь отобрала все мои силы, и день за днем я проводила в постели, равнодушно глядя на происходящее вокруг. Мне было все равно. Я устала. Я привыкла закрывать глаза и уходить в мир иллюзий и мечтаний. Так было легче. Так было проще.
Однажды, замечтавшись, я почувствовала чье-то легкое прикосновение к лицу. Я открыла глаза. Передо мной сидел отец Александр. Я закрыла глаза, убеждая себя в том, что мне это мерещится. Но открыв глаза снова, я увидела все того же отца Александра, которого я безумно любила все эти годы. Только теперь, глядя в его лицо, я ничего не почувствовала. Много лет я часто задавала себе один и тот же вопрос: может ли любовь быть вечной? Ответ пришел: вряд ли! У любви есть начало, но у нее есть и конец. Ничто не вечно. И любовь, как оказалось, тоже. Я не только больше не чувствовала тех радости и трепета, которые всегда появлялись при встрече с ним, — во мне зарождались доселе неизвестные мне отвращение и агрессия. Лежа на больничной кровати, я не понимала, как могла столько лет так безумно и безрассудно любить этого человека: трусливого, жалкого, ничтожного, не умеющего отвечать за свои поступки. Если бы не моя слабость, я вцепилась бы ему в лицо как тигрица. Но сил не было даже на то, чтобы поднять руку.
— Здравствуй, моя хорошая! — тихо и несмело сказал отец Александр.
— Здравствуй, преподобный отец Александр! — сухим и жестким голосом ответила я.
За месяцы, проведенные в больнице, я изменилась не только внешне, но и внутренне. Мне открылись скрытые до сих пор истины. Через боль и страдания, находясь между жизнью и смертью, я превращалась в мудрую женщину. Я начинала четко и ясно понимать свои ошибки и заблуждения, связанные с отцом Александром. Но я также отдавала себе отчет, что через эти заблуждения и ошибки я приобрела богатый жизненный опыт. Было светлое детское чувство влюбленности в опытного, зрелого мужчину. Но иначе и не могло быть! Нежность, ласка, понимание и внимание отца Александра не могли оставить меня равнодушной. А как я хранила в памяти его поцелуй на лестнице, первый и очень важный для меня, давший почувствовать себя взрослой, подаривший столько нежности, столько приятных и волнующих переживаний! Но все это было сказкой, сном, иллюзией. Пора спускаться с небес на землю и учиться мыслить разумно.
— Как ты, девочка моя? — тихо спросил он.
— Как видишь! — отрезала я.
— Прости меня! Я виноват, безнадежно виноват! — Он опустил голову.
— Бог тебя простит, преподобный пуп земли! Зачем ты приехал? Я тебя не звала.
— Я почувствовал, что тебе плохо.
— Почувствовал? — вскипела я. Меня снова захлестнула злость. — Ты бы лучше почувствовал это, когда отрекался от меня. Ты бы лучше почувствовал, когда предал меня, как Иуда Христа. — Я задыхалась от волнения и ненависти.
— Я… — начал отец Александр.
— Ты! Конечно, ты! Ты даже не в состоянии ответить за свои подлые поступки! Но меня это не удивляет. Мне все ясно, и в твоих жалких объяснениях я не нуждаюсь.
— Да что с тобой? — Он был ошарашен.
— Что со мной? Ты спрашиваешь? Жалкий преподобный отец Александр, — уже спокойнее, чувствуя, как безнадежно слабею, продолжала я. — Я тебе искренне сочувствую, священное лицо, запутавшееся во лжи и потонувшее в грехах! — И я криво, с отвращением усмехнулась.
— Прости меня, — опустив глаза, униженный и пристыженный, тихо произнес отец Александр.
— У своего Бога попроси прощения! — буркнула я. — Ты негодяй и по совместительству служитель Господний. А теперь убирайся. И я тебя умоляю: сделай так, чтобы я тебя больше никогда не увидела, иначе я за себя не ручаюсь!
Ничего не ответив, отец Александр медленно встал и, шатаясь, вышел, деликатно прикрыв за собой дверь.
С облегчением вздохнув, я откинулась на подушку. Мне стало тепло и хорошо. Огромный груз, который мучил меня и заставлял делать необдуманные поступки, свалился с моих плеч, отчего на душе стало легко и радостно. Я улыбнулась сама себе: «Как я его отчитала! Молодец!» Довольная, я закрыла глаза и заснула крепким сном.
Удивительно, но после визита отца Александра я пошла на поправку. Зачем он приезжал и как нашел меня — я даже не пыталась узнать. Мне было все равно. Я ничего больше не хотела о нем знать.
ALLEGRO DRAMATICO
37
Приближалось время сессии. К тому моменту я заочно училась на третьем курсе Института культуры. Поступив учиться еще на севере, я была намерена продолжить обучение. Быть может, оттого мне и стало легче, что я четко помнила о том, что скоро сдавать зачеты и экзамены. Но я была истощена. Меня мучили слабость и головокружения, и я боялась, что не справлюсь с предстоящей нагрузкой.
Тем не менее я нашла в себе мужество и силы и в назначенный день сидела за партой, внимательно слушая нудного лектора.
Училась я хорошо. Слишком хорошо. С самого первого дня, с момента, когда переступила порог этого учебного заведения, я решила для себя, что диплом у меня будет исключительно красным. Другие варианты не рассматривались. Я шла к своей цели легко и успешно, сдавая все сессии играючи и с удовольствием. Я никогда не волновалась перед экзаменом, никогда не пила валерьянку и не плевала через левое плечо. Уверенно и не спеша я подходила к преподавателю, садилась напротив и рассказывала все, что знаю. Обычно после моих исчерпывающих ответов у педагогов не возникало ко мне никаких дополнительных вопросов.
Сначала сокурсники относились ко мне холодно и надменно. Я оставалась все той же замкнутой и необщительной девочкой, белой вороной и предпочитала отмалчиваться, когда весь курс численностью в сорок человек рвал глотки, что-то доказывая и о чем-то споря. Здесь, как и в Киндзе, я зарекомендовала себя неординарной и странноватой личностью с причудами. Так продолжалось до тех пор, пока однажды нам не дали нестандартное задание. Нужно было подготовить речь по любой интересующей теме и выступить, донеся свою позицию сокурсникам. Выступая перед публикой, я всегда чувствовала себя как рыба в воде. И это задание явилось для меня возможностью выгодно преподнести себя. Я взяла очень сложную и тяжелую тему суицида. До этого момента я часто задумывалась: что же такого должно произойти в жизни человека, чтобы он решился на столь отчаянный и безумный шаг? Что заставляет человека идти на такие крайности и обдуманно, осознанно убивать себя? Этими мыслями и соображениями я поделилась в своей речи. До меня выступили пять человек. Все эти выступления были блеклыми, сумбурными, неубедительными. Да и темы — несерьезными, типа «Есть ли жизнь на Марсе?» или «Удивительные возможности аппарата Иванова».
Подошла моя очередь. Я вышла за трибуну. Сокурсники, до этого слушавшие вполуха, при моем появлении загалдели еще громче. Я заговорила сквозь галдеж. Проникшись собственной темой, я старалась завладеть вниманием аудитории.
— Не проходите мимо, помогите тем, кто сейчас нуждается в заботе вашей, доброте! — декламировала я. — Ведь сколько их на белом свете — спешат покончить с жизнью от равнодушия других!
В моей речи была такая страсть, что все притихли, поначалу не понимая, что происходит. Натянутая как струна, уверенная в том, что говорю, я сделала паузу и окинула взглядом сидящих неподвижно сокурсников и преподавателей. Они внимательно смотрели на меня, затаив дыхание. В аудитории стояла гробовая тишина.
Своим выступлением я произвела фурор и заработала уважение среди сокурсников. Меня по-прежнему считали странной, но теперь со мной советовались, просили помочь с учебой. Это не помогло мне завести друзей. Я оставалась одинокой. Но все же с одной из сокурсниц я сумела сблизиться и найти общий язык. Не знаю, почему именно с ней. Мы были такими разными, как день и ночь! Я — слишком замкнутая, она — слишком общительная, я слишком серьезная, она — слишком легкомысленная. Ее звали Людмила, и она была старше меня на семнадцать лет! Плотная, дородная женщина с красивыми искрящимися глазами, она становилась заводилой и душой любой компании. Она могла говорить часами без умолку — я только слушала, не перебивая и изредка поддакивая. У Людмилы был муж-полковник и трое уже достаточно взрослых детей. У меня не было ни мужа, ни детей. Единственное, что нас связывало, — желание получить красный диплом. Людмила тоже экзамены все сдавала на отлично, объясняя, что за плохие оценки ей будет стыдно перед мужем и детьми.
Каждый раз, встречаясь на очередной сессии, она задавала мне один и тот же вопрос — вышла ли я замуж.
— Не-а, — равнодушно отвечала я.
Тогда она начинала твердить про какого-то мифического Серегу, который «ну просто идеал, и не родилась еще та женщина, которая достойна к нему прикоснуться!» Я только откровенно посмеивалась над ее великим желанием женить этого «неприкосновенного», залежавшегося жениха, а она на полном серьезе обижалась.
— Ты его просто не знаешь! — воодушевленно возражала она. — Я вас когда-нибудь познакомлю, и ты поймешь!
38
Был последний день сессии. И я, и Людмила удачно сдали экзамен и вместе вышли из института. На дворе стоял сентябрь и было еще тепло. Солнце светило, ласково и приветливо, даря возможность насладиться почти летними деньками.
— Поехали ко мне в гости, — вдруг сказала Людмила.
— Нет, спасибо. Как-нибудь в другой раз, — ответила я без энтузиазма.
Я безумно устала. Болезнь давала о себе знать: мне приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы высидеть все лекции в институте.
— Ну, у нас и отдохнешь! — хитро прищурилась Людмила.
Я колебалась: с одной стороны, я и вправду жутко устала, с другой — мне интересно было побывать у нее в гостях, познакомиться с ее семьей. Интерес взял верх, и я сдалась.
— А кто у тебя сейчас дома? — спросила я, когда мы сели в автобус.
— Муж, дети, ну и… — она сделала значительную паузу, — друг нашей семьи, Серега. — И, заметив мое смущение, добавила: — Он тебе понравится! Он такой классный!
Так вот оно что! Людмила решила выступить в роли свахи. Конечно же! Как я сразу-то не догадалась? Ведь уже три года подряд она только и спрашивает, вышла ли я замуж. Противно! Везут и предлагают, как завалявшийся товар! И как я докатилась до такой жизни?
Двери нам открыл высокий плотный мужчина с очаровательной доброй улыбкой и умными проницательными глазами.
— Знакомься: это мой любимый муж! — гордо сказала Людмила.
— Александр, — представился тот.
Она часто рассказывала о Саше. И то, с какой нежностью она это делала, выдавало в ней безумно любящую и любимую жену.
Следом вышли нас встретить сын и дочь Люды и Саши, как две капли похожие на отца. Еще одна их дочь, старшая, жила своей семьей в другом городе. И, наконец, из кухни, держа в руках вилку с огромным пельменем, выскочил шустрый, энергичный, небольшого роста мужчина.
Ага! Значит, вот это чудо и есть Серега, о котором три года подряд и взахлеб рассказывала Людмила! Н-н-да, ну и дела! Неужели она и вправду думает, что у меня с ним может что-нибудь получиться? Маленький, лысенький, плюгавенький, да еще и старый! «Маленький, маленький, — вертелась назойливая мысль, — сам маленький, и все у него маленькое», — мысленно язвила я.
— Ты пельмень-то сначала доешь, — смеясь по-доброму, прогнала его Людмила.
— Угу, — буркнул «жених» и послушно удалился.
Мы прошли в комнату. Я искренне злилась на себя за то, что согласилась на этот визит. Да! Я мечтала о мужчине, о любви. Но на моем пути попадались алкоголики, проходимцы, тунеядцы, которые умудрялись обидеть и оскорбить меня, да еще и заставить потом думать, что я сама во всем виновата. Мои бывшие мужчины унижениями и оскорблениями пытались научить меня полюбить себя, а я этого не понимала, бескорыстно жертвуя собою, пытаясь во всем угодить каждому следующему пройдохе. Неудивительно, что моя личная жизнь не складывалась. И вот судьба подкинула очередной экземпляр.
Сергей оказался интересным человеком, умеющим рассказать захватывающую историю и смешной анекдот, спеть восхитительную песню о любви, аккомпанируя себе на гитаре.
Часы уже пробили полночь. Дети давно ушли спать. Людмила с Александром тоже удалились. А я сидела с Серегой, слушая его забавные рассказы. Он говорил не останавливаясь — о людях, о музыке, о спорте, — я даже не пыталась его перебивать и, к своему удивлению, чувствовала, как проникаюсь к этому человеку симпатией.
Утром Серега вызвался проводить меня на поезд. Он легко взгромоздил на свои мощные плечи мою неподъемную сумку, и мы отправились на вокзал. Разговора не получалось, и мы молчали, не зная, что сказать друг другу. Вдруг совсем неожиданно Серега спросил:
— Замуж-то за меня пойдешь?
Я нисколько не удивилась этому вопросу от едва знакомого человека. Напротив, будто бы этих слов только и ждала. Я подняла на него глаза. Его лицо не выражало никаких эмоций.
— Что? Вот так сразу и замуж? — спокойно уточнила я.
— А чего тянуть-то? — так же спокойно ответил он.
— У меня есть время подумать?
— Думай, — разрешил он.
И, сменив тему, оживленно заговорил о чем-то другом. Сергей дурачился как мог, стараясь меня рассмешить, корчил смешные рожицы. А перед прибытием поезда купил красочный женский журнал и торжественно мне вручил.
— Чтобы доехала быстрее! — пояснил он.
39
О чем я думала, когда тронулся поезд? Скорее ни о чем и обо всем сразу. Я просто улыбалась. Я уже приняла решение и точно знала, что ответ будет положительным. На это у меня было две причины: во-первых, я не хотела жить с семьей и уже подумывала о том, чтобы снять комнату, и в этот самый момент последовало предложение о замужестве. «В жизни все приходит вовремя!» — подумала я. Вторая причина была банальна: я устала от одиночества. Мне было двадцать шесть лет и так хотелось любви!
Сергей меня устраивал. Он был старше на тринадцать лет, а я всегда мечтала о солидном мужчине в возрасте. Со сверстниками мне было скучно и неинтересно. Сергей мне казался мудрым человеком. Он не курил, не употреблял спиртных напитков. Последнему обстоятельству я была особенно рада, памятуя о своих отношениях с Юрой.
40
Серега звонил мне каждый день. Мы болтали о всякой ерунде, смеялись и шутили. Он не говорил о любви. Но меня это не смущало: я грезила о счастливой семейной жизни и была уверена, что у меня все обязательно получится.
Через две недели Сергей позвонил и сказал, что снял квартиру и ждет меня. Я была счастлива! Вмиг собрав вещи, я села в поезд и уехала.
Сергей встретил меня, и мы отправились на квартиру. Он открыл дверь, я вошла — и помертвела от ужаса. А чтобы не упасть, оперлась о какую-то деревяшку, претендовавшую на роль тумбочки. Стены единственной комнаты украшали грязные, драные в клочья обои, сквозь которые проглядывала известка иссиня-серого цвета. С потолка, будто дождь, свисала паутина. На полу всюду валялись старые пожелтевшие газеты и журналы. В углу стоял допотопного происхождения диван, который, казалось, от одного только взгляда готов издавать истеричные, возмущенные скрипы. С ним соседствовал, каким-то неведомым чудом не разваливаясь, перекошенный шкаф с синими разводами и многослойной пылью на стеклах. Посреди кухни высилась покосившаяся трехногая тумбочка, по которой расхаживали мыши и тараканы, перемещаясь на стены и на потолок, словно варварское нашествие. И встав посреди всего этого ужаса, Сергей невозмутимо выложил из пакета пачку пельменей, весело добавив:
— Сейчас ужинать будем!
Заметив гримасу отвращения на моем лице, он спросил:
— Тебе не понравилась квартира?
Я молчала, проклиная тот день, когда согласилась вот так легко, будто в омут с головой, приехать к малознакомому старому дядьке, неизвестно куда и неизвестно зачем. Мне хотелось бежать. От Сергея. От себя. От всего на свете. Но бежать было некуда. За окном стояла темная непроглядная ночь в чужом городе.
Вместо постельного белья к скрипучему, видавшему виды дивану прилагался во всю его длину спальный, тоже видавший виды мешок. Едва сдерживая слезы, я втиснулась в него, стараясь не касаться грязного дивана. Сергей лег рядом, не раздеваясь. Повисла пауза. Я ждала, когда он начнет ласкать меня, скажет добрые, нежные, милые слова. Но он лежал истуканом, видимо, не собираясь проявлять ко мне никакого внимания. Тогда я сама придвинулась к нему и прижалась всем телом. Это подействовало, и Сергей легонько и как-то уж совсем неуверенно, по-детски обнял меня. Я потянулась к его лицу и коснулась губ. Но мой романтичный настрой тут же пропал: губы Сергея оказались неживыми, вялыми. Я не почувствовала отвращения. Только он совсем не умел целоваться! «Странно, — подумала я, — мужику за сорок, а он до сих пор этому не научился!»
Смущаясь, Сергей запустил руку под мою пижаму, несмело нащупал грудь и начал ласкать, неумело и робко. Соскучившись по мужским объятиям, я только этого и ждала. Ловко сбросив с себя пижаму, я стянула с него рубашку, расстегнула ширинку и залезла рукой внутрь. Сергей притянул меня к себе так сильно, что я вскрикнула от боли. Он целовал мое лицо, руки, губы, гладил с нежностью и вместе с тем настойчиво мое упругое молодое тело. Я достигла такого возбуждения, что больше не могла терпеть сладкой истомы. Всем своим существом я прижалась к нему, предвкушая бурную развязку. Но неожиданно Сергей меня оттолкнул. Я уставилась на него.
— Ты чего? А дальше?
— Дальше не буду, — резковато ответил он.
— Как это? — удивилась я.
— Не буду, и все! — парировал Сергей.
И тут меня осенило. Конечно же, как я раньше об этом не подумала? В один миг вспомнились рассказы Людмилы о том, что Сергей никогда не был женат, никогда не имел любовниц и всегда отказывался знакомиться с женщинами, с которыми можно было бы завязать интимные отношения. А охотниц познакомиться с ним было пруд пруди. Порядочный, непьющий мужчина, способный разговорить даже мертвого (как подтрунивали коллеги над его потрясающим умением общаться с людьми), да еще виртуозно и проникновенно поет песни о любви и умеет наговорить приятных и ласковых слов! Ну и какая женщина сможет устоять перед идеалом? Вспомнила я и о том, как уже более опытные дамы, по рассказам Люды, откровенно пытались его соблазнить, но он, словно железный, не поддавался никаким провокациям.
— У тебя никогда не было женщин? — спросила я.
— Не было, — тихо ответил Сергей, отвернулся к стенке и… уснул!
Что я тогда почувствовала? Разочарование, горечь, боль, заставлявшие душу сотрясаться безмолвным истеричным смехом. Ну вот. Так жаждала мужской ласки, тепла, любви. И опять не судьба! Очередной мужчина поступает со мной не по-мужски. Жизнь никогда не баловала меня. Вот и сейчас все надежды на счастье рухнули в один миг. Да, я умолчала о том, что и у меня не было мужчин, и тем самым только навредила себе. Быть может, если бы он знал, что я девственница, то вел бы себя иначе? Но смелости не хватило, чтобы открыться, признаться, заявить о себе. Надо бежать отсюда! Из этой съемной квартиры, из этого чужого, незадачливого города. Надо срочно уходить от этого мужчины, которого я ошибочно приняла за героя. Но куда идти? Здесь я не знала ни единой души, а возвращаться в материнский дом категорически не хотела. Да и как бы я объяснила свое возвращение? Мужчина, к которому я уехала, оказался не мужчиной? Позорище! Стыдоба! В один миг жизнь показалась пустой и бессмысленной. Я почувствовала непреодолимую слабость и поняла, что смертельно устала. Больше не осталось сил бороться и сопротивляться обстоятельствам. Пусть все будет так, как есть! Каждое движение, каждая мысль причиняли невыносимую боль. Я решила плыть по течению, пока оно не вынесет меня в нужное русло.
41
Несколько дней спустя мы с Сергеем переехали в другую квартиру, полную противоположность прежней. Светлая, чистенькая, аккуратно выбеленная и выкрашенная — она казалась мне чудесным сказочным уголком. Впервые за время, прожитое с Сергеем, я вздохнула спокойно.
Жизнь текла размеренно и однообразно. Я устроилась преподавать музыку в школе. Учительские будни были совсем безрадостными, но и огорчений не приносили. Сергей уходил на работу рано утром и возвращался поздно вечером, съедал приготовленный мною ужин и усаживался за вечерний просмотр телепередач. А когда наступала ночь, поворачивался ко мне спиной, и через полторы минуты я уже слушала его мощный храп.
Поначалу я ждала: вот сейчас он повернется, скажет, что безумно влюблен в меня, нежно приласкает и начнет покрывать страстными поцелуями мое молодое, жаждущее любви тело. Но, увы, быстро поняла, что не дождусь жарких объятий и страстных поцелуев. Сергей обращался со мной как с сестрой, а иногда и как с маленьким неразумным ребенком. Он чмокал меня в щечку и сладко засыпал, он брал меня за руки, но при этом пялился в телевизор, он задавал мне вопросы и никогда не слушал моих ответов. Я молчала, все же надеясь, что он ко мне привыкнет и научится видеть во мне женщину. Но вскоре начались скандалы. Ощущая себя ненужной, понимая, что Сергей меня использует, я становилась нервной и раздражительной. Я часто плакала без причины, обижалась по пустякам и отказывалась верить, что в очередной раз моя жизнь рвется в мелкие клочья. Сердце ныло от боли. Я уже не видела в Сергее того обаяния, которым он очаровал меня при первой встрече. Меня пугало, что с каждым днем я все сильнее и сильнее ненавижу его за лицемерие и равнодушие. Но от мысли, что придется вернуться в дом матери, мне становилось еще хуже. Круг замкнулся. Нужно было смириться и принять Сергея таким, каким он был. Ведь не все так плохо, утешала я себя. Он производил впечатление благородного рыцаря (если не брать во внимание ночи), потакал всем моим капризам, никогда и ни за что не ругал и не повышал голоса. В те редкие моменты, когда у него появлялись время и желание, он учил меня петь. Вечерами мы ходили на прогулки и обязательно сталкивались с кем-нибудь из приятелей и друзей Сергея. И каждый раз он, нежно обняв меня за плечи, с гордостью в голосе заявлял: «Познакомьтесь! Это моя жена!» В такие моменты я искренне поражалась тому, как начинало светиться его лицо, как он гордился тем, что у него молодая красивая жена, и как ему важно, чтобы все его знакомые знали: он женился! Я неоднократно замечала, что женщины при этом смотрели на меня с завистью и откровенным интересом, некоторые, не стесняясь, разглядывали в упор, как музейный экспонат. Я не понимала, почему все-таки Сергей, пользующийся успехом у такого количества женщин, так и не сделал ни одной из них предложения руки и сердца. Почему не вступал в интимные отношения, имея столько шансов и возможностей? И почему, наконец, женившись на молодой красивой женщине, даже не пытался сделать ее счастливой?
Наша жизнь с Сергеем шла как две параллельные прямые. Удивительно, но, увлекаясь одним и тем же, мы вечерами не знали, о чем разговаривать. Каждый занимался своими делами, не обращая внимания на другого. Иногда, указывая на телевизор, я с горечью говорила:
— Ты своего друга любишь больше, чем меня!
Сергей никак не реагировал и продолжал демонстративно пялиться в голубой экран.
— А если я надену противогаз, ты заметишь? — возмущалась я.
— Ну что ты выдумываешь? — отмахивался он от меня, как от назойливой мухи.
Со временем Сергей стал попросту меня игнорировать. Он не обращал никакого внимания на мои недовольства и претензии, переходящие в истерики. Он никогда не отвечал грубостью на мою грубость. Он вообще никогда и ничего мне не отвечал. С каждым днем мои нервы расшатывались все сильнее и сильнее. Но, к счастью, в моей жизни появилось серьезное и приносящее хороший доход увлечение. Я начала проводить свадьбы и получала от этого занятия неземное удовольствие. Все свои нереализованные чувства, эмоции, всю нерастраченную энергию я выплескивала на благодарную публику. У меня здорово получалось. И осознание того, что хоть в какой-то сфере жизни у меня есть просвет, спасало меня от нервных срывов. Я выходила на сцену и отдавала себя полностью, без остатка.
Появилось много знакомых и поклонников. Я встречалась с мужчинами, но дальше посиделок в кафе дело не шло. Все время что-то останавливало меня от продолжения, что-то смущало. Возможно, страх признаться очередному поклоннику, что у меня никогда не было интимных отношений.
Но помог случай. Однажды, открыв страницу с объявлениями, я прочла: «Мужчина средних лет познакомится с девственницей для приятного времяпровождения». Я позвонила, и мы встретились вечером на остановке возле местного храма.
Мужчина средних лет по имени Виктор оказался владельцем черного БМВ. В назначенный час машина подъехала к остановке, дверь открылась, и я увидела худощавого темноволосого человека, роста скорее невысокого. Открыв дверь, он кивнул, и я села в его шикарный автомобиль.
— Может, сразу в церковь? — пошутил он.
— Сразу — не надо! — ответила я.
Виктор внимательно посмотрел на меня. Я сидела не шевелясь, потеряв от волнения дар речи. Он прикоснулся к моей серой шапке.
— Волосы короткие?
— Короткие, — подтвердила я.
— Будем отращивать. Скажи, а как получилась, что, дожив до двадцати восьми лет, ты до сих пор девственница?
— Не знаю, — честно ответила я. — А почему тебя интересуют именно «девочки»?
— Мне так нравится. Давай репетировать!
Он придвинулся ближе и опустил руку между моих ног.
— Там мокро? — спросил он.
— Да-а-а-а, — простонала я. Было приятно и волнительно.
— Это хорошо, — удовлетворенно кивнул он.
Мы договорились встретиться через два дня в гостинице.
Гостиничный номер оказался скромным, но чистым. Широкая кровать была заправлена стареньким накрахмаленным покрывалом. В углу на деревянной тумбочке одиноко стоял небольшой телевизор.
Я сняла дубленку, небрежно бросив ее на единственный стул, и бессильно опустилась на кровать.
— Что с тобой? — спросил Виктор.
— Меня трясет! — коротко ответила я.
— Ну, посидим, чаю попьем да обратно поедем, — невозмутимо сказал Виктор.
— Нет, — отрезала я. — Я очень хочу, чтобы это произошло.
— Вот и молодец! Ты наконец узнаешь, что значит любить мужчину, быть с ним, ласкать его.
Он придвинулся ближе и повалил меня на кровать. Быстро стянув с меня оставшуюся одежду, он еще быстрее разделся сам и жадно припал ртом к моей груди, словно голодный младенец. Он оттягивал губами сосок и впивался в него с новой силой. Я вскрикивала от боли, но он не обращал никакого внимания. Делал он все быстро, рывками, будто отрывал куски мяса. Потом дернулся и резко опустился между моих ног. Это мне понравилось гораздо больше, и я тихо застонала. Видимо, решив, что я вполне готова, Виктор навалился на меня и попытался войти. Я почувствовала резкую, нестерпимую боль и закричала.
— Сейчас, сейчас, — сказал он торопливо. — Потерпи еще чуть-чуть.
Он приподнялся на руках и навалился с новой силой.
— Больно, — простонала я.
— Знаю, — ответил он, — но я не могу в тебя войти.
— Попробуй еще, пожалуйста, я потерплю, — еле слышно попросила я.
— Пойдем немного отдохнем, чаю выпьем, а потом продолжим, — предложил он, отходя к столу.
Я последовала за ним и присела рядом. Он задумчиво курил, глядя в сторону.
— Почему не получается? Со мной что-то не так? — сгорая от стыда, тихо спросила я.
— Знаешь, когда-то много лет назад схлестнулся я в поезде с одной миловидной девушкой. Она оказалась тридцатилетней девственницей, но я узнал об этом, только когда уже раздел ее. Я долго с ней возился, но ничего не смог сделать. Как потом выяснилось, у нее было какое-то неправильное расположение и ей делали операцию.
— Какую операцию? — не поняла я.
— Лишили девственности хирургическим путем, — нехотя пояснил он. — У тебя, наверное, то же самое.
«Ну уж нет! Со мной такого не будет!» — подумала я.
Он докурил сигарету, и мы вернулись на ложе любви. Все повторилось. Минуя губы, Виктор впился в мою грудь. Только теперь я уже не вскрикивала, боясь его оттолкнуть, а сжала зубы и терпела. Потом он опустился между ног. На этот раз ласки были немного длиннее, и я успела расслабиться. Появилось слабое, еле заметное желание.
— Раздвинь ноги пошире, — скомандовал он.
Я подчинилась. Он подложил мне под бедра подушку. Снова навалился всем телом и снова наткнулся на преграду. Он прилагал неимоверные усилия. Наверное, для него это было делом чести, очередной статуэткой в коллекции, и он старался сохранить свой имидж покорителя девственниц. Но, как он ни старался, ничего не получалось. Совсем выбившись из сил, вспотевший и недовольный, он сказал:
— Ничего не выйдет. Одевайся, я отвезу тебя домой.
42
Машина катила по ровной, гладкой дороге. Внутри было тепло, играла тихая ненавязчивая музыка. Виктор молчал, сосредоточенно глядя на дорогу, я тихо плакала от позора и обиды.
Он остановился там же, на остановке, возле храма.
— Ты не переживай, — сказал он на прощание, — обратись к врачу, и тебе все быстро сделают.
Между тем коллеги на работе все присматривались к моему животу в поисках признаков беременности. Людмила постоянно спрашивала, не ждем ли мы кого-нибудь. Я молчала. Признаться в том, что я до сих пор девственница, а мужчина, с которым я живу, — импотент, было для меня страшнее ядерной войны. Сергей делал вид, что ничего не происходит и на все мои вопросы по поводу рождения ребенка отвечал:
— Конечно, родим!
«От Святого Духа, что ли?» — мысленно язвила я. А вслух спрашивала:
— И каким образом мы это сделаем?
Он отмахивался и переводил разговор на другую тему.
После неудавшейся встречи с Виктором, я обратилась к гинекологу. Высокая, статная, красивая женщина средних лет внимательно посмотрела на меня недоуменным взглядом.
— Что, так и ни разу не было?
— Нет, — тихо ответила я.
— Раздевайтесь.
Внимательно меня осмотрев, доктор заключила:
— Неправильное расположение влагалища. Надо резать.
Но я была даже рада. Отдаться еще раз мужчине, после тех мучений и боли, которые я вынесла от Виктора, я бы не согласилась ни за какие деньги. Пусть уж лучше режут.
В клинике я оказалась на следующий день. Сергею сказала, что простыла и необходимо пройти курс лечения. Он никак не отреагировал, а в душе, скорее всего, обрадовался возможности хоть неделю пожить спокойно без меня.
В больнице я еще раз прошла осмотр у того же врача, на который она пригласила студентов. Несколько пар глаз уставились мне между раздвинутых ног, с интересом наблюдая за действиями своего преподавателя.
— Надо будет на операцию прийти, — смеясь сказала одна из студенток другой.
— Во веселуха! — ответила та. — Не пропустить бы!
Я лежала в кресле, униженная и опозоренная, мечтая о том, чтобы этот осмотр быстрее закончился, чтобы мне сделали операцию, чтобы я наконец стала женщиной и могла встречаться с мужчинами, как все.
Мечты мои были услышаны — операцию назначили на следующий день. Вечером сделали клизму, побрили лобок и сказали, чтобы ничего не ела. А утром две медсестры отвезли меня в операционный бокс и оставили перед входом в операционную. То ли от холода, то ли от страха меня бил сильный озноб, и как в бреду я повторяла: «Богородице Дево, радуйся!» Потом меня уложили на стол. Я подозрительно посмотрела на доктора, который проворно суетился возле моих раздвинутых ног. Словно прочитав мои мысли, он строго сказал:
— Пока наркоз не подействует, ничего делать не будем! Успокойся!
И тут же я почувствовала, как в мою руку вошла игла. Голова закружилась, и я на бешеной скорости полетела темными коридорами.
Очнулась я уже в палате от тупой ноющей боли.
— Ну вот, все закончилось, — сказал доктор, — вынимая тампон из влагалища. — Теперь можешь встречаться с мужчинами, препятствия устранены.
— Спасибо, — шепнула я и закрыла глаза.
Все будет хорошо. Я соблазню Сергея. Мы будем проводить с ним прекрасные романтические ночи. Все наладится, и у меня начнется другая жизнь. Я встречу на своем пути много мужчин, которым подарю себя: щедро и без остатка.
Сергей встретил меня так же, как и проводил, вполне равнодушно. Вопреки моим ожиданиям и позитивному настрою, в моей жизни ничего не менялось. Сергей, как и прежде, оставался равнодушным и безразличным. Все попытки его соблазнить безнадежно терпели поражение. Все чаще и чаще срываясь, я устраивала Сергею истерики. Ложиться в постель с мужчиной, который не обращал на меня никакого внимания и не проявлял никаких чувств и эмоций, оказалось невыносимой пыткой. Операция пробудила во мне женщину, и меня сжигало сильное желание страсти. После скандалов я в слезах собирала вещи и клялась, что завтра же уйду от него. Но утром, открывая глаза, я видела Сергея, старательно выкладывающего мои вещи обратно в шифоньер. Все возвращалось на круги своя. Я не решалась порвать с ним отношения. Мне по-прежнему было некуда и не к кому идти.
Не знаю, сколько бы времени все это продолжалось, сколько бы я еще смогла жить с «не мужчиной», если бы однажды, умываясь перед сном, не нащупала у себя на шее маленькую шишечку.
— Сергей! — крикнула я.
— Чего тебе? — нехотя отозвался он, с трудом отрываясь от телевизора.
— Смотри! У меня какая-то шишка! — и сама услышала, как тревожно дрогнул голос.
— Продуло, видимо, — равнодушно сказал Сергей, приблизившись ко мне. — Говорил тебе: не сиди на сквозняке! Ладно, — видя мое недоуменное лицо, уже ласковее заговорил он, — завтра в аптеке куплю тебе мазь.
Мазь не помогала. Я тянула с обращением к врачу. «Некогда!» — говорила я себе. Но под этим «некогда» крылся панический страх, предчувствие чего-то очень страшного и неизбежного. Что-то мне подсказывало, что после визита к врачу моя жизнь кардинально изменится, повернется на сто восемьдесят градусов, и, увы, не в лучшую сторону.
В эти дни меня полностью поглощала сцена. Шикарным блеском праздников, ярким светом, разноцветной мишурой я прикрывала тревогу и боль, успевшие разрастись в моей душе.
Тот день я помнила четко и ясно. Вот доктор опускает глаза, вынося свой неутешительный приговор. Вот я выхожу из больницы. Взгляд остановился на деревьях. Они показались мне такими красивыми и совершенными. Почему никогда раньше я не любовалась этой идеальной красотой? Ярко светило солнце, и я ощутила, как оно бережно обволакивает меня своим теплом, согревая озябшее тело. Но минутный восторг совершенством природы вспыхнул и погас, и я тупо уставилась в одну точку. Время остановилось, замерло в оцепенении, боясь потревожить мое раненое сердце. Тогда я еще не знала, что этот страшный приговор был только началом всех моих несчастий.
Я посмотрела на свои руки. Они сжимали помятый клочок бумаги. Направление на лечение. Помню, как швырнула его в первую попавшуюся урну, села в автобус и приехала домой. Открывая дверь, я услышала истошно трезвонящий телефон, охрипший от долгих гудков. Взяла трубку. Послышался голос Сергея. Он никогда мне не звонил. Но в этот день почему-то вспомнил о моем существовании.
— Привет! — сказал он.
— Сергей, — глухим голосом отозвалась я, — мне поставили рак.
Последовало молчание, длившееся вечность. Банальные утешения, вроде того, что «все будет хорошо». Потом провал и глубокое забытье.
43
С этого момента начались тяжелые будни. Мое самочувствие ухудшалось с каждым днем. И без того неидеальные отношения с Сергеем разваливались на глазах. Позже я узна́ю, что не последнюю роль в этом сыграла моя свекровь Раиса Ивановна. Каждый вечер, звоня своему сорокалетнему лысенькому сынулечке, который был от нее зависим и послушно выполнял все ее указания, она убеждала его расстаться с «этой обреченной», то есть со мной: «Зачем она тебе? Ведь не то что ребенка тебе родить, но и сама-то года не протянет!»
Жизнь тем не менее продолжалась. Но день ото дня мне все тяжелее становилось ходить на работу. К тому же я училась — теперь уже на пятом курсе и писала дипломную работу. Однажды, придя как обычно на урок, я поняла, что больше не смогу провести ни одного занятия. Такое было отвращение ко всему. Раздражали дети, коллектив, школа. Я вдруг задала себе вопрос: «Как я могла работать с детьми столько лет? Ведь я их терпеть не могу!» Дрожащей рукой написала заявление об уходе. К тому моменту все уже были в курсе моих глобальных проблем, и никому даже в голову не пришло возражать. Заявление было подписано в тот же день: людей с проблемами у нас не любят.
Подсознательно я всегда тяготилась своей работой, но запрещала себе даже думать о переменах. Ведь могла же уйти работать туда, где нравится, но боялась лишних хлопот и переживаний.
Есть такая притча о человеке, который всю жизнь провел в маленькой комнатушке, боясь открыть дверь, ведущую в другую комнату. А ведь в той, другой комнате было все, что нужно, чтобы достичь счастья и мудрости. Но он, увы, не воспользовался своим шансом.
Я тоже боялась открыть дверь и впустить в свою жизнь радость и новые ощущения. Только теперь, после ухода с нелюбимой работы, мне стало легко и комфортно, словно с моих плеч свалилась огромная глыба, много лет не дававшая свободно вздохнуть.
— Я ушла с работы! — без предисловий заявила я Сергею.
— И что ты теперь будешь делать? — спросил он, безразлично глядя на меня.
— Буду жить! — не растерявшись, ответила я.
Конечно же, я догадывалась, что Сергей этому заявлению не обрадуется. Не очень-то ему хотелось брать на себя мои проблемы. Зачем? Ведь у него же все так гладко и так здорово! Прикрывается мнимой женой, рассказывая всем и вся, как ему безмерно повезло, что он женился на молодой и красивой. И не прилагает никаких усилий, чтобы сделать эту женщину счастливой. Зачем напрягаться? Ведь он счастлив! Разве этого недостаточно? И вдруг приходят перемены, нарушающие его мирный уклад. Жена, оказывается, больная, да еще и безработная! Это уж слишком! А вдруг еще и лечение придется оплачивать?
Философию Сергея я прекрасно понимала. Но меня это нисколько не пугало. В том, что ни помощи, ни поддержки от него не дождешься, я и не сомневалась. Он не любит меня. Я не люблю его. Здоровая и красивая, я была ему нужна в качестве расписной ширмы. А когда ширма износилась, какой смысл ею прикрываться? Можно заменить на новую.
В наших отношениях всегда были трения и разногласия, начиная с самого первого дня совместной жизни. Но после того, как мне поставили диагноз, все стало еще хуже. Мы кричали, выискивая друг у друга мозоль побольнее и давя на нее изо всех сил. Меня раздражало все вокруг, но самым сильным раздражителем был Сергей. Я не могла выносить его взглядов, жестов, слов, недоуменно спрашивая себя, как я вообще жила с ним целых три года?
А через какое-то время у меня начались сильные боли. Падая на диван и корчась в страшных судорогах, я кричала растерявшемуся Сергею:
— Где мои таблетки? Да принеси же ты, болван!
Я тупела от безумных болей, и единственным моим желанием было уснуть, наглотавшись обезболивающего, и проспать как можно дольше. Но сон всегда заканчивался, и я возвращалась в кошмарную реальность. Сергей меня никак не поддерживал, ничем не ободрял. Лишь иногда, равнодушно глядя, как я кричу от очередного приступа, коротко и несмело бросал:
— Может, в больницу?
— Да пошел ты вместе с больницей! — скрипя зубами, отвечала я.
Именно в таком состоянии, глотая таблетку за таблеткой, я писала дипломную работу. Обложившись книгами и с головой уходя в тему, я на некоторое время забывала о своих болях и о том, что со мной происходит.
Чтобы не сойти с ума окончательно, я посещала психолога. Вообще-то, я уже обращалась за психологической помощью до болезни — из-за проблем в отношениях с Сергеем. Специалист, которого я тогда нашла, молодая женщина моих лет, расположила меня к себе с самой первой встречи. Лена — так ее звали — была гармоничным и притягательным человеком, с большими серыми глазами и доброй улыбкой. Наши занятия проходили плодотворно и интересно: мне нравились ее методы работы, ей — мое огромное желание изменить себя.
Лена учила меня быть смелой, независимой, уверенной в себе женщиной. Я ей полностью доверяла и постепенно становилась именно такой: смелой, независимой, уверенной. Эти перемены замечали знакомые и сокурсники. Лене удалось донести до моего сознания, что я достойна уважения. На каждой консультации она вновь и вновь говорила, доказывала, убеждала, что я могу быть интересной, обаятельной, сексуальной и женственной. Я расправила плечи, приподняла подбородок и начала смотреть на мир и окружающих людей без страха и с удовольствием.
Незаметно для нас обеих наши отношения переросли в нечто большее, чем просто «психолог — клиент». Иногда мы встречались за чашкой кофе в буфете в том же здании, где был ее кабинет, и весело болтали о жизни. Часто я спрашивала совета по тому или иному поводу и получала логичные и мудрые ответы. Впервые в моей жизни появился человек, который открыл передо мной другой мир, другие правила, другую жизнь — мир людей, идущих каждый своим путем и не мешающих друг другу на этих путях.
Но после того как мне поставили диагноз рак, наша связь внезапно прервалась. По непонятным и необъяснимым причинам. Я испытывала неловкость, как будто в чем-то провинилась или сделала что-то не так. Я молчала, не зная, как себя теперь вести, что говорить, как быть. Вероятно, в глубине души я надеялась на ее поддержку, но Лена тоже молчала. Общение прекратилось, так же, как и консультации. Тем не менее в поддержке я нуждалась, и вскоре возобновила работу с психологом, но теперь это был уже другой специалист.
С Сергеем отношения благополучно катились под гору. Обстановка в доме накалялась с каждым днем. Порядочный и привыкший делать «все правильно и по совести», он не решался выгнать меня из квартиры. Да у него бы никогда и не хватило ни смелости, ни характера для такого отчаянного поступка. Но мое присутствие мешало ему жить и дышать. Ему приходилось просыпаться ночами, когда я кричала от болей, искать таблетки, успокаивать. Он устал жить с «безнадежным больным» и начинал меня тихо ненавидеть. Даже любящие супруги далеко не все выдерживают такое тяжелое испытание, что уж говорить о нас! У нас, увы, не было ни любви, ни понимания, ни уважения друг к другу. Я это осознавала. Но принять ситуацию сердцем и душой было тяжело.
В один из вечеров накопившиеся сполна отвращение и неприязнь вылились наружу, и мы серьезно поругались.
— Я тебе никогда не была нужна! Ты меня использовал! — в бешенстве кричала я.
— А я тебе нужен?! — в таком же бешенстве орал Сергей. — Ты меня никогда не любила! Тебе нужны богатые и холеные, с маникюром и педикюром первой свежести.
— Ничтожество! Я тебя ненавижу! Я не виновата, что ты не мужик!
— Да ты ничего не способна понять! Ты только орать умеешь!
Больше не было сил спорить. Взяв стул, я запустила им в Сергея. К моему разочарованию, Сергей увернулся, и стул пролетел мимо, врезавшись в диван. В бешенстве я схватила телефон и изо всех сил швырнула его об пол. Телефон разлетелся вдребезги, взвыв жалобным стоном.
— Все, больше не могу, — устало сказала я.
Меня раскачивало из стороны в сторону. Казалось, что мир, подобно телефону, с оглушительным звоном разлетается мелкими осколками, и они тают в бездне без остатка — жизнь тает на глазах, как мороженое на солнце. Не помня себя, лихорадочно хватаясь за стены, я выбралась из квартиры. Спустилась по ступенькам на улицу. Было темно и тихо. Лишь где-то вдалеке разносился смех подвыпивших молодых людей. Я стояла на крылечке, не зная, что делать дальше. Меня трясло, как в лихорадке, голова кружилась, и, чтобы не упасть, я снова ухватилась за холодную стену. Время шло. Я стояла не шевелясь. Изредка в подъезд входили люди, не обращая на меня никакого внимания. Сознание постепенно прояснялось, и я с ужасом начинала понимать, что идти мне некуда и не к кому. Вмиг перед глазами пролетела вся моя совместная жизнь с Сергеем, и к горлу подкатила тошнота. Было противно и гадко. Я замерзла и хотела пить. Но обратного пути не было. Гордость не позволяла вернуться обратно. Сергея я сейчас ненавидела. И жалела лишь о том, что не попала в него стулом. Где-то в глубине души я надеялась, что он бросится за мной, догонит, попросит не уходить. Или пусть не попросит, не в силах выдавить из себя два жалких слова, но даст прочитать мне это во взгляде. Мне нужен был хоть кто-нибудь в этом мире. Хотя бы даже это жалкое существо. Но не было и его. Входная дверь застыла в неподвижности, не оставляя мне шанса.
Я медленно шла темной улицей. Есть черта, за которой все становится тусклым и безразличным, включая саму жизнь. И мне теперь было все равно, что со мной будет дальше. Я чувствовала только усталость и пустоту. На улице не горел ни один фонарь — их давно уничтожили местные малолетние отморозки. Порой меня обгоняли прохожие, нечаянно где-то засидевшиеся допоздна и спешащие в свои уютные квартирки. Иногда встречались веселые компании, ведущие ночной образ жизни. Но мне совсем не было страшно. Я пыталась напрячь мозги, заставляя себя придумать решение проблемы — куда мне сейчас идти. Но мысли улетучивались, испарялись, покидали меня. Только теперь я в полной мере поняла, что у меня в этом городе нет никого, совсем никого, к кому можно прийти среди ночи и постучать в дверь. До меня дошло, что все три года, проведенные с Сергеем, я не жила, а существовала как вещь, как ходячая тряпичная кукла. Существовала, не задумываясь о жизни, равнодушно плывя по течению, — как сама и решила в ту самую первую ночь, когда приехала к нему. Механически исполняла роли, которые требовала от меня общественная мораль, думала только о том, где заработать денег и как дожить до зарплаты. И вот теперь вся ужасающая картина моей никчемной жизни предстала перед моими глазами.
Не раздумывая, я села в первый попавшийся автобус и сразу почувствовала себя лучше и увереннее. Вечер был прохладным, и мои руки онемели от холода, но поняла я это только в автобусе. Я решила, что поеду к Людмиле: это был единственный возможный вариант. Я не очень хотела посвящать ее в свои проблемы, но выбирать не приходилось.
Выйдя из автобуса, я медленно брела к ее дому. Меня обгоняли веселые компании. Вдруг откуда-то из темноты меня окликнул мужской голос:
— Девушка, вам не страшно? По городу маньяк разгуливает, а вы одна, в такое позднее время!
Я остановилась, равнодушно огляделась, пытаясь понять, откуда доносится голос, и увидела горящие фары и еле различимую в их свете человеческую фигуру внушительных размеров. Фигура приближалась, и мне даже стало интересно, что же будет дальше! Страха я не испытывала — любопытство и смертельная усталость сейчас пересиливали. Подошедший совсем близко мужчина внимательно посмотрел на меня и спросил:
— Вам плохо?
Я молчала, равнодушно уставившись вдаль.
— Вам нельзя здесь оставаться!
Осторожно, но уверенно он подтолкнул меня в сторону фар. Я не сопротивлялась. Пройдя несколько шагов, я оступилась, и незнакомец легко, словно пушинку, подхватил меня на руки и понес к машине.
44
Автомобиль катил по пустынной ночной трассе, и мне казалось, что мы вот-вот взлетим в небо. Мне было хорошо в шикарном удобном кресле, отороченном дорогим мехом. Теплый воздух понемногу согревал мое окаменевшее от холода тело. Мы ехали, не проронив ни слова. Два человека, встретившихся в темном переулке. Слова потеряли смысл.
Мужчина припарковал машину возле красивого многоэтажного здания. Я подняла глаза и увидела светящуюся надпись: гостиница «Солнечная». Он вышел, открыл мою дверцу, помогая мне выбраться из машины, и повел к зданию. Я опиралась на руку случайного попутчика на своем никчемном жизненном пути, неуверенно преодолевая ступеньку за ступенькой. В холле гостиницы незнакомец усадил меня в уютное мягкое кресло и удалился.
Такого великолепия я еще никогда не видела. Меня окружали шикарные мягкие диваны и кресла с высокими спинками, зеркальные столики с аккуратными стопками красочных глянцевых журналов. Ярко переливались искрами света декоративные фонтанчики. Распахнул свои сумрачные дали аквариум во всю стену с дивными, почти сказочными рыбками. Посередине зеркального потолка сияла огромная многоярусная люстра, отражаясь в безупречно гладкой поверхности пола.
На миг я почувствовала себя попавшей в волшебное царство, где я не разочаровавшаяся в жизни женщина, а гордая королева на изысканном балу. Машинально я прикоснулась к аккуратному, словно игрушечному столику, будто проверяя, настоящий ли он. И убедившись в его подлинности, откинула голову на спинку мягкого кресла и прикрыла глаза, убаюканная ощущением сказки.
Из этого оцепенения меня вывело прикосновение чьей-то руки к моему плечу. С трудом оторвавшись от своих грез, я открыла глаза. Незнакомец так же легко, как и в первый раз, подхватил меня на руки и быстрыми шагами направился вверх по лестнице. Пройдя по коридору второго этажа, он остановился у одной из многочисленных дверей и, легонько поставив меня на ноги, открыл ее ключом. Передо мной предстала все та же сказочная картина: мягкие ковры, огромный диван, зеркала. Больше я ничего не успела рассмотреть. В глазах потемнело, голова закружилась, и я безжизненным мешком рухнула в сильные, мускулистые руки незнакомца.
45
Что такое сон? Тайны подсознания, маленькая смерть или просто биологическая необходимость? Как странно! Человек живет, размышляет, мыслит, творит, покоряет на первый взгляд недоступные вершины нелегкой жизни. И вдруг наступает момент, когда все проблемы, заботы, стремления растворяются в таинственной дымке, прекрасной, теплой, родной или, наоборот, холодной и жуткой. Забывается все, и человек уходит в другой мир. Откуда все это? Какая неведомая сила уводит нас туда?
Эта ночь в незнакомой гостинице стала сущим кошмаром. Я металась в бреду, будто одержимая дьяволом. Хваталась изо всех сил за подушки, боясь провалиться в бездонную пропасть. Размахивала руками и безжизненно роняла их на широкую кровать, задыхаясь, шептала сухими губами какие-то молитвы. Передо мной мелькали чудные картины: оглушительно хохочущие тетки без возраста, бесформенные твари, раздирающие меня на части. Жуткие уродцы наступали на меня, отрывали мои руки, ноги, голову, безжалостно раскидывая фрагменты моего тела по земле, безумно хохоча. Вновь и вновь, в тысячный, миллионный раз я пыталась собрать себя в единое целое, но мои попытки были безуспешны.
Открыв глаза, я машинально ощупала свое тело. Все на месте! Какое счастье — это был всего лишь сон!
За окном было темно. Значит ли это, что уже ночь? Или еще ночь? Я не знала. Из полумрака выплыли мягкий диван, кресла, аккуратный столик, шикарные ковры и горящие свечи, бросающие таинственные блики на это сказочное великолепие. Я, все в той же своей одежде, лежала на белых простынях, укрытая теплым одеялом в накрахмаленном до скрипа пододеяльнике. В памяти всплыли обрывки вчерашних событий: ссора с Сергеем, побег из дома, блуждание в ночном городе, странный, невесть откуда взявшийся незнакомец.
Сейчас он сидел в кресле в темном углу комнаты. Глаза его были прикрыты. Он дремал. Затем пошевелился, медленно встал, потянулся и направился в мою сторону. Я сжалась, не зная, чего ожидать. Мою ночную отчаянность вытеснил естественный страх. Мужчина приблизился, опустился на мягкий пуфик возле кровати и начал разглядывать меня с таким видом, с каким разглядывают диковинную безделушку.
— Вы кто? — не выдержав его взгляда, спросила я.
— Мужчина, — коротко ответил незнакомец.
Я лихорадочно пыталась вспомнить, как сюда попала? Почему? Зачем? Память обрывалась на моменте, когда я села к нему в машину. Я с откровенным изумлением смотрела на него. «Действительно, мужчина!» — подумала я. «В самом деле, Пятачок…» — пришли на помощь друзья детства из забытого вечность назад мультфильма. И я наконец-то расслабилась.
Он был высокого роста и плотного телосложения, лет тридцати восьми — сорока. Хотя я часто ошибалась с возрастом, и ему вполне могло быть и пятьдесят. Главное, что привлекало в нем, — лицо. Оно сразу меня чем-то зацепило, и я не могла оторвать от него взгляда. У него были потрясающие карие бездонные глаза, смотревшие с чутким вниманием и жизненной мудростью, пухлые чувственные губы, нос с небольшой горбинкой, которая не только не портила его внешности, но, наоборот, добавляла привлекательности.
— Вадим. К вашим услугам, — отрапортовал он.
— Простите! Наверное, это глупо и легкомысленно, но я ничего не помню. Была ночь, я села к вам в машину, а дальше полный провал! Почему опять ночь?
— Очень просто, — улыбнулся Вадим, — вы спали ровно сутки!
— Сутки?! — почти выкрикнула я.
— Угу.
— И что? Я все это время спала и… и… все? — я почувствовала, как мое лицо покрывается красными пятнами.
— Не волнуйтесь! — успокоил он. — Если бы я и хотел чего-то, это было бы невозможно. Вы вчера походили на мертвеца из фильма ужасов, а я с мертвыми не имею отношений! — ехидно добавил он.
— Кошмар! — простонала я, готовая провалиться сквозь землю.
— Скорее всего, маленькая трагедия, — улыбнулся Вадим, показывая белые ровные зубы. — Но мы еще об этом поговорим. А пока я даю вам ровно двадцать минут на утренний, то есть вечерний, — поправился он, — туалет. Будем завтракать, обедать и ужинать одновременно. Надо же наверстать упущенное! — Он улыбнулся и вышел из номера, закрыв за собой дверь.
Ошарашенная, я сидела на мягкой шикарной кровати, поджав под себя ноги, и тупо смотрела в одну точку. Иногда наступает такой период в жизни, когда с выкриком «гори оно все!» бросаешься в пропасть, и на смену отчаянию появляется любопытство: а что же будет дальше? И чем ближе ко дну, тем сильней интерес и нездоровая любознательность. Что же там дальше-то, в неведомой пучине? И так хочется ухватить частичку тайны. Только удается это, увы, не всем: разве мало вокруг сгоревших судеб?
Я подошла к зеркалу. На меня смотрела совсем незнакомая женщина. Лицо заметно осунулось, всегда ясные и выразительные глаза поблекли. Но скромное черное маленькое платьице смотрелось на моей хрупкой фигурке неплохо. Я достала из своей сумочки косметичку (привычка всегда носить ее с собой не единожды меня выручала, вот и сейчас я мысленно поблагодарила себя за предусмотрительность) и впервые за долгие месяцы с особым удовольствием принялась приводить себя в порядок.
Я уже наносила последние штрихи макияжа, когда дверь комнаты приоткрылась — на пороге появился Вадим. Он внимательно, с нескрываемым любопытством посмотрел на меня и, прищурив карие глаза, произнес:
— Ты красавица!
Давно отвыкнув от мужских комплиментов, я на мгновение смутилась и даже не сразу осознала его внезапный переход на ты, но взяла себя в руки, искренне улыбнулась и ответила:
— Спасибо!
Вадим подал мне руку, и мы не спеша, словно смакуя каждую секунду какого-то особого действа, вышли из номера.
— Куда мы идем? — спросила я.
— В ресторан, — ответил он.
Вадим выбрал столик в конце зала, рядом с небольшим фонтанчиком. Тихо играла музыка Морриконе. Официанты бесшумно и грациозно разносили заказы. К нам подошел обаятельный молодой человек в красивой красно-белой форме и подал меню. Я открыла внушительную папку, и глаза разбежались, то и дело натыкаясь на странные, непривычные названия блюд: кантонская утка, белоснежная треска с дольками томатов в конверте, рыба дорадо с листьями базилика и имбирем, стейк из лосося с чесночным соусом, осетрина на шампуре…
— Что будем заказывать? — оторвав взгляд от меню, спросил Вадим.
— Апельсиновый сок, — ответила я и почему-то засмеялась.
— Да, не густо, — тоже засмеялся Вадим, — придется сделать заказ на свой вкус. Ты не против?
Такого изобилия на столе я еще никогда не видела. И за этим изобилием, сама того не замечая, поведала Вадиму о своей жизни. Я не понимала, зачем рассказываю сокровенные подробности абсолютно чужому для меня человеку. То ли на душе наболело и не было сил больше молчать, то ли этот мужчина был мне симпатичен и внушал доверие, а может, и то и другое… Мне казалось, что я была уже с ним когда-то знакома и много лет спустя встретилась вновь.
Он слушал внимательно, не перебивая и не задавая вопросов, медленно потягивая коктейль. Внезапно я остановилась буквально на полуслове.
— Что такое? — спросил он.
— Не знаю, — растерялась вдруг я. — Зачем я тебе все это рассказываю? Глупо!
— Очень даже мудро!
— Ты издеваешься?
— Вовсе нет, — серьезно ответил он. — Тебе надо выговориться, а я благодарный слушатель. А знаешь, — немного помолчав, заговорил он, — я ведь тоже сбежал из дома.
— Как это сбежал?
— Поругался с женой и сбежал от нее. Мне было невыносимо находиться с ней рядом. Я вышел на улицу, как раз направился к машине, чтобы проехаться по ночному городу, и увидел тебя.
— А ты всегда подбираешь заблудившихся женщин? — съязвила я.
— Только через одну, — отшутился он.
— Надо же, как бывает: два человека, поссорившись с благоверными, выбегают на улицу и в свете луны сталкиваются друг с другом.
— Да тебе романы писать надо! — засмеялся Вадим и подал мне вазочку с фруктами.
46
Бывают ли необычные, волшебные эпизоды в жизни самых обычных людей? Если да, то мне посчастливилось их прожить, почувствовать, окунуться в мир сказки с головой. Три самых счастливых, самых незабываемых дня! Воистину подарок судьбы! Я даже и не догадывалась о том, что есть на свете слова, от которых захватывает дух и распахивается душа. Каждое прикосновение сильных и ласковых рук Вадима уносило меня в заоблачные дали. Я летела маленькой хрупкой птичкой по необъятной, щедрой Вселенной, ощущая себя мизерной частицей Великой и Всемогущей Силы. Я отдавалась мужчине, которого едва знала, как в последний раз, сгорая дотла и вновь возрождаясь из пепла. Все было призрачным и иллюзорным: мужчина, за несколько часов ставший для меня близким, гостиничный номер с мягкими диванами и роскошными коврами, напоминавшими мне ковер-самолет из сказки, ресторан с причудливыми блюдами, которые приводили меня в полное замешательство. Но именно этот сказочный, неизвестный доселе мир возвращал меня к жизни, давая возможность почувствовать себя единственной, желанной и неповторимой. Даже боли, безжалостно трепавшие меня и разрывавшие на части, казалось, временно притихли, притупились. Иногда случались чудеса, и я, забыв принять таблетки, чувствовала себя прекрасно. И только спустя некоторое время боль, как будто издалека, слабыми позывами напоминала о себе, с каждой минутой усиливаясь и заставляя вспомнить о диагнозе.
Пробуждаясь от поцелуев мужчины, подобно Спящей Красавице, я мгновенно попадала в Волшебное Королевство, садилась за стол и видела перед собой скатерть-самобранку. Я вновь училась радоваться жизни и жить в радость.
Увы, сказкам свойственно заканчиваться. В жизни тоже рано или поздно кончается один период, чтобы положить начало другому. Три дня с Вадимом пролетели, словно три часа, на бешеной, сумасшедшей скорости. Ни Вадим, ни я с того вечера в ресторане больше ни говорили о своих проблемах: мы наслаждались друг другом. Но каждый из нас понимал, что проблемы не исчезли, мы просто отодвинули их в будущее. Проблемы остались. Они есть. Они ждут решения. Никто не хотел говорить о расставании: тревожить мир сказки проблемами — неслыханное кощунство!
47
Я проснулась рано. Еще ощущалась живительная прохлада уходящей ночи. Я отдернула шторы, чтобы впустить в комнату неокрепшие солнечные лучики. Вадим спал тем крепким беспробудным сном, который обычно бывает под утро. Я наклонилась к нему, чтобы ощутить на себе его теплое равномерное дыхание, чтобы вдохнуть запах его тела и запомнить каждую черточку его милого, необыкновенно красивого лица. За эти три дня Вадим сумел разбудить во мне женщину, заставив поверить в то, что я нежная, умная, красивая, сексуальная, а это значит, что я смогу добиться в жизни всего, чего только пожелаю.
Коснувшись его лица легкими поцелуями, я осторожно, чтобы не потревожить его сон, отошла к столу. Взяла лист бумаги и карандаш и непослушной рукой написала:
«Милый Вадим! Благодарю тебя за волшебную сказку, которую ты мне подарил. До конца дней своих я буду молиться Господу и воздавать Ему хвалу за это маленькое счастье, выпавшее на мою долю, словно выигрышный билет. Я буду помнить о тебе. Будь счастлив. Прощай».
Подхватив туфли и сумочку и бросив последний взгляд на Вадима, я вышла, закрыв за собой дверь.
Теперь я точно знала, что буду делать дальше.
48
Как всегда, в доме было тихо и спокойно. Мирно тикали часы в такт моему сердцу. Я обвела взглядом комнату: здесь я жила почти три года и уже успела полюбить этот уютный уголок, созданный моими же руками. Милые, для кого-то, возможно, не представляющие никакой ценности безделушки: маленькие аккуратные статуэтки, мягкие игрушки, фотография в рамочке, где я снята с Сергеем… — все это было для меня целым состоянием. Для всего окружения мы были с ним идеальной парой, эталоном счастливой семейной жизни. Я и сама, взглянув на снимок, на миг поверила, что эти два человека с сияющими глазами — самые счастливые супруги во всем мире. Но, увы, все это иллюзия, обман, красивая, но фальшивая картинка. Не было идеальной семьи, не было идеальных супружеских отношений. А были три года холода и пустоты.
Я бережно и с любовью упаковывала дорогие сердцу вещи. Нужно взять только самое необходимое, остальное не понадобится. «А может, и вообще ничего не понадобится!» — с горечью подумала я. В последнее время я все чаще задавала себе вопрос: что дальше? Но страх мешал смотреть правде в глаза. Я стремительно убегала от себя, от дурных мыслей, от жизненно важных вопросов, как убегают от проливного дождя.
— Где ты была? — раздался голос Сергея.
Он вошел очень тихо и некоторое время, вероятно, наблюдал за мной.
— Это уже абсолютно неважно, — глухо ответила я. — Я ухожу от тебя!
Сергей молчал, изо всех сил пытаясь изобразить на своем лице удивление. Но ему это плохо удавалось. Я точно знала, что в глубине души он безмерно радуется моему уходу. Я ему не нужна! С самого начала нашей совместной жизни я была для него роскошной ширмой, за которой он успешно прятал свои изъяны. А теперь ширма износилась, истрепалась и стала больше не нужна. Мне не было больно. Мне было все равно. Я безумно устала. Единственное, чего я хотела, поскорее добраться до квартиры, которую успела снять по дороге домой у очаровательной бабушки-одуванчика, и отдохнуть.
— Пока, — сказала я и, не дождавшись ответа, вышла из квартиры.
Возможно, я еще надеялась, что Сергей остановит меня, оградит от этого безумного поступка. Но он не остановил, не оградил. Он старательно запер за мной дверь на все замки.
«Еще целых три месяца! — с ужасом думала я. — Только бы дожить, только бы успеть получить диплом, а дальше… Да какая уже разница, что будет дальше!» Уж очень хотелось мне подержать в руках эти маленькие «корочки», к которым я шла целых пять долгих и одновременно коротких лет!
49
Три месяца, которых я так боялась, пролетели быстро и плодотворно. Я с воодушевлением погрузилась в написание дипломной работы. Теперь моим домом были библиотеки, моей отдушиной — кипы книг. Научная работа увлекала меня, позволяя забыть о реальности. Как собака-ищейка, я выискивала самые эксклюзивные материалы, чтобы успешно применить их в своей работе. Меня переполняли неизвестно откуда берущиеся новаторские идеи, и я едва справлялась с потоками все новой и новой информации, валившейся на мою голову.
И только ночи напоминали мне о том, что со мной происходит. Дикие, невыносимые боли не давали уснуть. Я грызла зубами подушку и руки, чтобы не закричать, боясь, что за ночные беспокойства хозяйка выгонит меня из квартиры. Сильные обезболивающие помогали через раз. Как одержимая, я глотала таблетку за таблеткой в надежде, что хоть на несколько часов сон избавит меня от страданий. Но чем больше препаратов я принимала, тем слабее становился их эффект.
Я похудела еще на несколько килограммов и выглядела неважно. Страха больше не было. Я перешла ту грань беспокойства и переживаний — и теперь жила как в тумане, равнодушно наблюдая за своей жизнью со стороны.
Дипломную работу я защитила с блеском, поразив комиссию редкими материалами и безупречным знанием своей темы. И настал долгожданный день, к которому я шла упорно и целенаправленно. Мне вручили диплом — новенький, аккуратный, красный, еще пахнущий типографской краской. Получив документ, я закрыла глаза, прижавшись щекой к «корочкам» своего долгожданного счастья. «Ну, теперь хоть потоп! — подумала я. — Спасибо Тебе, Господи, что позволил мне дожить до этого торжественного момента!»
Вечером я позвонила Сергею.
— Я получила диплом. Красный! — без предисловий заявила я.
— Поздравляю! Я за тебя очень рад! Как ты живешь?
— Не беспокойся, я завтра уезжаю, — устало ответила я.
— Куда?
В его голосе послышалось волнение. Или только послышалось?
— Пока — к маме, дальше — посмотрим, — тем же усталым голосом ответила я.
— Желаю тебе удачи!
— Пожелай ее себе, несчастный пуп земли! — выпалила я. — И я с тобой еще не прощаюсь, завтра приду за вещами.
На следующее утро я встала рано. Наскоро оделась и вышла на улицу. Город еще только просыпался, вяло начиная свою деятельность. До дома теперь уже бывшего мужа было несколько остановок. На мгновение задумавшись, я все же решила пройтись пешком. «Пусть волнуется, мечется из угла в угол, — думала я. — Могу себе представить, как он боится, что я передумаю и никуда не поеду!»
Я пересекла площадь, с наслаждением вдыхая прохладу приветливого утра, и свернула на улицу, по которой изо дня в день ходила несколько лет и где знала каждый кустик, каждую расщелину в тротуаре, каждое здание. И если бы мне пришлось идти с закрытыми глазами, я бы нисколько не растерялась и без труда нашла дом, в который направлялась.
Стоял конец июня, со своей утомляющей послеполуденной жарой. И утро — нежное, невинное, еще не тронутое солнцем — радовало меня возможностью насладиться и надышаться вдоволь свежестью и прохладой. Я сделала медленный, глубокий вдох, чтобы унять внезапно накатившее волнение. Сердце билось, готовое выскочить наружу, а шаги становились все быстрее и быстрее. На мгновение я остановилась, чтобы успокоиться. Красные легкие брючки теперь свободно сидели на моем исхудавшем теле, обтягивающая кофточка невыгодно подчеркивала худые, костлявые руки. Привычным движением я поправила волосы, заметно поредевшие и потускневшие. Облизнула пересохшие губы. От быстрой ходьбы и накатившего волнения хотелось пить. Я осмотрелась вокруг и с удивлением обнаружила, что стою у дома Сергея. Медленно, считая шаги, я направилась к подъезду. Поднялась по лестнице на четвертый этаж и позвонила в дверь.
— Ну, где ты ходишь, — суетился он, — скоро уже такси приедет.
— Пить хочу, — сказал я, не обращая внимания на его кудахтанье.
— Сейчас, сейчас, — еще больше суетился он, — может, чаю хочешь?
— Ага. — Я без сил рухнула на диван.
В комнате было грязно. Вероятно, квартира не видела уборки с того дня, как я ее покинула. Наскоро я собрала свои вещи. Они поместились в две средние сумки. Две сумки — и три года жизни. Несмотря на грязь и многослойную пыль, в доме еще ощущалось мое присутствие. Шторы нежно-персикового цвета и кружевной тюль, преданные мне, все так же висели, охраняя дом от чужого глаза. Красочный календарь во всю стену с изображением трех пуделей — белого, черного и абрикосового — наполовину отклеился и угрюмо смотрел на хозяев. Мягкий плюшевый мишка и фигурка Хотэя одиноко пылились в углу.
Я медленно потягивала горячий ароматный чай, заботливо поданный Сергеем. Разглядывая его, я искренне не понимала, как столько времени могла находиться с ним рядом, под одной крышей. Я недооценила его способностей. Он всегда мне казался мягким, бесхарактерным, избегающим ответственности. Но когда мы расстались, он всем говорил, что причиной развода было мое нежелание родить ребенка! Я была шокирована: мужчина, с которым у нас не было интимных отношений, заявляет о том, что я ему отказала в продолжении рода!
Как он мог? — задавала я себе вопрос. Это же подло! Подло врать, подло прятаться за моей спиной.
По поводу нашего расставания с Сергеем среди знакомых ползли гадкие, отвратительные слухи. Казалось, что я купаюсь в бочке с навозом. «Добрые» люди охотно рассказывали мне, что Сергей увлекается мужчинами. Неожиданно я узнала, что как раз до меня у него была другая женщина, которой он уже сделал предложение, но она внезапно отказалась от отношений с ним. И тут сработал запасной вариант, то есть я. Признавать, что мной так цинично воспользовались, было больно и тяжело. Но отвратительнее всего оказалось то, что Сергей позволял себе некорректно высказываться в мой адрес.
Впрочем, тогда мне было не до разборок с ним, поскольку на мою голову свалились проблемы в тысячу раз серьезнее и важнее.
Я часто спрашивала Сергея, как он может жить со мной на одной территории, на одном диване и при этом никак на меня не реагировать? Он всегда отвечал, что я все придумываю, что у меня сложный и взбалмошный характер и больше ни один мужчина в мире (кроме него, разумеется!) не выдержит жизни со мной. Все стрелки переводились на меня. На удивление, этот его мастерский психологический прием успешно срабатывал, и я действительно ощущала себя виноватой во всем!
Но, как чувствительной и эмоциональной натуре, мне не хватало острых ощущений, непредвиденных ситуаций, приятных неожиданных сюрпризов. После операции у меня периодически все же появлялись мужчины, с которыми я пыталась испытать новые, еще неизведанные чувства. Но очередной любовник оказывался самым обыкновенным, таким же, как и все остальные. Мужчины, словно сговорившись, были нежными и приторно-ласковыми, а мне хотелось решительных, смелых, даже агрессивных. После таких встреч я чувствовала себя еще более опустошенной и одинокой. Бесконечные свидания с любовниками растлевали мои душу и тело, но я не могла остановиться и, как остервенелая, гонялась за некой мистической личностью.
Знал ли Сергей о моих похождениях? Конечно! Но ни разу ни словом, ни жестом не упрекнул, что еще больше выводило из себя. Если бы он дал мне пощечину, наорал, оскорбил, мне было бы легче. Но он молчал, делая вид, что ничего не происходит. Его все устраивало. А то, что происходило со мной, его мало волновало, вернее, не волновало вообще.
От воспоминаний меня отвлек телефонный звонок.
— Алле! — громко и, как всегда, четко ответил Сергей. — Да. Хорошо. Ждем. Такси едет, — ласково проговорил он, положив трубку и оборачиваясь ко мне.
Я встала и решительно направилась к столу, под которым стояли мои сумки — итог моей семейной жизни. «Вот и все, что останется мне на память!» — подумала я.
— Не трогай! — слегка оттолкнув меня, сказал Сергей. — Они тяжелые! Береги себя, пожалуйста, — нежно добавил он, заглянув мне в глаза. Взвалил сумки на плечи и понес вниз.
Я внимательно наблюдала за ним. Мне двадцать девять, ему уже сорок два. Он все такой же энергичный и шебутной, каким я встретила его почти три года назад. Он не красавец, но чертовски обаятелен. Волос на голове уже давно нет, но именно его лысину я любила целовать в наши редкие с ним минуты счастья. Мне казалось, что его голова пахнет как-то по-особенному. Этот запах сводил меня с ума. Синие проницательные глаза смотрят на мир открыто, добродушно и чуть-чуть насмешливо, лучистые морщинки вокруг лишь украшают их, подчеркивают ясный взгляд. Он нисколько не изменился — ни внешне, ни внутренне, но именно эти его качества — стабильность и постоянство — я больше всего не любила. С точностью до миллиметра можно было предсказать все его действия и поступки, реакции на определенные события, слова, эмоции. И оттого жизнь с этим мужчиной была пресной и скучной.
— Сядем на дорогу, — сказал Сергей.
— Сядем, — машинально ответила я.
Мы ехали по городу, который я так и не смогла полюбить. Я смотрела в окно на жилые дома, магазины, тротуары, деревья, мимо которых проезжала много раз, но никаких сожалений оттого, что я вижу все это в последний раз, не испытывала. Наоборот, я уже чувствовала дуновение свежего ветра в своей жизни, охотно отдаваясь его потоку. Сергей сидел впереди, и я со стороны могла наблюдать, как дергались его скулы, как напряглось лицо, как он внимательно и пристально смотрел куда-то вдаль.
Он молчал. Я многое бы отдала, чтобы узнать, о чем он думает, что чувствует именно сейчас. Но это было невозможно. Я никогда не понимала его, хоть и могла без труда предсказать все его действия, слова и жесты. Но это была всего лишь внешняя сторона, его маска. Внутренний мир Сергея для меня был закрыт, недоступен, скрыт мраком. «А что, если я сейчас скажу ему, что никуда не поеду, что всего лишь пошутила, что это милый розыгрыш? Что с ним произойдет? Он упадет в обморок? С ним случится инфаркт? Он будет неистово кричать и биться о дверь такси головой?» Я пыталась представить развитие событий, но варианты казались один неправдоподобнее другого. Нет, я все же никогда его не понимала! Отчего же сейчас я ищу пути остаться, оттянуть миг прощания, остановить время? Я совсем запуталась в своих мыслях, чувствах, в своей жизни. Еще несколько часов назад я лихорадочно торопила время, чтобы быстрее покинуть ненавистный мне город, а сейчас я отдала бы все на свете, чтобы это время остановить.
Такси подъехало к вокзалу, я торопливо выбралась из салона и оказалась в круговороте шумной суетливой толпы. Я не любила вокзалов. На перроне у меня к горлу каждый раз подкатывал неприятный, давящий, грозящий задушить комок. Вот и сейчас этот отвратительный комок разрастался внутри с невыносимо бешеной скоростью, вот-вот готовый вырваться наружу грязными липкими брызгами. Я отвернулась. Слезы душили меня, не давая возможности глотнуть свежего воздуха. Он не должен видеть меня плачущей! Я отошла к лоткам, торгующим тысячью ненужных мелочей, украдкой вытирая слезы, лившиеся ручьем. Я не предполагала, что прощание будет таким тяжелым, и жалела о том, что позволила Сергею поехать меня провожать. Мне было бы гораздо легче проститься с ним в нашей совместной квартире и незаметно раствориться потом в потоке суетливых улиц. А теперь мне необходимо изображать из себя сильную женщину, достойно расстающуюся навсегда со своим бывшим супругом. Но я не смогла быть сильной и теперь пряталась за этими пестрыми, дешевыми витринами.
Собравшись с духом, я подошла к Сергею, который охранял, как преданный пес, мой багаж.
— Как здесь стало красиво! — отводя в сторону заплаканные глаза, сказала я. — Сколько всего понастроено!
— Ты просто очень давно здесь не была, — ответил он.
— Холодно сегодня, — не слушая его, продолжала я нести чепуху.
— Тебя просто морозит.
Он снял пиджак и укутал меня, крепко обняв. Мы говорили на отвлеченные темы, чтобы не молчать, но разговора не получалось. Я плакала, Сергей волновался, нервно теребя воротник своего старенького, поношенного пиджака.
Мы оба старались скрыть боль расставания. За три года отношений, пусть даже не очень удачных, мы привыкли друг к другу, построили свой уклад, хоть и странный, но ставший нашей жизнью. Сергей струсил, но, скорее всего, он сожалел о своей слабости. Так или иначе, мы были в одной лодке: и я, и он оставались теперь в одиночестве. С той лишь разницей, что я через несколько минут сяду в поезд, и он умчит меня в неведомую даль.
Я то и дело поправляла прядь волос, падавшую мне на полные слез глаза. Я из последних сил, сжимая зубы, сдерживала рыдания. На его лице играли желваки. «Я никуда не поеду!» — хотелось крикнуть мне. Но слова предательски застревали в горле. А что, если я все-таки скажу ему, что все сон, иллюзия, недоразумение? Мы были неправы! Надо все вернуть на круги своя, исправить наши ошибки! Но я молчала, безжизненно вытирая от слез лицо своей исхудалой рукой.
Вот уже поезд осветил наши фигуры яркими назойливыми фонарями, и мы, вздрогнув от неожиданности, прижались друг к другу, словно защищаясь от надвигающейся опасности. В нервном порыве накативших чувств, я обхватила лицо Сергея ладонями, внимательно посмотрела в его ясные глаза и поцеловала в губы. Он, повинуясь нежности, ответил на поцелуй, и мы слились, как две мелкие, но значимые частицы Вселенной. Другой мир открылся перед нами — безграничный, необъятный, манящий, неизведанный. Еще мгновение — и мы уже готовы были отдаться этому миру, подчиниться его негласным правилам, но настойчивый оглушительный гудок вернул нас в реальность.
Я выдернула себя из рук Сергея и стремительно направилась к вагону. Он наблюдал за каждым моим движением. Я это чувствовала. Я это знала. Вот я достаю билет из сумочки, предъявляю проводнику. Вот первая ступенька. Немного помедлив и не решаясь оглянуться, шагаю на вторую, третью и, наконец, исчезаю в вагоне, оставив на перроне еле уловимый аромат цветочных духов.
Поезд дернулся, заскрипев всеми своими вагонами. Сергей стоял, опустив плечи, пристально глядя, как грохочущий состав отдаляется от него. Некоторое время я еще могла его видеть, а потом в один миг перрон с шумящей пестрой толпой оторвался от меня. Поезд набрал скорость и понесся в заоблачную даль.
FUGATO
50
Я училась жить. С болью. В одиночестве. В ненавистном мне доме матери. Впрочем, теперь мне было все равно. Я плыла по течению, предоставив Высшим Силам решать мою участь. И Они решили.
Все происходило как в тумане. Откуда-то появился Дэн, приезжавший навестить сестру раз в пятилетку. Выяснилось, что его жена работает в Московской онкологической больнице. Потом Дэн исчез, взяв с меня слово, что я приеду на обследование. Слово дала, но никуда не поехала: перспектива общаться с Дэном меня не радовала. Я медленно угасала, с каждым днем теряя жизненные силы.
Однажды Святозар появился на пороге дома со своей подругой Ингой. Они дружили уже лет пять, но ни он, ни она, похоже, не спешили вступать в законные отношения. Инга мне не нравилась. Она жила в другом, непонятном мне мире. Холодная, корыстная и расчетливая, она не сильно беспокоилась из-за духовно-нравственных принципов. Это была полная, скорее, тучная молодая женщина, с грубым властным голосом. Большие голубые глаза смотрели на мир уверенно, вызывающе, даже нагло. Она не ела после шести, занималась аэробикой, но ее фигуре почему-то это не помогало: Инга безнадежно раздавалась вширь.
Меня она ни во что не ставила и даже не считала нужным со мной здороваться. Но я особо не расстраивалась: пусть ведет себя, как ей нравится. За глаза я называла ее Кралей, и от этого мне становилось весело. Инге это прозвище очень шло. Она ходила медленно и тяжело, переваливаясь из стороны в сторону, как пожилая тетка.
— Паспорт давай! — сказал мне Святозар.
— Зачем? — растерялась я.
— Дэн велел отправить тебя немедленно в Москву!
— Зачем? — снова спросила я.
— Поедешь в больницу!
— Я никуда не поеду! — отрезала я.
— Тебе хотят помочь, а ты выпендриваешься, — прошипела Краля.
— А я никого не просила мне помогать! — вспылила я.
— Тихо, тихо, — предупреждая бабьи разборки, засуетился Святозар и принялся меня уговаривать: — Ну чего тебе стоит? Съездишь, Москву посмотришь. Ты же никогда там не была! Ну, давай паспорт, — мягко проговорил он.
На следующий день меня запихнули в поезд, и, равнодушная, потерянная, уставшая, я отправилась в столицу.
Дэн встретил меня на вокзале.
— Какого черта ты меня вызвал? — без предисловий выдала я.
— Тебе лечиться надо, дура! — ответил он в том же духе.
— Сам дурак! — буркнула я.
Я уже жалела, что позволила Святозару себя уговорить. Москва не понравилась с самого первого взгляда. Дэн, которого я терпеть не могла, меня раздражал. Пока мы добирались до его дома, я задавала себе один и тот же вопрос: «Зачем я сюда приехала?»
На пороге появилась Аня, жена Дэна. Она была его младше на четырнадцать лет, невысокого роста, худенькая, с большими темными глазами. Не красавица, но кроткая и нежная, она обладала исключительным обаянием и привлекательностью.
Дэн и Аня ютились в одной из комнат темной коммуналки, рассчитанной на пять семей. Общая кухня, общие душ и туалет, общий коридор. Шум, гам, пьяная ругань — даже в своей комнате не было спасения от беспокойных и бесцеремонных соседей.
С Аней мы сразу подружились. Общение с ней стало для меня отдушиной. За несколько часов я успела рассказать ей о последних месяцах своей жизни.
— Не переживай, — успокаивала она, — завтра сходим к доктору, он тебя посмотрит… и все будет хорошо.
— Ты сама-то в это веришь? — спросила я.
Она ничего не ответила, но я и без слов поняла: не верит!
На следующее утро Аня встретила меня в больнице. Учреждение это меня поразило. Оно было похоже на маленький уютный город. Несколько многоэтажных корпусов, красивые аккуратные аллеи, скамейки, фонтаны. Не онкологическая больница, а сказка какая-то! Но внешность обманчива! За всей этой красотой и покоем скрывались человеческие страдания, боль, разбитые и разрушенные жизни множества людей. А еще самое страшное и загадочное явление — смерть.
Я вошла в кабинет. Доктором оказалась маленькая, хрупкая, но очень шустрая и проницательная женщина средних лет, Елена Николаевна.
— Садись, — сказала она и жестом указала на стул рядом. — Рот открой.
Она заглянула мне в рот и в ту же секунду отшатнулась, как черт от ладана.
— Что? — испугалась я.
— У тебя какое образование? — задала она встречный вопрос.
— Высшее, — ответила я, втянув голову в плечи. Я уже догадывалась, что меня ждет что-то очень страшное.
— А я думала, ты из тундры вчера вышла! — резко сказала Елена Николаевна. — Ты почему не лечилась? Ты знаешь, что разлагаешься на части? Ты хоть догадываешься, что у тебя перекрыто полгорла? — сыпала она вопросами.
Я молчала. Мне нечего было ей возразить. «Это конец!» — пронеслось в моем сознании. Сложив голову на стол, я равнодушно смотрела куда-то вдаль. Сил не было. Хотелось убежать, исчезнуть, спрятаться, только бы не слышать строгого голоса доктора.
— Пойдем! — сказала она, хватая меня за руку.
Мы вышли из кабинета в коридор, где ожидала Аня.
— Быстро ее на обследование, — распорядилась Елена Николаевна, кивнув в мою сторону.
— Меня не будут обследовать, — вырвалось вдруг у меня, — я же не москвичка!
Елена Николаевна лишь внимательно взглянула на меня и повторила Ане:
— Срочно на обследование! Вы меня слышите?
— Да! Мы все сделаем, — ответила перепуганная Аня.
Я была уверена, что в этой знаменитой московской клинике никто мной заниматься не будет. В лучшем случае обследуют и отправят домой, дав необходимые рекомендации. Но я ошиблась. На следующий день Аня позвонила с работы и сказала, что меня кладут на обследование и лечение:
— Собирай вещи и быстро в больницу! — И повесила трубку.
Я сидела на кровати не в силах сдвинуться с места. Я не хотела ложиться в больницу. Я не хотела лечиться. Я ничего не хотела. Резкая боль пронзила все мое лицо и стала постепенно спускаться ниже, на шею и плечи. Я вытащила две таблетки, положила в рот и хлебнула воды. Таблетки проскочили в горло, оставив во рту неприятную горечь. Этот ритуал — пить обезболивающие препараты — в последние месяцы стал автоматическим. Я не задумываясь глотала таблетки горстями в надежде заглушить безумные, дикие боли. В те редкие моменты, когда боль окончательно утихала, я чувствовала себя самой счастливой на свете. Но такое состояние, без боли и мучений, достигалось все реже и реже. Боль ненасытно пожирала все мое существо, лишая мыслей, разума, чувств и желаний.
Я вдруг представила, как мои близкие и знакомые узнают о моей смерти, придут на похороны. Равнодушно постоят возле гроба, повздыхают: молодая, мол, еще была! «Послушайте! Еще меня любите за то, что я умру!» — вдруг вспомнились строчки Марины Цветаевой. При жизни никто не любил, так, может, хоть мертвую полюбят? Но их любовь, наверное, будет уже не нужна. Я невольно подумала о Сергее. Будет ли он обо мне плакать? Закрыла глаза, представила его стоящим у гроба, как всегда, равнодушного и спокойного. «Нет, не будет!» — ответила я сама себе. Никто обо мне плакать не будет! Забросают землей, наедятся на поминках и каждый побежит по своим делам, решать свои насущные проблемы. Плакать и вздыхать будет только ветер!
51
Вскоре началась моя новая жизнь — в больнице. Соседкой по палате оказалась милая женщина Татьяна лет шестидесяти. Это была дородная, очень крупная дама с длинной густой копной рыжих волнистых волос. Мягкая по характеру и безмерно добродушная, она рыдала по любому поводу и без повода. В отличие от меня, только начинавшей свой путь к выздоровлению, Татьяна уже успела пройти несколько кругов ада. Ей сделали сложную операцию и еще предстояло пройти несколько курсов химиотерапии.
Нас наблюдала доктор Елена Михайловна — исключительная женщина лет тридцати пяти, обходительная, умная, внимательная, она для каждого больного находила время и силы.
Придя в палату с результатами моего обследования, она сказала, отводя глаза, что мой диагноз подтвердился: у меня рак. Скорее всего, она ожидала, что я буду рыдать и биться о стены. Но я никак не отреагировала и абсолютно спокойно подписала все документы, которые требовалось подписать. К тому моменту у меня не было ни сил, ни желания оплакивать свою судьбу.
Эмоции проявились, когда Елена Михайловна начала осмотр Татьяны, попросив ее снять рубашку. Передо мной предстала ужасающая, леденящая душу картина: на левой стороне у Татьяны была полная шикарная грудь, а на правой вместо груди зияло красное безобразное пятно, похожее на месиво. От такого зрелища у меня потемнело в глазах и к горлу подкатила тошнота. Еще несколько секунд я смотрела на единственную грудь Татьяны, а потом выбежала из палаты и пулей влетела в туалет. Меня тошнило.
Перед началом лечения меня посетил психотерапевт — красивая, обаятельная женщина средних лет. Она говорила ласково, убаюкивая и успокаивая мягким тембром своего голоса. А незначительный акцент придавал еще большее очарование ее речи.
Она села ко мне на кровать вплотную, касаясь плечом.
— Чего ты боишься? — спросила она.
— Волосы выпадут, и я буду страшной, как Баба-яга.
— Не переживай, волосы отрастут, и довольно быстро, — заверила она. — Ты, главное, выздоравливай, все остальное — придет!
Тогда я даже не догадывалась, что выпадение волос — самое безобидное из всего, что меня ожидало в будущем.
На следующий день мне была назначена химиотерапия. Что это такое, я представляла с трудом. Знала только, что от этого варварского лечения выпадают волосы, и сильно переживала по этому поводу. По больнице ходило много мужчин и женщин с лысыми головами. Они напоминали мне пришельцев с других планет, и от этого становилось не по себе. Страха смерти не было, он растворился в тумане равнодушия и смиренного спокойствия. Мысли были где-то далеко. Я вдруг вспомнила себя маленькой девочкой, которая мечтала стать стюардессой. Небо меня всегда влекло. Вечерами, присев на порог нашего небольшого балкона, я часами смотрела на звезды, любуясь ими, мечтая, загадывая желания. Мне нравилось придумывать необычные истории о жизни небесных светил. Иногда мне казалось, что они отвечают на мои вопросы и даже пытаются помочь. В больнице я тоже каждый вечер смотрела на звезды, прося у них помощи и поддержки.
На мою шею повесили узкий длинный баллон, из которого по катетеру в мою кровь непрерывно капали яды, разрушая больные клетки, а заодно и здоровые.
В течение нескольких часов я ничего не чувствовала и уже подумала было, что «химия» не так страшна, как о ней рассказывали. Но к вечеру состояние резко ухудшилось: потемнело в глазах, появилась дрожь в теле, открылась сильная рвота. Яды начинали действовать. Всю ночь меня тошнило. Именно тогда я поняла, что значит быть живым трупом. Я извивалась в постели от невыносимых болей и из последних сил, согнувшись пополам, снова и снова, беспомощно хватаясь за стены, шла в туалет, чтобы освободиться от душивших меня ядов. К утру, совсем измотанная и обессиленная, я заснула беспокойным сном.
Когда я открыла глаза, уже светило яркое солнце. Я лежала под капельницей. Из большой бутыли равномерно капала какая-то прозрачная жидкость. Я попыталась приподнять голову, но не смогла даже пошевелиться. Меня мутило. Палата кружилась на бешеной скорости. Мне показалось, что я схожу с ума. К горлу опять подкатила тошнота.
— Меня тошнит, — сказала я и не узнала свой голос.
— Сейчас позову медсестру, — как в тумане зазвучал голос Татьяны.
Я поднималась все выше и выше, в невесомое воздушное пространство. Белые облака обволакивали легкой нежной дымкой, лаская и согревая. Я сливалась в единое целое с Вселенной. Ничего больше не существовало. Никого больше не существовало. Не существовало и меня: я превратилась в мизерную вселенскую частицу. Соприкасаясь со звездами, я летела по бесконечному эфирному пространству. Вдруг появился слабый, расплывчатый, еле различимый образ моей ушедшей из жизни бабки.
— Здравствуй, — сказала она.
— Баба! — вырвался крик. И так захотелось обнять ее, прижаться к ней, сложить свою голову на ее плечо. Но мои руки прошли сквозь воздух.
— Меня нет! Я всего лишь призрак! — услышала я ее голос.
— Значит, и меня тоже нет? — удивилась я.
— Тебя тоже нет… временно, — ответила она. — Расскажи, как твои дела?
— Рассталась с мужем, ушла с работы, серьезно заболела, а в остальном все хорошо! — И я заплакала.
— Не плачь, милая, не плачь, у тебя все будет хорошо!
—А можно я с тобой останусь? Здесь так хорошо!
— Нет! — резко ответила она. — Возвращайся, тебе пора!
Я стремительно полетела вниз. Открыв глаза, я увидела перед собой докторов.
— А где баба?
— С возвращением, — сказала Елена Михайловна, всматриваясь в меня и щупая пульс.
Я закрыла глаза. В непривлекательную реальность возвращаться совсем не хотелось. Всей душой, всем сердцем я тянулась обратно, в тот, другой, неизведанный мир. Мне хотелось еще раз пережить те чувства и ощущения, которые я испытала при встрече с бабкой. Ничего не получалось, я вернулась на землю.
Мне казалось, что там, в другом мире, в другой жизни, я была всего лишь миг. Но с того момента, как я впала в кому, прошло три дня.
— Три дня! — вскрикнула я от удивления. — Не может быть! Я же была ТАМ минут десять!
— ТАМ — это где? — спросила Елена Михайловна.
— Где-то очень далеко, — рассеянно ответила я.
После того как я открыла для себя этот ДРУГОЙ мир, что-то изменилось. Я вдруг стала воспринимать окружающее иначе. Теперь я точно знала, как иногда всего лишь один нежный взгляд, пожатие руки, банальное ласковое слово могут кардинально изменить жизнь человека. Я всматривалась в глаза людей, так же как и я боровшихся со своей болезнью. Это были добрые, отзывчивые люди, не озлобившиеся на свою судьбу. У каждого из нас на прикроватной тумбочке стояли маленькие иконки. Видимо, тяжелые испытания заставляют всех, без исключения, пересмотреть свою жизнь, обратиться к Богу и к самому себе.
Мы много шутили, рассказывая вечерами друг другу анекдоты. И я невольно ловила себя на мысли, что в той, прошлой жизни, еще до болезни, никогда столько не смеялась и не умела радоваться маленьким, незначительным пустякам. Вскоре мы подружились с Татьяной.
— Я здесь уже давно, — рассказывала она. — Всякого насмотрелась. Но ничего. Все будет хорошо. Главное — верить.
К Татьяне приходило много людей, в основном персонал больницы. И неспроста. Когда-то она работала здесь буфетчицей — разносила по палатам еду для больных. И, судя по количеству ежедневно навещающих ее людей, она была необыкновенно добрым и отзывчивым человеком.
Теперь на месте Татьяны работала другая женщина — Алина, молодая и очень обаятельная. Каждый день, принося нам еду, она вселяла в нас надежду, подбадривала. Я поражалась, откуда Алина берет силы улыбаться, шутить, дарить добро. Ведь то, что происходило в ее жизни, можно было смело приравнивать к фильму ужасов.
С мужем и ребенком она переехала из Киргизии. Жила в крохотной комнатке, которую ей выделила администрация больницы. Ребенок, очаровательный мальчик семи лет по имени Аскар, был серьезно болен и уже успел пережить клиническую смерть. Возможно, Алина и в больницу на подсобные работы устроилась ради ребенка. Ведь у нее было высшее образование, и, поговаривали, что в Киргизии она слыла известным ученым-биологом. Ее муж, не выдержав серьезных испытаний, обрушившихся ураганом на их семью, ушел к другой женщине, более успешной и удачливой. Алина осталась с больным ребенком на руках и мизерной зарплатой буфетчицы.
— Жалко Алину, — невольно вырвалось у меня, когда за ней в очередной раз закрылась дверь.
— Да, много свалилось всего и сразу. Но она сильная, выпутается!
— А у тебя как с семьей, Татьяна? — спросила я.
— Муж есть, — не сразу ответила она. — Сын еще, но он живет отдельно, со своей гражданской женой. Сильно пьют. Муж тоже пьет, правда, реже. Но если начинает пить, то это надолго, уходит в недельные запои. Вот тогда он становится страшным.
— Страшным?
— Ну да, страшным. Он за мной с топором гоняется, все убить мечтает! Я от него убегаю, прячусь у соседей. Домой можно возвращаться, только когда он уснет. Пока бодрствует — дома появляться опасно.
— А как ты узнаешь, что он заснул? — спросила я.
— Подойду к двери, послушаю. Если тишина и храп на весь дом, значит, все в порядке, опасность миновала.
— И ты с ним до сих пор не рассталась? — искренне удивилась я.
— Не рассталась, — подтвердила она с горечью, — всю жизнь мучаюсь.
Дни шли своей чередой. За химиотерапией последовал курс облучения. Со временем начали выпадать волосы, но к тому моменту меня этот вопрос уже мало волновал. После того, что мне пришлось пережить, после того, как я заглянула в глаза смерти, глупо было бы переживать из-за каких-то волос. Тем не менее это было неприятное явление. Я дотрагивалась до головы — и за моей рукой тянулся клок волос.
— Фу, гадость, — брезгливо отбрасывала я его.
К счастью, продолжалось это недолго. Аня посадила меня в машину и отвезла в парикмахерскую. Когда мастер прошелся машинкой по левой стороне головы, волосы безнадежно полетели вниз. Я засмеялась. Было забавно смотреть, как одна часть головы становится лысой, а на другой еще торчит кипа спутанных волос.
Теперь я ходила в косынке. Мой вес составлял тридцать девять килограммов, и похожа я была на привидение, которым впору пугать непослушных ребятишек. Каждый раз, когда я смотрела в зеркало, на меня накатывало чрезмерное, неоправданное веселье. Быть может, именно такое непринужденное, с юмором, отношение к себе спасло мне жизнь? Я не оплакивала свою судьбу, не билась о стены, а просто жила, радуясь каждому дню.
Маленький Аскар стал частым гостем в нашей палате. Со временем у каждого из нас троих появились негласные обязательства: Аскар приносил свое любимое печенье с фруктовой начинкой, я заботилась о чайнике, а Татьяна хлопотливо накрывала стол к вечернему чаепитию. Наша странная компания — маленький мальчик и две женщины, молодая и пожилая, — находили друг в друге радость и утешение. Посиделки за чаем стали нашей неотъемлемой и необходимой частью жизни. Мы общались как давние друзья, не ощущая разницы в возрасте.
— Аскар, кем ты мечтаешь стать? — спросила его однажды Татьяна.
— Врачом конечно, — убедительно, как само собой разумеющееся, ответил мальчик.
— Это же страшно, — изумилась я, — ты разве крови не боишься?
— Ничего я не боюсь! Я буду помогать людям, разве это страшно? — в свою очередь спросил он.
— Да, действительно, — растерялась я.
— Ты молодец, Аскар, — ободрила его Таня. — У тебя все получится!
У мальчика засияли глаза. В его еще совсем коротенькой жизни, успевшей преподнести ему серьезные испытания, никто так не поддерживал и не одобрял его, как Татьяна. Она верила в него искренне. А он верил ей. Она была для него и другом, и советчиком, и вдохновителем идей, и авторитетом. Какие-то невидимые нити связывали этих двух, казалось бы, абсолютно разных людей.
Спустя несколько дней Тане стало хуже. Врачи суетились: капельницы, тонометры, уколы. Оперативно, на ходу принимали важные решения, медлить было нельзя. Таня лежала совсем обессиленная и измученная, равнодушная ко всему. Только к вечеру ей стало немного лучше. Она смотрела в одну точку, не произнося ни слова. Я подошла к ее кровати и наклонилась к лицу.
— Ну, как ты? — тихо спросила я.
— Лучше, — ответила она и перевела свой уставший взгляд на меня.
— Слава Богу! — сказала я. — Все будет хорошо! Мы еще повоюем!
— Да уж отвоевалась я, — последовал ответ.
— Ну ты чего? Сама же говорила, что нельзя сдаваться раньше времени!
Она улыбнулась, как всегда, милой и доброй улыбкой и хотела что-то ответить, но в это время в дверях появился Аскар.
— Здравствуйте! — сказал он.
— Привет, — ответила я.
— Ты чего это пришел? — спросила Таня. — Мы же сегодня договорились не встречаться.
— Просто мне захотелось вас увидеть, — переминаясь с ноги на ногу, объяснил он.
Аскар был умным и смышленым мальчиком. Иногда я искренне поражалась, как маленький ребенок может так мудро рассуждать о жизни, людях, человеческих взаимоотношениях. Он всегда вел себя вежливо и скромно, независимо от того, общался ли с человеком старше или со своим ровесником. Маленького роста, очень худенький, с живыми карими глазами и очаровательной улыбкой, с ямочками на щеках, он производил впечатление мудрого доброго старца, за плечами которого была сложная, но интересная жизнь.
Я смотрела на Аскара и Татьяну. Они мило болтали, обсуждая только что вышедший на экран новый фильм. Аскар крепко держал Татьяну за руку, иногда нежно поглаживая ее ладонь. Смотреть без слез на эту трогательную сцену было невозможно. Я отвернулась, чтобы скрыть невольно набежавшие слезы: они были некстати. Ведь Татьяна, едва появился Аскар, преобразилась — казалось, от тепла и нежности этого мальчика ей стало легче. И я в очередной раз убедилась, что любовь, во всех ее проявлениях, способна творить чудеса.
Мои размышления прервал вопрос Аскара:
— Таня, — как всегда, нежно и вежливо обратился Аскар, — а вы боитесь смерти?
Словно статуя, я застыла на месте от леденящего душу ужаса. В больнице, в которой мы находились, было не принято говорить о смерти — слишком уж злободневным был этот вопрос!
Татьяна смотрела на Аскара ясными глазами — похоже, ее совсем не смутил этот вопрос. Она задумалась, серьезно глядя на него. До этого дня она никогда не говорила о смерти, умея радоваться каждому дню, наслаждаться каждым мгновением. «Слава Богу! Еще один день прожили!» — говорила она перед сном. А просыпаясь, только открыв глаза, восклицала: «Господи! Спасибо Тебе за новый день! Пусть он будет добрым и светлым!» Эти простые, но чуткие, идущие из сердца слова действовали на меня позитивно. Я действительно верила, что день будет светлым, добрым и удивительным!
— Ну, ты меня озадачил, молодой человек! — сказала Татьяна, после долгих раздумий. — Все мы смертны, и сколько нам отпущено, столько и проживем. Каждый из нас, рано или поздно, покинет этот мир. Так чего же бояться? — Она смотрела куда-то вдаль, вопрос Аскара явно заставил ее глубоко задуматься. — Бояться вроде бы нечего, — неуверенно произнесла она, — а все равно страшно! Но что от этого изменится? Ничего! — ответила она сама себе.
— А вы не бойтесь! — заговорил Аскар. — Умирать совсем не страшно!
— А ты-то откуда знаешь? — непроизвольно вырвалось у меня.
Заведенный им странный разговор начинал меня раздражать: нашел о чем спрашивать! Татьяна устала и измучена, а он пристает к ней с какими-то дурацкими вопросами. Но Аскар был спокоен и, нисколько не смутившись, ответил:
— Я знаю! Я ТАМ был! Сначала летишь по черному коридору, но это совсем не страшно, даже наоборот, интересно: что там дальше? А потом появляется яркий свет, ну… такой яркий-яркий, у нас ЗДЕСЬ такого не бывает… только ТАМ, — добавил он. — ТАМ встречают друзья и родственники — ну, которые уже умерли. Они очень радуются такой встрече! И я тоже радовался.
— Ты кого-то встретил? — серьезно и с интересом спросила Таня.
— Конечно, — ответил мальчик. — ТАМ была моя бабушка и еще тетя Зуфа. Они мне улыбались, мы гуляли по очень красивому зеленому лугу, только этот луг был совсем не похож на луга, которые ЗДЕСЬ, на земле.
— А какой тот луг? — спросила я.
— Просто другой, и в миллион раз красивее земных лугов, — ответил Аскар.
— А где живут усопшие?
— Не знаю, наверное, на небесах, — задумчиво произнес Аскар, — потому что ОНИ нас видят и иногда помогают.
— И что тебе сказали бабушка и тетя Зуфа? — допытывалась Татьяна: этот разговор поглотил ее целиком и полностью. Она словно хотела глубже погрузиться в тот загадочный мир, нарисовать его в своем воображении, «увидеть» все то, о чем рассказывал Аскар.
— Ну, сначала ОНИ меня спросили, хочу ли я остаться. И я ответил, что хочу! «Почему?» — задала мне вопрос бабушка. Я сказал, что ЗДЕСЬ очень красиво и намного лучше и интереснее, чем ТАМ.
— А ОНИ что? — нетерпеливо перебила Таня.
— А ОНИ сказали, что я обязательно к НИМ вернусь, но только позже. И что теперь я должен отправляться домой, к маме, потому что я очень ей нужен. Ну, я с ними согласился. Больше ничего не помню. А когда открыл глаза, то увидел перед собой маму.
Таня и я, как по команде, переглянулись. Мы обе плакали. Повинуясь какой-то неведомой силе, я подошла к ней и села рядом. Аскар, на протяжении всего разговора державший Татьяну за руку, теперь свободной рукой взял и мою руку.
— Не плачьте, — сказал он, — все будет хорошо!
Аскар легко встал с кровати и, прежде чем мы успели опомниться, исчез за дверью палаты. Мы еще долго, Таня и я, разговаривали в тот вечер, крепко держась за руки, словно боясь той неведомой силы, того недоступного нам мира, который невольно потревожили своим обсуждением. После того как Аскар ушел, мы больше не возвращались к этой теме, а беседовали о людях, живущих на земле, рядом.
52
Вскоре Таню выписали. Врачи сказали ей, что сделали все, что могли, и теперь оставалось уповать только на Бога. Она, казалось, повеселела: все-таки возвращаться домой, даже если там не все в порядке, все равно лучше, чем находиться в больнице. Мне было и радостно, и грустно. С одной стороны, я искренне желала ей здоровья и была счастлива, что Таню выписывают, с другой — мне совсем не хотелось с ней расставаться! За дни, проведенные вместе, я к ней привыкла, привязалась, прикипела всей душой. Я знала, что мне будет очень тяжело без мудрой проницательности Тани, без ее тонкого юмора, без ее горячего, любящего сердца, без ее милой и кроткой, как у святых, улыбки. Я ушла на лечение, а вернувшись, обнаружила ее собравшей вещи и готовой покинуть больницу. Мы крепко обнялись, не произнося ни слова, обеих душили эмоции, и, когда, поплакав, мы успокоились, Таня сказала мне:
— Я тебя очень прошу: что бы ни произошло, никогда не сдавайся! Жизнь — это борьба, и побеждает всегда тот, кто идет до конца! А это тебе.
И она подала мне пять больших ярких мандаринов. По палате разнесся приятный мандариновый запах, и мы под воздействием этого стойкого аромата улыбнулись друг другу.
— Спасибо тебе! Я желаю тебе здоровья, бодрости и терпения. И еще: я просто восхищалась все эти дни твоей мудростью и бескрайне добрым сердцем, — призналась я. — Ты заслуживаешь всего самого хорошего!
И мы еще раз крепко обнялись.
Таня ушла. Дни тянулись медленно и тоскливо. Меня постоянно отправляли на бесконечные исследования, анализы, процедуры. Я успокоилась и смиренно ждала результатов. «Что будет, то будет, — рассуждала я, — от судьбы не убежишь!» Таня учила меня бороться и не опускать рук. Видимо, я была хорошей ученицей, поскольку упорно боролась и надеялась только на самое лучшее. Мне удалось убедить себя, что чудеса в жизни бывают, и если искренне верить, то жизнь воистину преподносит неожиданные и приятные сюрпризы.
Но однажды, проснувшись рано утром, я почувствовала в душе тревогу, отчаяние, щемящее чувство безысходности. Я ходила по палате из угла в угол и никак не могла понять, что происходит. Еще вчера все было хорошо, я пребывала в прекрасном настроении, а сегодня все валилось из рук и сердце грозило выпрыгнуть из груди. Я не находила себе места. Поскольку ела я очень мало и меня постоянно беспокоила тошнота, то все, что появлялось у меня из еды, оставалось практически нетронутым. Вот и мандарины, которыми меня угостила Татьяна, одиноко лежали на моей тумбочке, по-прежнему издавая благоухающий мандариновый запах. Я взяла один из мандаринов, намереваясь его почистить и съесть, но мандарин выпал из рук и покатился по полу. От бессилия я разрыдалась. Так бывает, что человек, накопив чересчур много эмоций, сам того не подозревая, стремится их выплеснуть наружу — вот и появляются, на первый взгляд, казалось бы, беспричинные слезы. Я рыдала около часа, но слезы не принесли облегчения, и, совсем выбившись из сил, я заснула тяжелым сном.
Меня разбудила медсестра, сказав, что пора делать капельницу. Обычно эту процедуру проводили со мной после обеда. Я посмотрела на часы: до обеда оставался еще целый час!
— Почему так рано? — пытаясь окончательно проснуться, удивилась я.
— У нас сегодня после обеда весь персонал на похороны уходит. Так что ложись быстрей, а то не успеем прокапаться.
— А кого хоронят? — зачем-то спросила я.
— Таня умерла. Помнишь такую? Она же, кажется, с тобой в одной палате лежала?
Я стала медленно сползать с кровати. Окружавшие меня предметы расплывались, принимая причудливые, а то и уродливые формы. Я безуспешно пыталась за что-нибудь ухватиться, но рука бессильно проваливалась в воздух, не находя нужной опоры. Весь вещественный мир словно превратился в бесформенную вязкую массу, и я тоже медленно, но стремительно принимала такую же безликую форму.
— Что с тобой? — уже совсем где-то далеко, из оставленного мной стройного, но жесткого мира, услышала я голос медсестры, почувствовав под собой что-то холодное и липкое, и провалилась в забытье.
Когда я открыла глаза, то увидела склоненные надо мной лица врачей и медсестер. Я все еще лежала на полу, но теперь пол мне казался раскаленными горящими углями, прожигающими мое тело до дыр.
— Глаза открыла, — произнес чей-то голос, и все облегченно вздохнули.
Меня аккуратно переложили на кровать.
— Ну, как ты? — спросил врач, нащупывая мой пульс.
— По сравнению с Татьяной — очень хорошо! — ответила я.
— Молодец! Чувство юмора никому не вредит. Наташа, — обратился он к медсестре, — можешь ставить капельницу.
Пока Наташа вводила мне иглу в вену, все внимательно наблюдали за процессом. Почему-то никто не уходил. Я равнодушно смотрела в потолок, не желая ни о чем думать.
— Ну, а теперь отдыхай, — сказал врач, после того как Наташа поставила мне капельницу, — и смотри: без фокусов! — то ли серьезно, то ли полушутя предупредил он.
Меня оставили одну. Впервые я осознала, как иногда бывает хорошо в одиночестве. Наверное, в жизни каждого человека есть моменты, когда просто необходимо побыть наедине с собой. Тишина окутывала меня своим мягким безмолвием. Время от времени я куда-то проваливалась, убегая от реальности в мир иллюзий. И каждый раз, открывая глаза, задавала себе один и тот же вопрос: «Почему так горько плачет сердце?» Постепенно, мгновение за мгновением, вырисовывались события дня, и я опять от слабости и безысходности закрывала глаза, желая поскорее обо всем забыть. И вот уже я вижу себя бегущей по узенькой дорожке, над которой справа нависают зловещие скалы, похожие на большие лапы и готовые вот-вот схватить и поглотить меня в свое неведомое царство, а слева — крутой обрыв в пропасть: один неверный шаг — и ты уже в полете, первом и одновременно последнем. Я бегу по этой дорожке, и меня догоняют какие-то неведомые, уродливые зверушки: двухголовые, пятилапые, двухвостые. Я выбиваюсь из сил, но страх заставляет бежать дальше. Звери меня хватают, и я падаю. Открываю глаза. Палату заливает солнечный свет. Откуда? Где капельница? Это уже утро! Всю ночь за мной гонялись звери-уроды! Это был сон, кошмарный, ужасный. Как хорошо, что все это только сон! В палате светло и приятно пахнет. Знакомый запах. Мандариновый. Я поворачиваю голову к тумбочке. Пять мандаринов, словно маленькие солнышки, все так же источают прекрасный аромат. Теперь они для меня — память о хорошем человеке. Я беру один из мандаринов. Он еще хранит тепло рук Татьяны. Она угостила меня от чистого сердца, вложив частичку своей души. Это тепло, исходящее теперь от мандаринов, греет мне руки, а слезы, безжалостно застилающие глаза, обжигают лицо. Я сжала мандарин в руке. За окном плыли облака, похожие на ангелов. «Я тебя очень прошу: что бы ни произошло, никогда не сдавайся! — кружились слова Тани. — Все мы смертны, сколько Бог дал, столько и проживем. Но каждый из нас, рано или поздно, покинет этот мир!» Я слово за словом вспоминала тот разговор с Аскаром. Удивительно, но я все помнила наизусть, будто мое подсознание записало его на диктофон. «Теперь Татьяна уже сама увидела, как ТАМ, в другом мире», — невольно подумала я.
Дверь приоткрылась — Аскар, не проронив ни слова, прошел через палату и сел возле меня. Он выглядел как обычно, только был слегка бледным и уставшим. Взяв мою руку так, как он обычно брал руку Тани, Аскар тихо сказал:
— Не плачьте! Татьяне ТАМ хорошо! Ее встретили близкие и друзья. Семь человек.
— Семь человек? — машинально отозвалась я. — А ты-то откуда знаешь? — задала я уже привычный для него вопрос.
— Я ее видел во сне. Она улыбалась и сказала, что ей ТАМ очень хорошо.
Я молчала. Мне нечего было ответить. Только слезы предательски потекли по лицу неостановимым потоком. Аскар, немного помедлив, поднялся и направился к двери: видимо, общение со мной не доставляло ему никакой радости. На пороге он остановился и, обернувшись ко мне, сказал:
— Еще Татьяна очень просила передать, чтобы вы съели мандарины.
И, не дожидаясь моего ответа, Аскар вышел и закрыл за собой дверь.
53
Со дня смерти Татьяны прошло два месяца. За это время мне сделали третий курс химиотерапии, третий курс облучения и одну сложную операцию. Впереди ждала вторая, не менее сложная и серьезная. Когда я об этом узнала, у меня началась истерика. Я отчаянно рыдала, чувствуя себя бессильной перед судьбой, исковеркавшей мою жизнь. Мне казалось, что это безобразное чудовище вот-вот поглотит меня полностью, без остатка. Закрывая глаза, я ясно видела страшную пасть, которая медленно, но неодолимо приближалась ко мне, но я резко вставала с больничной кровати, усилием воли отгоняя от себя эти фантастические видения. Теперь, когда уже половина пути пройдена, сделана одна операция и назад дороги нет, страх понемногу исчезал, навязчивые видения появлялись все реже, и только одно-единственное желание владело душой: благополучно пережить вторую операцию и выйти на свободу. Я бродила по бесконечным больничным коридорам, стараясь ни о чем не думать. Но иногда мысли сами навязчиво, нагло лезли в голову. И тогда приходилось сдаваться перед их натиском и думать, думать, думать. Заложив руки за спину и мерно вышагивая, пытаясь дышать ровно и глубоко, я задавала себе вопросы, которые рано или поздно задает себе каждый человек. Вот только отвечают на них, увы, не все.
«Что такое смерть?» — спрашивала я себя в очередной раз, увидев, как на каталке в сторону морга везут бездыханное тело. Еще несколько мгновений назад этот человек размышлял, мечтал, строил планы. А теперь — все, его нет. Кто-то с ужасом, кто-то равнодушно обернется, посмотрит и пойдет дальше — тоже размышлять, мечтать, строить планы, разве что на миг, быть может, задумавшись о том, что когда-нибудь и его вот так же, на каталке, увезут в это страшное здание, наводящее ужас на всех живых, — морг, и кто-нибудь равнодушно обернется, посмотрит и пойдет дальше, решать свои насущные проблемы, невольно спрашивая себя: в чем же все-таки смысл жизни?
Однажды, в очередной раз решая философские задачи, я свернула из коридора в палату и только на середине комнаты поняла, что ошиблась дверью. Возле окна стоял мужчина, худощавый, невысокого роста, лет сорока, в синем спортивном костюме, и внимательно смотрел на меня. Пока я соображала, где нахожусь, мужчина, осторожно прикрыв форточку, медленно подошел ко мне.
— Здорово сегодня на улице! — произнес он. — Вот смотрю и любуюсь, — он сделал неуклюжий жест. — Сейчас бы на роликах покататься, да где уж там! — И он как-то безнадежно махнул рукой.
— Извините, я, кажется, не туда попала. — Я растерянно попятилась. Мне вовсе не хотелось разводить дискуссии о погоде, и уж тем более о катании на роликах.
— А давайте я вам кофе сделаю.
И так он произнес эти слова, что в одной-единственной фразе я услышала и просьбу, и боль, и отчаяние, и что-то еще такое, чего словами объяснить не могла.
— Обожаю кофе, — улыбнулась я, — правда, уже забыла его вкус.
— Ничего, сейчас вспомните, — оживившись, произнес он. — Я — Дима, — просто сказал он, протягивая мне руку.
54
С этого дня все свое свободное от лечения время мы проводили вместе. Мы беседовали о Боге, об искусстве, о философии, автомобилях, о всякой бытовой ерунде и только изредка вспоминали о своем не очень выгодном положении — о болезни. Я очень неохотно и скупо делилась своей историей, отвечая на вопросы Димы коротко и односложно. Но однажды, начав говорить, уже не могла остановиться: я рассказывала о себе тихо, но четко и ясно, будто взвешивая каждое слово. Я слишком долго молчала, держа внутри несчастья, происходившие со мной одно за другим. Но в тот день вся боль, копившаяся в душе, прорвалась наружу, и мощным, стремительным потоком излилась из растерзанной души.
Я рассказала о непростом детстве, маме, бабке, братьях, Дэне. О своем любимом Артюхе. О том, как встретила отца Александра, и о том, как он от меня отказался. Я рассказала, как познакомилась с Сергеем и как внезапно узнала о своем диагнозе. Как писала научную работу между приемами таблеток. И еще о тех бесконечных адских болях, перед которыми были бессильны даже самые мощные обезболивающие препараты. О том, как день за днем я глотала баралгин, спазмалгон, кетанов с одним-единственным желанием: уснуть и забыть обо всем этом ужасе хоть на несколько часов. О том, каково было оказаться в такой ситуации в самом расцвете сил. И о том, как приехала в Москву в плацкартном вагоне и как попала в больницу. Картинка за картинкой сменяли друг друга, оживая в моей памяти. И от всех этих воспоминаний как-то уж совсем стало тошно.
Я замолчала. Дима взял мою худую холодную руку и легонько сжал. Мы молчали. Слова были бессмысленны. Диагноз Димы звучал так же — рак ротоглотки. Курс химиотерапии не дал никаких результатов. Врачи думали, что делать дальше. Было принято решение о втором курсе химиотерапии. Дима ходил чернее тучи. Ему на работу надо выходить — там все дела стоят, а он здесь, в больнице, неизвестно в каком состоянии! Заядлый труженик, он и представить не мог свою жизнь без работы. Обычно люди с несложившейся личной жизнью становятся прекрасными специалистами и делают блестящую карьеру. Так было и с Димой. Он женился рано, в восемнадцать лет, на женщине старше себя на пять лет и с ребенком. Прожили они всего два года, так и не родив совместного ребенка. Жена ушла к другому мужчине, более обеспеченному и успешному. Дима ее любил и пытался самыми разными способами удержать, хотел сохранить семью, но она была непреклонна. Правда, с тем, другим, мужчиной семейная жизнь тоже не сложилась. Дима больше не женился, чем до глубины души удивлял друзей. Мягкий, порядочный, добрый, он становился душой любой компании. Женщины буквально вешались ему на шею, но он оставался холодным и безразличным. Он так и не встретил женщину своей мечты. Многочисленные друзья тем не менее постоянно знакомили его с девушками на любой вкус — брюнетками, блондинками, рыженькими, — но, увы, все их усилия были напрасны: Дима только усерднее уходил в работу и больше замыкался в себе. Прекрасный психолог, он успешно помог огромному количеству людей найти свое счастье, свою вторую половинку. И только сам, отработав трудовой день, приезжал домой, где его вместо любимой женщины и озорных ребятишек встречала грозно молчащая тишина. Сапожник без сапог!
И вот теперь болезнь отняла у него единственную радость в жизни — любимую работу. Оставалось одно: верить и надеяться на лучшее.
Диме начали делать второй курс химиотерапии. Заглядывая к нему в палату и видя его бодрствующим, я искренне удивлялась, как ему удается так легко переносить это сложное лечение. Ведь моя химиотерапия чуть не лишила меня жизни! А у Димки ничего не болело, его не мучила рвота, и он через каждые сорок минут выходил на улицу покурить!
Однажды вечером Дима сам пришел ко мне в палату. Я сидела задумчивая, сложив ноги по-турецки и глядя в заснеженное окно.
— Привет, — почти шепотом произнес он.
— Чего шепчешь? — резко отозвалась я. В моих фразах все чаще появлялись железные интонации.
— Боялся тебя напугать.
— Уже до тебя напугали, — не отрываясь от окна, сказала я.
— Что случилось? — участливо спросил он и присел на кровать рядом со мной. Я медленно, будто нехотя, перевела взгляд на него и тихо, еле слышно ответила:
— Завтра операция.
Повисла долгая пауза. Он что-то хотел сказать, как-то утешить. Но, видимо, не находил слов. Да и что говорить? В такие минуты молчаливая поддержка, банальное присутствие дороже в миллиарды раз, чем просто слова.
Я встала и подошла к окну. Слезы предательски застилали глаза, но при Диме я не могла расплакаться. Я знала, что ему еще тяжелее и что своими слезами я сделаю ему очень больно. И я отвернулась, будто бы разглядывая летящий за окном снег.
Дима подошел ко мне, молча развернул к себе и нежно, но крепко обнял. Я, словно только этого ожидала, доверчиво прижалась к его плечу. Слезы из глаз лились ручьем, но об этом я уже не беспокоилась: все равно он не видит лица.
Он ласково гладил меня по голове, как маленькую девочку, приговаривая нежные, не связанные между собой слова. Так мы и стояли, крепко обнявшись, две сложные судьбы, волею провидения оказавшиеся вместе.
На следующее утро Дима буквально вбежал ко мне в палату. Я резко села в кровати, протирая сонные глаза.
— Ты чего? Бессонница замучила? Сколько времени? Что стряслось? — сыпала я вопросами.
А он вдруг громко рассмеялся.
— Дима, с тобой все в порядке? — подозрительно поинтересовалась я.
— Ой, ты такая смешная спросонья, — весело ответил он. — Ей-богу, как с Марса прилетела!
— Ах ты негодник!
Я запустила в него подушкой, попав ему прямо в лицо. Теперь была моя очередь смеяться: из подушки вылетели перья и, покружив, уютно приземлялись на Димину голову и плечи. Он стоял растерянный, с подушкой в руках, похожий на шаловливого мальчишку, разорившего курятник.
На этом веселье закончилось. Явилась медсестра, чтобы сделать мне укол перед операцией. Дима вышел, но стоял возле палаты, словно охраняя мой покой. Через две минуты показалась я — закутанная в простыню, точно мумия. Дима впервые увидел меня без косынки. Волос еще не было, мою лысую голову покрывал только едва заметный пушок. Я легла на каталку, и медсестры повезли меня в сторону операционной. Дима шел рядом и говорил не умолкая:
— Все будет хорошо! Ты ведь сама говорила: «Те, которые не мрут, те до старости живут!»
Но я его уже не слушала. Я смотрела в потолок и читала молитвы, обращаясь к Всевышнему. С момента первой операции прошло всего две недели, и торопиться со второй было спорным решением. Сначала я от нее отказалась. Близился Новый год, и я думала, что отдохну на праздниках и уже в наступившем году с новыми силами подготовлюсь ко второй операции. Но потом передумала, пришла к выводу, что десять дней все равно ничего не решат и чему быть, того не миновать.
И вот меня везут на операцию. На дворе двадцать пятое декабря. Народ в ожидании праздников. В больнице нарядили елку, всюду развешана мишура и серпантин. А у меня будет праздник, только если операция пройдет успешно. «Господи! Не оставляй меня, помоги!» Страха уже нет, я устала. Если бы были силы, я бы, наверное, боялась. Но сил нет. И страха тоже нет. Ничего нет! Мысли путались, укол, сделанный в палате, начинал действовать, и я бесконечно, как в бреду, шептала:
— Господи! Господи! Господи!
55
Шесть часов спустя меня привезли в палату и начали подталкивать, чтобы я перелегла на кровать. Но вдруг чьи-то руки с необычайной легкостью, к удивлению медсестер, как пушинку, подхватили меня и аккуратно перенесли. Это были Димины руки. Медсестры пожали плечами, переглянулись и вышли, оставив нас одних.
Я лежала не шевелясь, с закрытыми глазами, измученная и безразличная ко всему. Пришел врач, пощупал пульс, раздвинул веки и, сказав, что все нормально, ушел. Пролетел еще один час. Дима, все это время державший мою безжизненную холодную руку в своих ладонях, медленно, осторожно поднес ее к губам и нежно поцеловал. Чувствуя, как от его дыхания рука чуть потеплела, он принялся по очереди, вновь и вновь, целовать мои худые пальчики. Превозмогая боль, я улыбнулась. И эта улыбка была красноречивее тысячи слов. Привязанность, благодарность, уважение, трепетность, нежность, дружбу, любовь — сколько всего можно выразить лишь одной улыбкой, вымученной и выстраданной, идущей из глубины сердца.
— Дима, — хрипло произнесла я.
— Все хорошо, ты уже в палате, и я с тобой. Все страшное позади!
— Пить! — еле слышно попросила я.
Дима поднес к моим губам пропитанный водой ватный тампон. Я жадно вцепилась в него зубами, выжимая до последней капельки. Дима с трудом вырвал его из моего рта, но я запротестовала, из последних сил, с трудом издавая отдельные слоги:
— Е-ще! Дай е-ще!
— Пожалуйста, потерпи, тебе пока нельзя много воды, — ласково сказал Дима, тем не менее поднося к моему рту второй тампон, смоченный водой.
Невыносимо смотреть на боль человека — еще невыносимее, когда эту боль терпит любимый человек!
56
Прошло два дня. Мы с Димой уже гуляли по больничному коридору, рассматривая наряженную елку и развешанную по всем стенам разноцветную мишуру. Неумолимо близился Новый год! И медперсонал, и пациенты пребывали в предпраздничном настроении. Больные аккуратно писали заявления заведующему отделением с просьбой отпустить их на праздники домой и угощали медсестер шоколадными конфетами и апельсинами.
— Новым годом пахнет, — смеясь, сказала я.
— А как пахнет Новый год? — удивился Дима.
— Не знаю, — пожала я плечами, — словами, наверное, этого не объяснишь.
— Слушай, — вдруг серьезно заговорил Дима, — а у тебя есть мечта?
— Ну конечно есть. Я хочу сбежать отсюда далеко-далеко, куда-нибудь на край света. А если без шуток… Знаешь, я еще до болезни мечтала отправиться в кругосветное путешествие, выбрать самое счастливое место на земле и там остаться. Навсегда!
— Опять смеешься, — упрекнул он меня.
— Нисколько. Я действительно когда-то думала, что есть на свете такое место, куда можно приехать и сразу стать счастливым.
— А сейчас так же думаешь?
— Нет конечно. Сейчас я знаю, что счастливым можно быть везде, главное — сильно захотеть стать счастливым, и все обязательно получится! Ну а у тебя есть мечта?
— Есть. Я бы очень хотел всего лишь на одну минуту стать волшебником и сделать так, чтобы никто и никогда не болел. Чтобы в один миг все люди на планете стали здоровыми и счастливыми.
— Ну ты и фантазер! Такого не бывает и, наверное, никогда не будет.
— Знаю, — тихо сказал Дима и невесело усмехнулся.
Наступило тридцать первое декабря. Во всем отделении остались пара лежачих дедулей, я, Дима и две дежурные медсестры.
Дима не мог уйти домой, потому что третий день носил на шее баллон с химиотерапией, а мне и уходить-то из больницы было некуда, да и в таком виде, с опухшим лицом, лысой головой, изрезанной шеей, далеко не уйдешь. Странно, но ни он, ни я нисколько не сожалели о том, что встречаем Новый год в больнице. Мы смеялись, подтрунивали друг над другом и с наслаждением, будто в первый раз, смотрели «Иронию судьбы, или С легким паром» — в этот праздничный день нас ни в чем не ограничивали и позволяли нарушать больничный режим.
Ближе к вечеру мы в Димкиной палате изобразили пародию на праздничный новогодний стол. В ход пошли самые обыденные предметы. Одноразовая пеленка, в которой Дима вырезал причудливые цветочки, что-то между ромашками и васильками, и на которую я налепила завалявшиеся в сумочке наклейки с игрушечными машинками, сыграла роль роскошной дорогой скатерти. Бутылка с лимонадом превратилась в дорогое вино многолетней выдержки. Я притащила яблоки и апельсины, Дима выложил специально заначенные мои любимые конфеты «Вкус лета», а потом с важным видом искусного фокусника извлек из видавшей виды больничной тумбочки красивую баночку молотого кофе.
— Кофе! Обожаю кофе! — хлопала я по-детски в ладоши. — Димочка, ты волшебник!
— Я не волшебник, — грозным голосом возразил Дима, — я — колдун!
И мы рассмеялись искренне, добродушно.
— Слушай, колдун, — серьезно сказала я, — времени уже без пяти двенадцать, может, ты наколдуешь бутылочку шампанского?
— Пять минут, пять минут, — пропел фальшиво Димка и, открыв холодильник, легким движением руки вынул из него бутылку «Советского шампанского».
— Чудеса-а-а-а-а… — Я ошарашенно смотрела то на Диму, то на шампанское. И вдруг, опомнившись, закричала: — Ну, что ты стоишь? Открывай быстрее! Не успеем же!
— Успеем! — И он ловко распаковал горлышко, что-то повертел, и пробка ракетой взлетела в потолок.
— Да ты заправский алкоголик! — с особым смаком произнесла я.
— Бывший, моя лапочка, бывший! — смеялся он.
— Димка, а что ты любишь делать больше всего на свете? — внезапно, сменив тему, спросила я.
— Больше всего на свете я люблю смотреть в небо!
— Почему?
— Потому что небо — это души наших умерших близких людей, — ответил он, разливая по стаканам шампанское.
— Сказочник ты, Димка, и ничего больше! — засмеялась я.
— Ну и что, что сказочник. Ведь вся наша жизнь сказка.
В этот момент зазвучали куранты. Раз, два… десять, одиннадцать, двенадцать!
— Ура-а-а! — эхом разнеслось по палате, и опустошенные стаканы лихо приземлились на самый необычный в стенах больницы праздничный стол.
А потом, выключив свет, мы любовались новогодней ночью за окном. Любовались с верой и надеждой, что этот Новый год принесет нам здоровье и счастье. Только изредка мы встречались глазами друг с другом, и эти взгляды были красноречивее всех слов!
57
Десять дней спустя меня выписали. Я уже почти собрала все вещи, когда на пороге палаты появился Дима. Он направлялся ко мне, держа руки за спиной. Подошел — и из-за его спины показался игрушечный Чебурашка, пищавший тоненьким голоском: «Я люблю тебя! Ты настоящий друг!»
— Какая прелесть! — подпрыгнула я от радости.
С восторгом, но при этом осторожно, словно опасаясь сломать, я взяла Чебурашку, прижала к щеке и поцеловала. Потом, положив игрушку на кровать, шагнула к Диме и, взяв его за плечи, поцеловала в щеку ласково и нежно. Мы обнялись, ничего не говоря друг другу. Нам нравилось молчать вдвоем. Зачем слова, если все понятно и без них.
Дима первым нарушил молчание:
— Теперь с тобой рядом всегда будет друг!
Я должна была тоже оставить ему что-нибудь на память. Но что? Я как-то не предусмотрела этого простого ритуала: при расставании люди, которые так близко сошлись и стали друг для друга опорой, обязательно что-нибудь дарят друг другу в знак признательности. И тут меня осенило: в тумбочке лежала толстая серебряная цепочка. С меня ее сняли перед курсом облучения. Так она и лежала без надобности, ведь теперь на больную шею невозможно было надеть украшение. Не раздумывая, я достала цепочку и надела на Диму.
— А с тобой будет всегда напоминание о том, что все в этой жизни прекрасно!
Ошеломленный Дима ничего не сказал. Он притянул меня к себе, целуя глаза, щеки, губы, с любовью гладя меня по голове и крепко обнимая.
— Задушишь же! — смеялась я.
— Я люблю тебя! — серьезно сказал Дима.
— И я тебя люблю! — тоже серьезно ответила я.
На следующий день я уехала в дом матери. Восстановление после такого сложного лечения проходило тяжело. Порой опускались руки и казалось, что сил для дальнейшей борьбы совсем не осталось.
«Не могу так жить! Все раздражает и бесит до белого каления! Хочется жить как прежде, насыщенно и интересно, а я не могу. Нет сил, желания, воли. От сознания, что я теперь инвалид, впадаю в уныние и депрессию!» — писала я Диме.
«Я тебя понимаю! Дорогая моя, единственная, прошу тебя, пожалуйста, будь умницей! Держись! У тебя все получится!»
«Димка! Спасибо тебе, что ты у меня есть! Без твоей поддержки мне было бы совсем невыносимо!»
Мы переписывались не часто. Но эта переписка дорогого стоила. Сколько любви, сколько понимания и нежности вкладывали мы в каждое слово! Если бы мы закидывали друг друга частыми весточками, эти драгоценные фразы быстро потеряли бы смысл. Зато изредка приходящая весточка с милыми и искренними словами поддержки и любви была глотком живой воды для двух людей, испытавших столько моральной и физической боли.
Но жизнь не стоит на месте, ей свойственно меняться. И я, все же не выдержав «домашнего ареста», уехала на лето в деревню, к дальним родственникам матери, которых видела один или два раза в глубоком детстве. Там и спокойнее, и овощей в достатке, да и смена обстановки тоже благотворно влияла на душевное состояние. Мне действительно стало лучше. Меня окружили вниманием, теплотой и заботой. Я отвлеклась и понемногу стала забывать о пережитом кошмаре. О Диме я вспоминала, но реже, чем дома. Иногда мне хотелось написать ему, но в последний момент я передумывала. Что-то удерживало. Я решила, что по возвращении домой сразу ему обо всем напишу.
Проведя все лето в деревне, я ехала домой посвежевшая и похорошевшая. К тому же поправившаяся на целых пять килограммов! Впервые за всю свою жизнь я позволила себе есть все, что хотела и сколько хотела. А поскольку до безумия любила конфеты и булочки и могла их поглощать в неограниченных количествах, то и пять килограммов не заставили себя долго ждать. Я не только не расстроилась, но даже обрадовалась, что наконец-то стала похожа на человека, а не на ходячий скелет.
В день возвращения я написала Диме длинное эмоциональное письмо о всех своих событиях. И сообщила, что скоро приеду на обследование и мы снова встретимся. Дима не отвечал. Я думала, что, возможно, он уехал в какой-нибудь санаторий (Дима еще в больнице мечтал о поездке) и наслаждается отдыхом.
Через неделю я уже мчалась в поезде. Я испытывала двойственные чувства: с одной стороны, не хотелось ехать, поскольку заново предстояло пройти серьезное обследование, для того чтобы убедиться, что со мной все в порядке. С другой стороны, настроение было хорошее: я с детства любила поезда — и вот сейчас он нес меня на бешеной скорости, убаюкивая, словно маленькую девочку. Ну и, конечно, в душе светлело от предвкушения встречи с Димой, и я невольно улыбалась.
Я позвонила ему на домашний телефон сразу, как только приехала. Никто не ответил. Я набирала его номер каждый день, но безрезультатно. «Наверное, телефон не работает, — размышляла я, — но почему его так долго не исправляют?»
Пролетело несколько дней. Я прошла обследование. Мне сказали, что все хорошо, теперь необходимо обязательно раз в полгода наблюдаться у врача, ну и, конечно же, постоянно над собой работать. Но меня почему-то ничто не радовало. Я бродила по больничным осенним аллеям, думая о том, что делать дальше, как жить, чем заниматься. На душе было пусто и холодно. Сердце щемило от боли, хотелось плакать. Я не могла понять, что происходит? Куда ушло хорошее настроение, почему стало вдруг совсем тоскливо и безрадостно? Листья неумолимо опадали с деревьев, покрывая землю желтым роскошным ковром. С каждым днем становилось холоднее. Легкая курточка не по сезону, в которой я приехала, теперь совсем меня не согревала, на прогулках я ежилась от холода, мешавшего спокойно наслаждаться этим осенним великолепием. Наконец все дела были решены и завтра предстояло возвращаться обратно домой. Я брела по узенькой дорожке. Пальцы совсем окоченели. Чтобы согреться, я зашла в главный корпус больницы и, уже ни на что не надеясь, набрала номер Димы. Но, к моему удивлению, на другом конце провода раздался женский голос:
— Алло!
Я узнала голос: негромкий, но четкий и уверенный — это была Димина мама. Когда-то она приходила к Диме в больницу, и я столкнулась с ней в дверях палаты нос к носу. Дима нас познакомил, и мы разговорились, тут же найдя общий язык и темы для общения.
— Здравствуйте! — ответила я, немного разволновавшись от неожиданности. — Могу я услышать Диму?
— А его нет, — последовал ответ.
— Он, наверное, только вечерами дома бывает? — продолжала я. — Мы договаривались, что как только приеду — сразу же ему позвоню.
— Димы больше нет. Он умер.
Мир рухнул. В глазах потемнело, только тут и там пульсировала яркая вспышка, словно взрыв петарды. В этих сполохах я видела, как все плывет вокруг. Предметы ожили и замелькали на невыносимо бешеной скорости. Сердцу стало нестерпимо тесно в груди, и я чувствовала, как оно старается вырваться, убежать. В ушах стоял звон. Оглушительный, пронзительный звон!
Чтобы не упасть, я прижалась к стене. Стена обожгла холодом, словно раскаленными углями. И у меня вырвался какой-то отчаянный, нечеловеческий вопль.
— Алло! Вам плохо? — беспокоился голос на том конце провода.
— Я не знала! Не знала! Не знала! — закричала я, сотрясая телефонную трубку.
— Он умер в июле. Умер в своем уме, только разговаривать не мог, писал обо всем на бумаге.
— Но что случилось? Почему это произошло? Ему делали операцию? — Слезы катились градом, я выговаривала слова медленно, громко всхлипывая в паузах.
— Операцию сделали, но пошли метастазы, потом заражение крови. — Мама Димы тоже плакала, но голос оставался уверенным и ровным. — Ведь такой молодой еще! А у вас как здоровье?— внезапно спросила она.
— Говорят, вроде все в порядке.
— Ну и слава Богу!
— Вы держитесь, — сквозь всхлипы произнесла я.
— Держусь как могу. Спасибо вам!
— До свидания.
— Всего хорошего.
Я повесила трубку. Шатаясь, как пьяная, совсем опустошенная и уничтоженная, я вышла на улицу. Дул свежий ветерок, и я с наслаждением сделала глубокий вдох. Я уже не плакала: кто сказал, что в горе проливают много слез? Это неправда. Иногда достаточно одной слезинки для выражения самых глубинных и искренних чувств. Но у меня слез больше не было вообще. Не было сил, не было эмоций. Я шла по дорожке, глядя вперед невидящими глазами. Почувствовав, что сейчас упаду, прислонилась к дереву. Сентябрьская листва сыпала нескончаемым потоком. Я подняла голову. По небу друг за другом плыли облака. «Где ты теперь, Дима? Слышишь ли ты меня?» Вдруг мне стало легко и спокойно, боль отступила, в голове прояснилось. Я стояла не шевелясь, будто к чему-то прислушиваясь, будто пытаясь уловить чей-то голос.
— Больше всего на свете я люблю смотреть в небо!
— Почему?
— Потому что небо — это души наших умерших близких людей.
— Сказочник ты, Димка, и ничего больше!
Я закрыла глаза. Сомнений не было: Дима меня слышал и берег, как драгоценность, окутывая нежным и ласковым облаком. Я расправила плечи, вытерла слезы и зашагала твердо и уверенно навстречу новой жизни, окруженная светом и теплом неземной любви.
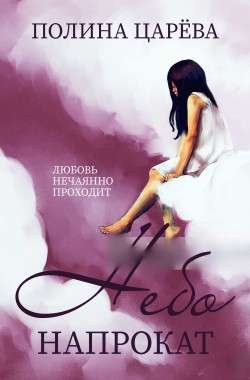





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

