Читать онлайн "О заготовке дров на зиму"
Глава: "Глава 1"
В то лето я проводил студенческие каникулы дома. Предстояло, наряду с другими домашними делами, заготовить «машину» дров. Мне повезло: сосед будто бы ждал мой приезд и предложил совместно отправиться в лес. Для двуручной пилы требуется напарник.
Лес у нашего посёлка мог посоперничать по чистоте и ухоженности с парками (особенно английского типа). Стада коров всё лето добросовестно и неустанно выщипывали в нём траву и мелкий кустарник; редко в каком дворе не было буренки. Выросший после дождя добрый гриб был виден издалека. Местные жители, топившиеся дровами, ежегодно прореживали лес от сухостоя и, для блага его, от загущения, срезали попутно подходящий дубок или сосну для домашнего хозяйства. Рабочие лесхоза складывали валежник в небольшие штабеля.
Берёзовая роща, с которой начинался лес, словно сошла с одноимённой картины мастера пейзажа Архипа Куинджи. В солнечный летний день не было никакой разницы между нашей рощей с белоствольными красавицами и его шедевром света, прозрачности и душевного покоя. (Печально, но она не пережила беспамятные девяностые. Мои одногодки, когда-то собиравшие в роще чуть ли не с мартовских проталин берёзовый сок, срезали её под корень на «баланс» для бумажного комбината. Похожую рощу, надеюсь, сохранившуюся и оберегаемую, довелось видеть в окрестностях тогда Загорска, куда приезжали молодожены из ЗАГса.)
Получив в лесхозе «порубочный билет», мы на следующий день, рано утром, по росе, вооружившись хорошо заточенной пилой и топорами, на велосипедах отправились в лес. Песчаная дорога, ведущая к нему, не способствует быстрой езде, но лучше, чем пешком.
Летний лес тих и безмолвен. Проскрипит где-то длинно-тягуче надломанная буреломом тяжёлая ветка сосны и — опять тишина. Певчие птицы примолкли, заняты птенцами. Лишь вóроны пронесутся с шумом между деревьев и долго будут кружиться с громким карканьем в небе. И неясно тогда, так они встречают непрошеных гостей или же выясняют отношения между собой. Перестук лесного доктора дятла не всегда услышишь. Много работы в лесу, его весь не облетишь. Он сосредоточен в своём деле, здоровое дерево не поранит. Ему некогда кого-либо рассматривать, он не птица-ворон. Да и многих он повидал, в отличие от каркающих.
В зимнее морозное утро, когда промёрзшее дерево не пробьёшь, он, увязавшись с сойками, гостит в ближайшей деревне. Пронырливые сойки быстро подчищают кормушки и подбирают всё съедобное. Он усядется на ветку у окна дома, из трубы которого валит дым, и с удивлением наблюдает за незнакомыми в лесу птицами. Они, как и он, быстро и очень быстро работают клювом, что-то выдалбливая из деревянного корыта. Властвует над ними горластый крикун, с побелевшим от мороза гребешком, покосившемся на бок. Этот горлопан, одним глазом зорко следит за незнакомцем из леса в красной шапочке: «Кто он – ненужный проверяющий или, еще хуже, соперник?» Однако доктор знает себе цену и никогда не опустится до того, чтобы мешать себе подобным в работе. Кто-то увидит его из окна такого редкого гостя — и вынесет ему кусочек мясного, но он уже летит обратно в лес, к сосновым шишкам с мыслью вернуться вновь, но уже без соек.
Верхушки лиственных деревьев, покачиваемые легким ветерком, незаметным внизу, обнимаясь друг с другом, однотонно и усыпляюще шумят, подобно морскому прибою. С усилением ветра лес оживает, слышен уже не шум прибоя, а удары волн о берег. Падает подгнившее дерево, что сопровождается треском веток ближних деревьев. С сильными порывами ветра лес начинает прощаться и с другим рядом своих старожилов: вырываются с корнем или ломаются пополам здоровые ели, березы, осины, а от дуба может оторваться увесистая ветка. Как в бушующем море человеку грозит смертельная опасность, так и буря в лесу смертельно опасна для него. Но гостеприимный лес не подставит человека, не застигнет его буря, как в море, далеко от берега, он предупредит шумом и укроет его на широкой поляне ветками орешника или молодых берез.
Лес в тишине хранит свои богатства. На тихую охоту выходят грибники. Лишь тихо ахнув, увидев на солнечной поляне красный ковер из ягод земляники, устремляется к нему удачливый горожанин. Местным это не в диковинку. В полной тишине летят в емкие корзины или мешки ягоды черники или клюквы. При сборе малины тишину может нарушить сопение довольного любителя сладкого — Топтыгина.
Три дня мы нарушали его тишину, рубили и пилили сухостой. Выносили подъемные бревна к малозаметной лесной дороге и складывали в две равные кучи. Если в одну клали березу, то и во вторую тоже березу, если ольху, то и в другую шла ольха. При этом не определяли, кому какая гора дров достанется.
Срубив высохшую, высоченную осину, (неплохой был бы венец для сруба!), невозможно не плюхнуться на зеленый ковер из мха, припорошенный листьями, на съедение тупых слепней (комаров почти нет, только мошка лезет в глаза) и, лежа, считать за кукушкой оставшиеся года. Это и есть отдых в прямом смысле этого слова. Иногда слышишь вежливое: «Как вы отдохнули?» А было ли отчего уставать?
Припекает из-за деревьев июльское солнце. Мой сосед, Владимир Михайлович, командует:
— Обед. У нас с ним почти одинаковая снедь: бутылка молока, заткнутая промокшей пробкой из газетной бумаги; пара яиц, две-три картофелины «нелупки», то есть в «мундирах»; огурцы, черный хлеб и, конечно, по куску сала. У соседа еще поллитровая банка с борщом, закрытая пластиковой крышкой. Я же отдыхаю от ежедневного борща.
Разводим небольшой костерок, как бы отгоняя мошкару, но главное его назначение в другом. Заостряем тонкие прутики орешника и на них поджариваем нарезанные шматки сала. Шкворчащее сало синими огненными каплями в начале падает в костер, вспыхивая, выбрасывает вверх мельчайшие цветные брызги лесного салюта, затем — на подставленный хлеб, промасливая его. Поджаренное сало таким способом с ржаным черным хлебом оправдывало все неудобства работы в лесу. Обед заканчивается перекуром.
Владимир Михайлович, переместившись чуть подальше от костра, расположившись поудобнее спиной на тонкую рябинку, повесив на ее сломанную ветку хорошо поношенную железнодорожную фуражку, утерев лоб рукавом рубашки, приступает к небыстрому церемониалу курения самосада. Вперев взгляд куда-то вдаль, он желто-прокуренными пальцами нащупывает в кисете табак и определяет его количество, отложив кисет на колени, он отрывает ровный листок газетной бумаги, заранее сложенной в виде буклетика, слегка сгибает, высыпает на него щепотку табака из кисета, слюнявит краешек листка, склеивает и прикуривает тлеющей веткой из костерка. Я же довольствуюсь готовыми папиросами и, как столичный студент, курю дома «Беломор». Угощаю им соседа, тот отказывается: «Его, мол, слаще». Пущенные соседом сизые кольца дыма достигают меня, и я уже с ним согласен: он мягче, с табачно-домашним ароматом в отличие от моего резко-никотинового фабричного изделия. Владимир Михайлович, как бы невзначай, наблюдает за мной и улыбается глазами. Я молча слегка покачиваю головой.
По окончании работы мы полчасика выкраивали для сбора грибов. У Владимира Михайловича грибами были только лисички, из-за супа с ними он готов был потратить время. Сказал также, что может легко съесть несколько сырых сыроежек. Он не был особенно разговорчивым, а говорили мы с ним много: по дороге в лес и обратно, во время перекуров и обеда. Осталась в памяти только грибная тема и никогда не касались прошедшей войны.
Он был отцом моего товарища. В их доме на полу мы играли с ним военными медалями и, наверно, орденами. Витька, его сын, выносил их и на улицу. Владимир Михайлович был фронтовиком, по полученным неюбилейным медалям (юбилейных тогда ещё не было) воевал он на передовой. Кем он там был, я не знаю. Фронтовику в лесу тогда минуло чуть больше пятидесяти. Нам, молодым, казалось, что они, воевавшие будут жить ещё долго-долго, а о войне лучше, чем в кино, никто не расскажет. Да и русский солдат, вынесший на себе все тяготы войны, был небольшой мастак и охотник до длинных рассказов. Победил, остался жив и — ладно. Только спустя годы сожалеешь об упущенной возможности услышать от фронтовика окопную правду о войне.
Когда привезли дрова и я их колол у своего дома, подошёл ещё один сосед. На улице даже самые мелкие события при остром их дефиците не проходят незаметно. Немного поговорив, он задал интересующий его вопрос:
— Как ты согласился с Володькой дрова заготавливать?
На мой недоумённый взгляд он пояснил:
—Тя-же-лый человек, всё должно быть только по-его. Ты же к нему ни на какой козе не подъедешь, если ему это не надо.
Они были примерно одного возраста, и чувствовалось, что в совместной работе уступать друг другу не хотели.
У Владимира Михайловича были свои небольшие козыри, на которые могли натыкаться соседние козы. Он, в отличие от большинства соседей, хорошо разбирался в технике, работал на железной дороге машинистом мотовоза. У них был старенький минский мотоцикл, который практически никогда не был на ходу. Мотор его постоянно перебирали, чинили по очереди отец с сыном. Знал электрику, например, свет в наш дом проводил он. Выпивал чуть больше, чем некоторые, но значительно меньше тех, кто сильно пил. Так, его ближайшего соседа конторского служащего, часто угощаемого на работе, — его жена зимой привозила домой на салазках, чтобы не замерз по дороге. Владимир Михайлович такого себе не позволял.
Он остался в моей памяти с улыбающимися глазами пожилым человеком — с нашей разницей в тридцать лет — и совсем молодым фронтовиком, годы юности которого совпали с войной.
Вернемся к дровам. Нужно было их порезать, поколоть и сложить. И с порезкой мне повезло. На «бюллетене» со сломанной ногой в гипсе находился дома Коля, сосед, рабочий московской фабрики и тут же скучал мой друг Виктор на каникулах. У Коли была отцовская бензопила. Сделали невысокие козлы, на которые с Виктором клали бревна, а славный Коля, стоя на костылях, падал с работающей бензопилой прямо на объект, и мы только отбрасывали чурки и подвигали бревно. В течение нескольких часов машина дров была распилена. Отнесли в дом Коли бензопилу, где он нацедил из фляги резиновой трубочкой в литровую банку шестидесятиградусного самогона (спиртометром он подтвердил) — чистого, как слеза ребенка, — и мы вернулись ко мне отметить трудовой успех. Николай был старше нас с Виктором на три года, вдобавок выполнил блестяще основную работу, что позволило ему сразу занять место ведущего за столом. Был он женат на лимитчице и они получили уже комнату в самом центре Москвы, напротив Кремля, рядом с кинотеатром «Ударник». Мы его поздравили, выпили.
— Пока приглашать к себе не буду, есть проблема.
Коля сделал паузу, думая, рассказывать дальше или нет. Мы мгновенно, легко связали эту проблему с его женой, неизвестной нам. Коля также, наверное, подумал о ходе наших мыслей, об известной часто проблеме и, чтобы полностью её развеять, сказал:
— Садимся с женой есть и берем в руки газеты.
Мы с Виктором переглянулись — совсем неожиданный поворот. В это время с приготовленной яичницей на веранду вошла моя мать. Коля продолжал:
— Газеты берем, чтобы закрыть тарелки от падающих с потолка тараканов. Их полчища на общей кухне, а наша комната —ближайшая к ней.
Мать, удивившись от сказанного, остановилась и спросила:
— Почему дустом не травите, дустом?
— Нельзя, теть Валь, запрещено.
— Травить?
— Нет, дустом.
Тараканы тогда у нас в доме только по ночам выскакивали из-под печки, были большие, чуть меньше в длину спичечной коробки, черные, напоминавшие жуков-скарабеев. Выхваченные из темноты зажженным светом, они, а чаще всего один – горькая одиночка, опустив вниз усы, бросался в спасительное подпечье. И никогда не было желания его прихлопнуть тапком, он был как бы домашний. Может быть, имелись и приметы на их счет, как о пауках, которые приносят деньги. Представляю какую апокалиптическую картину в воображении матери нарисовал своим рассказом Николай. Московские же тараканы, расплодившиеся повсеместно в следующее десятилетие и вплоть до Чернобыля, были небольшие и много-много мелких, коричневого цвета.
Коля перешёл к другой теме, более реально воспринимаемой.
— Дали мне путевку в подмосковный профилакторий, отдохнуть и подлечиться.
Важно начал Николай, дав понять, что не каждому это могут предложить на предприятии, а надо заслужить хорошей работой. Мы, показываем, что все во внимании, слушаем.
— Зима, холод, поехал на электричке. Долго искал по сугробам, обматерился, пока нашёл, устроился, было уже после обеда. В комнате на четверых никого. Примерно через час, вваливаются с мороза мои однопалаточники и приносят целую сетку водяры, восемь бутылок, почти без закуски. Я подумал на весь срок. Стали пить. Меня пригласили. Я за компанию пару стопок выпил, а они гудели всю ночь. Утром, пока все спали, собрал вещи и смотался. Вот так лечатся.
Посочувствовали Коле, помолчали, выпили. Тут я не к месту у него спросил:
— Не слышал ли он о вышедшей повести «Дом на набережной», о соседнем доме?
— Не слыхал, и что есть там о тараканах?
— Нет, там о других.
Коле это не понравилось, как бы опровержение его рассказу. Да и зачем было к сказанному возвращаться, поговорили и хватит.
— Я стихи люблю… Есенина… песни Высоцкого. — недовольно сказал он. —Может, споём?
Спиртное заканчивалось, мы, пожав плечами, отказались. Коля нахмурился, окинув каждого взглядом, сказал:
— Выпьем теперь за «того» парня!
Мы подняли стаканы и с Виктором потянулись чокаться. Коля, быстро восстанавливаясь в своей роли старшего, запретил:
— Не чокаясь!!
Выпили, покурили и Коля с улучшившимся настроением задал вопрос:
— А вот ответьте мне, студенты-москвичи, кто написал: «…лежат в земле сырой / Сережка с Малой Бронной / и Витька с Моховой»?
Мы начали перечислять живущих поэтов. Коля прервал:
— Не знаете! Ваншенкин!
Наше невежество в поэзии было налицо. А на лице Коли торжественная улыбка: «Вот вам дом на набережной без тараканов, ловите!».
Расстались до вечера, и в дни, когда не было танцев в парке, играли втроём в карты: покер, кинг, преферанс. Ставки были копеечные, а страсти тысячные. Постоянно курили, и когда курить было нечего, однажды, запасливый Коля достал новую пачку «Дымка» и объявил:
— Буду с каждого выкручивать после игры за сигареты.
Слово «выкручивать» в смысле «высчитывать», исчезнувшее сейчас, уже тогда, в семидесятые, вызвало у нас улыбку. Оно, похоже, еще сохранялось в рабочей среде, очевидно, с того времени, когда в годы войны и первые послевоенные государство в обязательном порядке изымало (выкручивало) часть зарплаты на покупку облигаций. Спустя десятилетия они были погашены.
Оставалась колка дров. Современных колунов у нас не было, кололи под затупившимися старыми топорами. Чтобы расколоть машину дров, требовался примерно день работы: дрова должны были быть свежепорезанные, лиственные, с небольшим количеством дубовых комлей. Это постоянно демонстрировали отпускники из города, коловшие дрова у родителей или у одинокой сестры. Улица за этим негласно наблюдала, поскольку дрова выгружались перед домом. Были у нас и такие молодые люди, которые начинали рано утром, а когда соседи шли с завода на обед, то они непременно интересовались:
—Заканчиваешь?
— Да, осталось немного.
Или же такой диалог:
—Так ты, что всю машину переколол?
—Да, было бы что.
Навыки в этом деле ребята с нашей улицы приобретали рано и не дома, а на школьном дворе. Один из филиалов средней школы с печным отоплением находился через забор с нашим огородом. Завозилось летом несколько машин с порезанными на чурбаки дровами, оставалось только их поколоть. На эту работу нанимался каждое лето один и тот же человек по имени Максим. Для нас мальчишек он по возрасту представлялся древним стариком, был невысокого роста, сухощавый, седой, чуть сгорбленный.
Он приходил в светленькой рубашке, один пустой рукав которой был заправлен под ремень, на плече приносил два связанных топора. Жил он на соседней улице, его жену, имени которой мы не знали, звали Одноручкой, была без кисти руки. Их старший сын, довоенного года рождения, не имел до колена ноги и звали его Иван-Культя. Случилось с ними такое несчастье одновременно или порознь мы не спрашивали. Был у них еще сын Кадрусь, видимо, страдавший сколиозом позвоночника. Он трудился аккумуляторщиком в «Сельхозтехнике» и всегда ходил на работу в белой рубашке с черным галстуком на резинке. У нас это было так необычно. Только районное начальство и директор школы соблюдали подобный дресс-код в одежде. Кадрусь в отличие от литературного Кадрусса, был добрейшим парнем. Прохожие, встретившиеся с ним, уже издали улыбались, он улыбался в ответ. Мужа благополучной дочери Максима звали Гаврош. Культурный свет, исходивший через районную библиотеку от французской классики, таким образом, падал и на наше селение.
Максим колол дрова одним единственным способом. Если он ударом топора не раскалывал плаху, то обухом второго добивал её. Приходилось иногда ударять раз за разом. Впервые увидев его мучения, мы бросились за топорами и стали ему помогать. Пока, не переколов все привезенные дрова (а это занимало не один день), мы не уходили; самые младшие относили поленья в сарай. Какой-то благодарности мы не ждали. Однажды нам помешала гроза. Прихватив чурбаны для сидения, спрятались в школьном дровнике. Максим, зажав коробку спичек под коленку, зажег спичку и прикурил «Махорочную». Вместе с ним, обжигая брови, один из наших ребят прикурил «бычок», найденный в песке на дороге. Гроза усиливалась. Дверь сарая прикрыли, оставили маленькую щель для выхода дыма, через которую проникали отблески молний. Прижавшись друг к другу, смотрим на разгорающиеся и затухающие в темноте огоньки курящих. Неожиданно, молчаливый старик вдруг спросил:
— Может кому батька рассказывал, как ездили мужики на заработки и везли покойника?
Мы хором:
— Нет, не слышали.
Я слышал, что отец ездил на стройки первых пятилеток, но ничего не было о покойнике.
Максим еще помолчал. Это была его посильная благодарность за наше участие.
— Было это сразу после войны. Жить было не на что. Собиралась родня: братья да зятья, сваты да кумовья и ехали бригадой в города восстанавливать заводы. Вот такая бригада работала кровельщиками на стройке. Трудились, не покладая рук, с утра до позднего вечера. Спешили заработать. И впотьмах, да без опыта, один брякнулся с верхотуры.
Что делать, как быть? Отвезти домой — на машине денег не хватит. Здесь хоронить дома не поймут. Родня всё же. Решили отправить двоих молодых с ним на поезде. Купили билеты на троих. Подтащили к вагону под руки. Проводница, не впервые видевшая мертвецки пьяных пассажиров, даже лицо не искривила. Вагон общий. Затащили в вагон и положили на третью полку боком к стенке. Освещение в вагоне было такое, что бабу от мужика не отличишь. Обрадовались сопровождающие удачной задумке, выпили трошки и легли спать, ехать было далеко. А сами думают, в случае чего скажем: скончался по дороге. На следующий день, на одной станции, вышли они на перрон покурить и встретили земляка с этого же поезда. Пошли к нему поговорить. А в это время на их места подсел новый пассажир. Отдохнув, он решил убрать свой чемодан из-под ног на третью полку. Чемоданы тогда были деревянные из шелёвки, оббитые по углам железом. Вез он продукты, пуда два сала. Махнул он чемодан на полку, а тот летит обратно, еле удержал. Посидел он, посидел и пробует еще раз туда забросить чемодан, и вновь тот скатывается назад. Полез пассажир посмотреть, в чем же дело, а там человек лежит уже холодный. Видать, шарахнул он его углом чемодана. Рядом никого. Нехороший был пассажир, спекулянт. Открыл он окно и спустил в него с верхней полки покойника.
Возвращаются сопровождающие. Познакомились, поговорили. Кто-то глянул на верхнюю полку, а там чемодан. Вскочили, всполошились.
— Там Семен лежал, где он?
— Встал ваш Семен и спросил о каких-то хлопцах.
— А я что, никого не видел. Помог он чемодан забросить и пошел их искать.
— В какую сторону?
— Не заметил.
Озадачились мужики: получается очухался, может сам доедет. Стали ждать.
Когда Семен вылетел из окна, поезд шел по мосту, и покойник прямехонько угодил в реку. В это время там рыбаки глушили рыбу. Бросали связки гранат, которых тогда было навалом. Смотрят — всплывает вместе с рыбой мертвец.
Новый, оглушительный удар грома. словно от взрыва связки гранат, прервал рассказчика.
Старик перекрестился и прошептал:
— Свят, свят, свят.
Барабанивший по шиферной крыше дровника, дождь стал быстро затихать. Открыли дверь. Напротив нас, на соседней улице, с треском вырывалось пламя с горящей крыши дома.
Кто-то успел спросить Максима:
— А что было дальше?
— Отнесли рыбаки покойника на шоссейку.
Но мы уже не слушали, рванули по лужам наперегонки к разгоравшемуся пожару.
В восьмидесятые наш поселок газифицировали, и потребность в дровах отпала. Лес с того времени стал приближаться к подмосковно-непролазному, упавшие ели которого с вывороченными корнями надёжно его защищают от проникновения людей. Угнали пастухи последние стада, так как некому было встречать и рано утром провожать кормилицу-корову: ушло навсегда то поколение тружениц и тружеников, не представлявших без нее сельскую жизнь. Зато лесные звери с облегчением вздохнули, стали размножаться и обозначать границы своих владений вплоть до жилых домов.
Все со временем меняется. Часть нашего брянского леса объявили заповедником и теперь под сенью рощ и дубрав, сохраняемых на века для будущих поколений, на вновь проторенных дорожках и тропах мирно уживаются человек со всеми лесными обитателями.
9.11.2025, Кисловодск
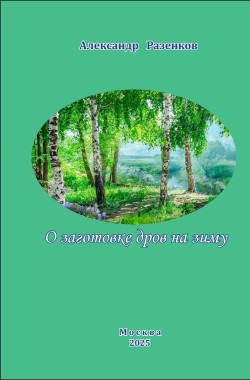





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

