Читать онлайн "Однажды ты раскаешься. Новогодняя ночь"
Глава: "Тэйт"
Что для вас Новый год? Каков он? Может быть, он проходит в шумной компании друзей, смеющихся над созданием причудливых коктейлей? Или в семейном кругу у большой ёлки, за разворачиванием многочисленных подарков и долгожданным праздничным столом?
Да, наверное, так и бывает у большинства. Но не у меня.
Мой праздник начинается вне дома — среди множества свечей, свет которых озаряет скульптуры и стены. Запах еды здесь заменяется тонким ароматом воска, а шум попросту недопустим, ведь в церкви не шумят. Отец любит встречать Новый год с молитвой, и это неудивительно: он пастор. Человек веры и долга, тот, кому все эти излишества не нужны. Вхождение в Новый год с чистым сердцем и обращёнными к Богу мыслями — вот что важно. Так он всегда говорил и говорит до сих пор.
Пока мы с мамой зажигали свечи у алтаря, в голове, вопреки стараниям, роились мысли. Я много думаю в последнее время, но, если честно, такое со мной впервые.
За все мои двадцать один год я всегда встречал праздник с семьёй, и я не жалуюсь. Нет. Но почему-то именно в этом году я ловлю себя на том, что пытаюсь представить, каким бы он был, встреть я его не здесь. Например, у озера, в уединённом домике, или в горах. Там, наверное, так красиво.
«Господи, прости меня за эти мысли». Я не жалуюсь. У меня есть всё, что нужно: кров, семья, своё место в этом мире. Я доволен. Но почему же тогда иногда, в самые тихие моменты, накатывает такая грусть? От осознания, что в моей жизни нет ни шумных друзей, ни девушки…
Девушка…
Мысль оборвалась, едва успев оформиться, сметённая резким, но привычным звуком.
— Тэйт!
Голос отца прозвучал негромко, но с той неоспоримой твёрдостью, что мгновенно возвращала к реальности. Он не кричал. Он просто позвал, и этого было достаточно, чтобы все посторонние картины — озёра, горы, несуществующие лица — рассыпались в прах.
Я вздрогнул и поднял голову. Отец стоял рядом, держа в руках толстый молитвенник. Его взгляд, проницательный и усталый, скользнул по моему лицу, будто читая на нём следы блуждающих мыслей. Но он ничего не сказал.
— Пора приготовиться, — произнёс он спокойно. — Скоро двенадцать. Нужно зажечь остальные свечи и открыть двери для прихожан. Год должен начаться правильно. С чистого сердца и сосредоточенного духа.
На мгновение он положил тяжёлую руку мне на плечо — не жест утешения, а скорее напоминание о долге, о присутствии здесь и сейчас, а потом развернулся и направился к алтарю.
— Да, отец, — я глубоко вздохнул, чувствуя, как последние намёки на горный воздух и озёрный бриз выветриваются из лёгких.
«Год должен начаться правильно», — повторил я про себя его слова. А это значило — без посторонних мыслей, без сожалений, без лишних вопросов.
Я поправил воротник на своём простом чёрном пальто, взял коробку с тонкими восковыми свечами и принялся расставлять их в подсвечники вдоль скамей — механически, точно, как делал это много раз. Каждое движение было отлажено, каждое действие — часть ритуала, который не оставлял места для «а что, если…».
Больше искушающих мне мыслей не возникало.
Поставив последнюю свечу на место, я занял позицию слева от алтаря, как всегда. Мама встала напротив, а отец возвышался между нами, у кафедры. И когда в церкви воцарилась торжественная, густая тишина, он наконец открыл молитвенник и начал читать.
Его голос, низкий и ровный, наполнял пространство, обволакивая каждое слово привычной, почти гипнотической интонацией. Я закрыл глаза, как того требовала служба, и полились слова, знакомые до боли: благодарность за милость в уходящем году, просьба о мудрости и силе в наступающем, ограждение от искушений, о здравии для паствы…
Я пытался вникнуть в смысл, пропустить слова через сердце, но под сомкнутыми веками вновь всплывали образы. Не горы и не озёра на этот раз совсем другие: чёрные волосы, рассыпанные по плечам, широко раскрытые глаза, в которых таилась вечная грусть, и губы — аккуратные, бледные, пухлые…
«Господи, прости…» — механически отозвалась во мне заученная часть молитвы, но к кому были обращены эти слова сейчас — к Богу или к призраку из прошлого, — я и сам не знал.
Голос отца нарастал, обретая мощь и твёрдость, стремясь заполнить собой каждую пядь святого пространства. Но на этот раз ему противостоял другой звук — не тишина, а вторгшийся извне гул.
Сначала это были смутные, приглушённые хлопки, будто далёкие раскаты грома. Но они крепли, учащались, сливаясь в сплошную, рокочущую канонаду. Это был салют мощный, безудержный, взрывающий небо над спящим маленьким городком.
Отец не остановился ни на секунду. Наоборот, его голос, будто бросив вызов этой мирской грозе, зазвучал ещё твёрже, ещё громче, превратившись в почти металлический речитатив. Он вбивал слова молитвы в этот хаос, как кованые гвозди: каждое «Господи» и «спаси» было ударом молота по наковальне, пытающейся заглушить праздничную бурю за стенами.
Я стоял с закрытыми глазами, сжав веки так, что перед ними замелькали звёзды. Руки были стиснуты в кулаки за спиной. Я пытался ухватиться за знакомый голос отца, за нить молитвы, но она рвалась, уступая натиску вторгавшегося извне гула. И вопреки всему — вопреки святости места, вопреки долгу, вопреки строгому лицу отца, которое я ясно видел внутренним взором, — по моему лицу против воли поползла улыбка.
Тихая, украдкой вырвавшаяся, она теплилась в уголках губ, которых я не мог сдержать. Потому что я знал: в этом городе, с его размеренными, предсказуемыми праздниками, больше никто не смел так буйно, так безрассудно сотрясать небо. Никто, кроме Фрэнка, которого уже не стало, и его дочери, которая вернулась месяц назад.
Только она могла привезти с собой этот шум, этот свет, это дерзкое, живое веселье, которое теперь прорывалось даже сюда, в самое сердце тишины. Каждый оглушительный хлопок, каждое шипение взлетающей ракеты были для меня словно её беззвучное послание, её смех, разорвавший привычный ход моей ночи.
И в тот миг, когда отец, перекрывая грохот, изрёк финальное, победоносное «Аминь!», а мы с матерью автоматически, почти не слышно, повторили за ним, — в этот самый миг самый мощный залп раскрасил небо за витражными окнами всполохами багряного и золотого. Свет, призрачный и цветной, проник внутрь, на мгновение озарив лицо отца, матери и моё, на котором ещё не успела стереться эта предательская, восторженная улыбка.
Я открыл глаза. Свечи плясали в потоках воздуха от сотрясения. Год начался не в благоговейной тишине, а в оглушительной какофонии, где слово Божие схлестнулось с громом земной радости.
Тишина после «Аминь» была наполненной, но уже иной. Отец медленно закрыл молитвенник и обвёл взглядом церковь — его лицо было спокойным, умиротворённым, в уголках глаз легла сеточка морщин от лёгкой, понимающей улыбки.
— Да, сразу видно, чья дочь — Алекса Ридуэй. Фрэнк обожал запускать салюты… — произнёс он задумчиво, а затем повернулся ко мне. — Тэйт, ты открыл ворота?
Я медленно покачал головой.
— Сходи, открой. Пусть свежий воздух войдёт. И кто знает, может, кто-то из соседей, проводив старый год со своей семьёй, захочет зайти и тихо постоять, помолиться о новом.
— Конечно, отец, — ответил я и направился к дверям.
Тяжёлые створки отворились с тихим скрипом, и в церковь ворвался не просто морозный воздух, а целый мир звуков и ощущений. Гул уже стихал, переходя в отдельные, редкие хлопки, но ночь была живой, дышащей.
Стоя лицом к церкви, я смотрел, как её тёмный силуэт возвышается в ночи. Сюда я пришёл за утешением, за тишиной, за напоминанием о своём пути.
Но покоя не находилось.
С конца улицы, от дома Эбигейл, донеслась громкая, но плавная музыка. И смех. Детский, радостный, и… её. Тот самый, редкий и настоящий, который я слышал лишь пару раз и который узнал бы из тысячи. Он громко и чётко выделялся на фоне ночной тишины. Она была там. И одним лишь своим присутствием нарушала привычный порядок вещей, внося в спящий воздух городка непривычную вибрацию жизни.
Я медленно повернулся, подчиняясь необъяснимому импульсу, и пошёл к железным кованым воротам, что отделяли церковный двор от улицы, но не открыл их, а лишь коснулся руками прутьев. Металл был леденящим под пальцами.
И стоял так, застывший между двух миров, думая о ней.
Она сама того не понимая, привезла с собой жизнь. Не ту, что коптится здесь веками, пропитанная затхлостью и покорностью, а другую — яркую, дерзкую, дышащую полной грудью. Она вдохнула её в этот мёртвый городок одним лишь своим присутствием, как вдохнула когда-то в мою, выстроенную из молитв и запретов жизнь.
В небе над их домом снова что-то грохнуло, и ночь расцвела. Искры — алые, золотые, сапфировые — рассыпались по чёрному небу самыми прекрасными и самыми болезненными цветами, какие я когда-либо видел. Такие же искры прожигали меня изнутри каждый раз, когда я позволял себе на неё посмотреть.
Я отвернулся от света и шума, прислонился всем телом к ледяным прутьям ворот и снова устремил взгляд на купол церкви, выпуская изо рта пар. Закрыл глаза, но всё равно видел её перед собой — не такую, как сейчас, смеющуюся в свете фейерверков, а ту, что была тогда. В школьной толпе. Когда она, вся в отчаянии, выполнила то, что от неё требовали. В её глазах, полных стыда и ужаса, я увидел себя — не спасителя, а мучителя. И это был единственный раз, когда она действительно обратила хоть какое-то внимание на меня.
И теперь эта девушка вернулась, чтобы снова перевернуть мой мир с ног на голову. Чтобы смеяться под чужую музыку и зажигать огни в небе, которое я привык видеть лишь в молитвенном смирении.
«Алекса… Может быть, и к лучшему, что ты меня забыла…»
Весь сюжет вы можете прочитать в романе «Однажды ты раскаешься».


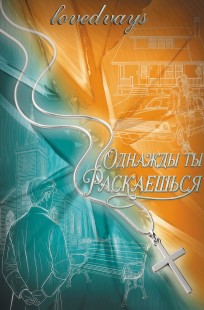





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

