Читать онлайн "Бычий Рост"
Глава: "Untitled"
Дунаев Виктор
Бычий рост
ГЛАВА 1. РОБИН
Я заглянул именно в этот бар. После прибытия в Новый-Амстердам лучшее, что стоит сделать, — отыскать и зайти в первый попавшийся бар или кафе. Размять ноги и оклематься после долгой поездки в душном автобусе.
На этот раз я приобрел автобусный билет из Филадельфии, который всего за час (без остановок) доставил меня в город, где я вырос и который мне знаком как ни один другой. Хотя даже в названии города Новый-Амстердам есть слово «Новый», мне этот город видится старейшим и быстро стареющим городом Северной Америки. И сколько же аргументов против этого я выслушал, но никто не мог доказать мне обратное. Если Бруклин — это и впрямь живущий за счет своего большого брата город-спутник, то Бруклин вобрал в себя все самое лучшее и приумножил; Бруклин — вот кто по-настоящему достоин именоваться Новый-Бруклин.
Стоило только автобусу подъехать к Новому-Амстердаму поближе, как всполохи рекламной пиротехники и желтые лампы на фонарях подарили тот желтоватый светлячковый свет, от которого я за время поездок по бездорожью начал отвыкать. Даже утреннее солнце не светит в мои зрачки так, как светит и поблескивает реклама, что расставлена как под линейку на каждом хорошо просматриваемом углу. Подобное световое шоу почти не отбирает внимания у зевак и водителей, ждущих зеленого света на светофоре.
Каждые пару минут в бар входили новые люди, поодиночке или парами, столь же молчаливые. Пожалуй, бармены сбились со счета, сколько уже клиентов видели сегодня. Время тянулось. Новые посетители продолжали стекаться — явно лишь из любопытства или в поисках теплого места у стойки, где «старым приятелям» наливают за счет заведения. В обычных барах такой номер бы не прошел: бармены знают проблемных клиентов в лицо и не наполнят рюмку, пока не погасишь долги.
К счастью, в городе каждый день открываются и закрываются новые бары, а персонал там меняется чаще, чем вывески. Обнулить счета и раствориться в толпе не составляет труда — целая наука, которой многие мои знакомые давно овладели. Они приняли роль вечных неплательщиков и на этом, по сути, выживают: бармены, отпускающие спиртное «до получки», — одновременно банкиры и коллекторы в одной персоне.
Послышался звук, похожий на отдающий эхом собачий вой. По правую сторону от меня в полудреме лежал мужчина в вязаной шапке, хотя я был абсолютно уверен, что на улице зной и шапок уже как месяц никто не носил. Всхлипывает и бормочет что-то нечленораздельное, облокотившись на стол так, что лица не видно; похоже, он спит или пытается заснуть. Мне не следует его будить. Прочие люди, сидящие за барной стойкой, не сильно отличаются от спящего за столом мужчины в шапке: пьют модные коктейли, и только я ничего не выпиваю, кроме сока. Благо свободных мест за баром предостаточно. По удивленным бровям бармена ясно, насколько нечасто он ставит перед непьющими бутылку вишневого сока, но не прогоняет. Я присосался к горлышку бутылки, пока в ней ни капли не осталось.
Вид у людей за барной стойкой скользкий и, быть может, противный, но молчаливые выпивохи — люди вполне безобидные, по крайней мере пока их тела не переварят весь залитый в них, расслабляющий мышцы спирт. На меня замахивались люди куда страшнее пьяниц — те, кто крепко сжимали в руке перочинный нож, — и все равно не могли даже царапнуть меня, не то что полоснуть. Пускай я слабее привычных посетителей пивных, но бегаю куда быстрее, да и что стоит сбежать от пьяницы?
Мои путешествия по континенту не ограничивались побегами от любителей баров; скорее, шевелить ногами — то, с чем приходится порой столкнуться. Мастера боевых искусств не привыкли убегать от опасностей. Вместо трусливого бега они оттачивают защитные приемы на обидчиках, боксируют, но, как по мне, их приемы подходят только для самозащиты, но никак не для нападения, а ведь только упреждающий удар и может защитить. Все единоборства, что не созданы ради развлечения, как, скажем, сумо, — просто глупости. Мне привычно так считать, хотя сам я никогда не начинаю драку первым, но как начнется битва, тут же мои руки становятся развязными: я уже не смогу себя сдержать и имею право защищаться по своему усмотрению.
Мысли о самообороне часто навещают меня именно в дрянных барах и забегаловках — не потому, что эти места опасны, но сам воздух, звук и контингент подобных заведений так и подталкивает к пустому насилию. Играешь себе с компанией друзей в бильярд, как вдруг спустя час игроки уже колошматят киями других любителей игры в сквош. В таких потасовках мне также не приходится принимать участия, только в скуке начинаю про себя болеть за тех или иных, словно я вблизи смотрю бои без правил и рефери.
Рукой я ощупываю карман: по-прежнему в нем лежит полусмятое приглашение на льняной бумаге, где в нескольких местах остались следы клякс от перьевой ручки. Впрочем, на приглашениях, что зовут посетить похороны, чернильные кляксы вполне уместны, словно их специально оставили для красоты. Содержание конверта не обязывало к чему-либо, кроме как быть вовремя в назначенном месте и в назначенное время. Мне, как и многим получателям этих приглашений, вовсе не было нужды посылать их, ведь охрана так и так пустила бы “родственников” внутрь.
Как гостю мне следует привести себя в порядок перед появлением на свет, но, похоже, наведение марафета именно сейчас — это меньшее из того, что я собирался сделать в этот день. На похороны принято приходить во всем черном, а я и не против такого дня: следует надеть одежду поприличнее да почернее. Похороны — это тоже немалый повод надеть лучшее, но я уже предвижу, как каждый, кто приехал проститься с Брюсом, будет одет в мой будничный гардероб. Впрочем, сколько похорон мне ни доводилось посещать, всегда найдутся припудренные старушки, что не боятся прийти во всех цветах радуги.
В семейной династии Грантов, к которой принадлежу и я, все повально желтоглазые; эта отличительная мелочь помогает легко определить, сколько же на самом деле настоящих Грантов и прочих родственников Брюса сегодня собралось. Я присматриваюсь повнимательнее к глазам и цвету радужки приглашенных… и, как следовало ожидать, я оказался в числе единиц приглашенных с желтыми глазами, что не могло меня не радовать. Я не наблюдаю никого из приемных детей Брюса или, как мне стоит их называть, «сводной родни». Пожалуй, Феликс и Даяна прибудут с минуты на минуту… если вообще собирались сюда наведаться.
По всей видимости, я должен чувствовать себя тем приемным сыном, что лишился опекуна, и должен горевать, но я (как и Феликс с Даяной) уже преждевременно простился со стариком Брюсом еще в тот день, когда его поместили в лечебницу… За сотни миль от лечебницы Брюса у меня не было никакой возможности прийти и его проведать. Все, кто имел к Брюсу родство, стали регулярно навещать и, несмотря на спутанные слова Брюса, понимали большую часть того, что он бормотал. Тот Брюс, что лежал на последнем издыхании, уже был не в силах проводить время на ногах и встречал гостей только лежа в больничной кровати, лишь иногда садясь во время обеда. В конечном счете большую часть времени Брюс спал и просыпался в момент прихода медперсонала или знакомых лиц. Лекарства слабо действовали, и в последние недели жизни врачи стали давать все больше болеутоляющих, понимая, что привычное лечение уже не имеет эффекта.
Общение Брюса с медбратьями сводилось к отдельным фразам и повторению вслух своих симптомов, которые не менялись. Не мучая себя надеждами, он всё понимал, и его кончина оставалась всего лишь вопросом пары лет. О выздоровлении не было и речи. Возраст Брюса — восемьдесят шесть лет — не помогал выздоровлению. Этот апрель стал для Брюса последним. Медицина сделала все что могла, хотя были опробованы не все возможные методы лечения. Брюс умер достаточно быстро и, как заверял медперсонал, безболезненно. Конечно, прогресс принес немало средств, как и чем сгладить боль страждущим или помочь вовсе неизлечимым людям. По крайней мере, своевременная медицина не навредит, от самой заботы больным уже становится чуть лучше.
Мне неизвестно, да и неинтересно было знать, какими именно методами лечили Брюса. Насколько медперсонал помог отойти из жизни самым безболезненным образом — тем образом, которого желает каждый из умирающих. Просто наступает тот день, когда пациент съедает сытный ужин, не отходя от кровати, весь день проводит в радостях, а вся боль исчезла, как и не было. Ложится спать и больше не просыпается — такого итога я пожелал бы всем, и себе в том числе. Правдоподобная картина событий, и хотя я совсем не верю врачам и их заверениям, безболезненная смерть Брюса звучит весьма правдоподобно. Я в это с трудом, но верю: Брюс уже далеко не мальчик, да и медицина еще не научилась творить чудеса даже за любые деньги мира. Как ни цинично это признавать, время Брюса на Земле истекло.
Я не оплакивал его смерть, когда только узнал о ней, и не плачу сейчас. На других приглашенных гостях я тоже не заметил слез… Для гостей было расставлено предостаточно столов с угощениями; за каждым столиком сидят женщины — женщины, которые выглядят как чьи-то матери, им уже хорошо за сорок. Только их детишек нигде не видно: похоже, за детьми присматривают отцы, пока жены здесь веселятся. Многих гостей я знаю как друзей семьи. Другие мне знакомы еще со времен, когда я был карапузом в детской коляске.
Многие из еле запомнившихся людей хорошо состарились, их вид практически не изменился. Даже неразбавленная выпивка, сомнительный темп жизни и жирнейшая еда никак не сказались на их красоте, напротив, часть из них стала только краше. Похоже, телесный кровоток по-прежнему протекает по их уже не юным телам, а старческая немощь обступает этих людей стороной, как волчицы обходят огонь костра. Большинству приглашенных из тех, кого я вижу, перевалило за сорок, но выглядят они никак не старше тридцати.
Низкородный тяжкий физический труд изнашивает каждый мускул, каждый микрон тела. Уже к тридцати годам планомерного надрыва спины легко выглядеть на десяток лет старше. Современники сэра Фрэнсиса Дрейка не могли улизнуть от пахарьского мирского удела: растить репу и овес на скудной английской земле. Мотыга вместо тракторных плугов да коровий навоз и клеверный севооборот вместо аммиачных удобрений. На деле я не за работящий труд и не хочу быть с ним знаком. Знаю, каково это: изматывать мозг до состояния, когда даже свое имя вспоминается с трудом, а размышления посложнее кажутся невыполнимыми. Но при всех мозговых выжимательных процессах внешний вид не страдает и остается прежним. Все так же излучает лучи жизни во все стороны.
Похороны нужны, но не мертвым, а живым, чтобы они могли попрощаться, пусть даже многие обряды давно забыты или упрощены до неузнаваемости. За телом теперь уже не надругаются, не потревожат его покой. Его прах отдали океану. В конце концов, это лучше, чем урна в мраморной ячейке колумбария. Океан, живой и вечный, был единственным, кто мог унести с собой следы кремированного праха. Незачем замуровывать прах, оставлять прах в урне — словно слиток золота в банковской ячейке.
К сожалению, я не успел прибыть заранее и повстречать всех приглашенных проститься с Брюсом. Сперва я подумал, что они попросту не пришли. Позже я подслушал разговор старушек: они щебечали, что кое-какие гости приехали заранее, до назначенного в приглашениях времени. Уже успели уехать по делам еще до начала прощальной церемонии. Это многое проясняет, оттого я и вижу так мало желтоглазых Грантов. Рад слышать, что родня хоть и ненадолго, но нашла время присутствовать.
Многие из гостей выглядят зажато и наготове взгрустить, но совсем не в трауре. По углам каждый сидит будто сам по себе, но сидят довольно громко. Со всех сторон я ушами улавливал расспросы, ответы и обсуждения (в основном либо делового характера, либо о семье, погоде и будничных делах); мало кто из говорящих в действительности может сказать что-то интересное. Только и говорили, «что нового произошло в их жизни» или «какими делами были заняты». Никто не спорил и не перечил другому; конечно, я догадывался, что причина того кроется в поминках.
От такого повода собраться все гости вдруг в один момент стали такими неконфликтными. Так бывает, когда сотни людей, которые при обычной ситуации даже стоять рядом не стали бы, вынуждены уживаться на одном мероприятии. Никак нельзя превращать похоронные речи в выяснение отношений. Тех гостей, кто вкрай не был заинтересован в этом мероприятии (впрочем, это применимо и ко мне), спровадили еще до начала процессии. Видимо, посчитали, что эти не заинтересованные, зря приглашенные люди нарушают драгоценную тишину.
Мне не было весело, не было и плохо. Нравилось сидеть за одним из пустых столиков, где ни с кем не нужно заговаривать… просто беззвучно сидеть и изображать интерес. Я делал это как только мог, кроме дыхания и неслышимых другим звуков моих внутренностей. Никаких значащих слов я за весь процесс так и не произнес. Только здоровался и говорил общие фразы. Я было начал скучать, уже наскучило смотреть на обувь и щелкать пальцами.
Вдруг из-за спины подул сильный ветер; воздушный поток сбил с голов пару шляпок и кепок, а парочка встревоженных дам замахала руками. Дамы пытались ухватиться за свои парики, не потерять свои купленные волосы, и им это удалось. Эти парики помогают женщинам меньше показывать лысину у всех на виду. Но после такого ветра уже ни у кого не осталось сомнений, что такая пышная копна ржаво-коричневых волос может быть только накладной. На секунды их лысый затылок стал виден всем гостям; все сделали вид, что ничего не видели. Да и сейчас ценится естественный вид, каким бы он ни был.
Отрезвляющий ветер поутих и уже не доставлял хлопот собравшимся, все по-прежнему настроили внимание на мудрые, но унылые слова. Люди, которые хотели сказать что-либо о Брюсе, поднимались с места, подходили к его портрету в деревянной рамке и говорили, насколько «они его никогда не забудут» и что теперь Брюс наконец-то «может отдохнуть от обязанностей мэра Нового Амстердама». Конечно, они сказали это другими словами, но смысл был именно таковым. Все, кто только имел язык во рту, произносят речи о том, что потеря Брюса не беда, а только трамплин к лучшему. Почти никто в точности не знал, чего ожидать… кто придет на замену? Но надеяться на худшее (особенно во время поминок) у гостей не было нужды.
Меня как пасынка Брюса никто не требовал произнести речь. Чем дольше я сижу, тем яснее мне приходит мысль о ненужности сего мероприятия, меня в нем — похоже, меня пригласили на поминки и посадили за стол только ради приличия или шутки ради. Кому как не приглашающим знать, что я в долгом отъезде, занимаюсь важными делами и вовсе не фанат поминок. Поминки — слишком чудесный повод вернуться в Новый-Амстердам, посему я не отказал. Я вовсе не против разрядить обстановку своей персоной, вовсе нет. Но и сам прекрасно понимаю, что поминальная служба — не лучший повод для шуток и хихиканья.
Конечно, если это не поощряется. Вся церемония проходила на жизнеописаниях и пересказе ситуаций из жизни. Но это даже лучше. Если члены семьи упиваются горем, это еще не значит, что для всех людей мир вдруг окрашивается в черные тона… к тому же никто из приглашенных особо не горевал. Все произошло слишком плавно, и ничего, что можно было назвать «внезапной трагедией», не было. Смерть в лучшей клинике и компании врачей, которым можно доверить пациента, как Брюс. Безнадежно больному, которому непозволительно отказать в любых медицинских услугах всех уровней сложности. В безвыходном положении Брюса это могло если не исцелить, то сделать отход из жизни проще.
Умер он, можно сказать, от «старости». Врачей глупо винить в бездействии; без врачей прах Брюса развеяли бы над океаном гораздо раньше. Никто и посчитать не мог, сколько раз до преклонного возраста он обращался за помощью. По мнению вдовы, «Брюс умер слишком рано», но прожившая больше века может сказать это о ком угодно. Гигантская разница в возрасте лучше не делает.
Джун, как жена, а теперь уже вдова Брюса, так и не явилась на похороны. Зато подружек Джун (что были с ней еще со времен танцевальной молодости) хоть отбавляй. Бывшие танцовщицы и на пенсии выглядят именно как танцовщицы. Теперь, когда похороны принимают более веселую форму, они могут показать, как следует двигать костями под музыку (не зря же они всю жизнь зарабатывали на умелых танцах). Лучшие танцовщицы, по моему опыту, оказались из тех молодых дам, кого ни один мужчина не решился пригласить на танец. Этим поминальным вечером только дамы приглашают робких кавалеров, но никак не наоборот.
Несмотря на старческий вид, она с кошачьей грацией начинает резво двигать телом в танце и почти что подпрыгивать до потолка, за счет чего стала самой заметной танцовщицей. Эти старые кошелки еще не позабыли, как следует привлекать к себе внимание окружающих. По-видимому, все еще хотят, чтобы к ним ложились в постель, и, скорее всего, получат желаемое. Всем этим молодым людям, что пришли после процессии отплясывать на танцполе, не играет роли, с кем продолжать веселье на квартире. Для парней, что одеты в клетчатые рубашки и танцуют с пожилыми дамами медленный танец, этот день и впрямь покажется веселым.
Настоящий же праздник памяти по Брюсу начался с того, что все закончилось. Вся церемония продлилась от силы час; бьюсь об заклад, многие гости доезжали до поминок дольше, чем они длились. Но поминальный ужин уже подан в «Сильвании»; я и глазом не моргнул, как очутился внутри этого чудесного кафе. До этого на столах был лишь «легкий перекус», теперь же пришло время переходить на торжественные блюда, и так по кольцевой. Сейчас «праздник» по нарастающей переходит в свою вторую фазу — в едальню. Крытый фуршет — последнее, ради чего я прибыл на это заупокойство.
После проводов пришло время посиделок и разговоров по делам. Хотя я не чревовещатель, но, смотря на шевеление ртов говорящих, я прекрасно понимаю, что они вовсе не обсуждают смерть Брюса, да и говорят с улыбочками про милые вещи или про еду… оно и к лучшему. Именно в этом заведении «Сильвания», что не слишком-то презентабельно выглядит, наткнуться на местную знаменитость было в порядке вещей; чтобы обеспечить их безопасность, владельцу «Сильвании» приходится подкармливать целые ватаги белых воротничков и охранников. Было немерено опасного вида личностей: эти пустые рыбьи глаза и урчащие пустые желудки, оттого у охранников этот (фирменный для любого охранника) вечный вид некормленой злой собаки.
Но для таких желанных гостей охрана — настоящие милые зверушки. Ведут себя как придворные слуги, даже помогают снять пальто и вежливо отвечают на вопросы. Для кафе «Сильвания» безопасность в порядке вещей, как и огромные порции еды на столе, что еле помещаются на тарелке, и подливать в кружки кофе можно сколько угодно… Мне вход был бесплатный, а доброта владельцев позволяла многим клиентам (и в непраздничный день) есть в долг или расплачиваться талонами на еду.
Сколько раз я видел, как посетители под конец трапезы просили официанта записать, сколько они должны на долговой счет. Затем просто шли домой и испарялись, никогда не приходили обратно в «Сильванию» и не платили по счетам. Я же выписывал чеки под расчет и долгов не брал, хотя порой жутко хотелось провернуть тот же фокус с исчезновением должника.
По выслуге лет кафе и хорошей репутации горстка меценатов сочла кафе «Сильвания» отличным местом, где белые воротнички могли кормиться за меценатский счет. «Сильвания» стала праздным местом для бухгалтеров в День бухгалтера и еще более праздным и громким в День секретаря. Конечно, у меня нет профессиональных дней, но кто откажет мне в праве пропускаться? Я бывал почти на всех профессиональных праздниках, хотя никакой профессии не имел, но не был лишним, никто меня не прогонял; я просто затесался не в свою компанию, только и всего.
Час спустя людей разослали по домам. Только пара человек оставалась за барной стойкой, дожидалась за столом гостей иного толка. Кафе на сегодня уже не закроется, а прочим посетителям позволят остаться. Дело хотя и важное, но много времени не займет. Меня тоже отвезут в мои гостевые апартаменты; через письма, телефонные разговоры и приятелей я выбил себе еще лучшие условия на проживание, чем во время предыдущих приездов в город.
Мои периодические приезды и недолгое проживание в Новом Амстердаме всегда оплачивали. Семейного счета с лихвой хватает скупить всю еду во всех кафе и ресторанах города. Но негоже брать денег с Грантов, а с меня, как пасынка самого мэра и его жены-заместительницы, тем более денег не берут. Все, в чем я нуждался, чтобы прожить деньки до отъезда, мне выдадут и доложат.
Даже не нужно просить и слезно упрашивать денег, как говорится, все за счет заведения. Стоило выйти надолго из моей комнаты, как все наполнение обновлялось; даже сигары, на которые я внимания не обращал, пополнялись. Тогда я стал их складировать и раздавать даром взамен денег, которых у меня и не было. К счастью, вещами можно откупиться не хуже денег. Конфеты и дорогой алкоголь и правда легко принять за некий подарок, но в моих руках это был суррогат денег. Впрочем, нельзя попусту протягивать деньги в знак вежливости, а разменивать их на вещи — одни проблемы.
Никаких проблем заиметь денег у меня не было. Они всегда были у меня под рукой, стоит только протянуть руку. В моем случае это чековая книжка, поручители и любое средство связи. Но мне не было нужды ими пользоваться: навалившееся изобилие за счет компании делает это возможным. Сейчас, когда город переполнен подобными временными жильцами, затрат на меня никто не заметит. В общем котле затрат на содержание я не наберу и доли процента. Пропитание, все, что мне только угодно, — лишь бы я приехал. И что тут сказать… я приехал, и они добились своего… я слышу гудок клаксона и свет автомобильных фар за спиной; похоже, за мной приехали.
ГЛАВА 2. ФЕЛИКС
Еще в подростковые годы я всхлипывал по уходящему детству. Частные школы предоставляют весь спектр услуг: вычитать целые библиотечные стеллажи и постареть раньше срока. Штудирующим учебники ученикам не приходилось думать о многих бытовых вещах, как и о будничном веселье.
Учителей (по совместительству надсмотрщиков за порядком) было не видно и не дозваться долгое время, за исключением редких моментов. Как правило, пару недель во время сдачи экзаменов. Все остальные несчетные учебные дни были похожи на досуг в доме престарелых, где нет обязанностей, кормят, развлекают, но не дают разъехаться по домам.
У Брюса были ответы, которые утоляли мое детское любопытство, но, в сущности, ничего не объясняли, а только подначивали искать вечные истины жизни по мере собственных сил. С взрослением планетарные истины от меня ускользали; я стал слишком труслив, слишком знающим, чтобы задаваться теми же грудничковыми, наивными вопросами. Навесил на себя во многом придуманную систему убеждений.
Выстроил ее, дабы подменять прорехи понимания универсальными и удобными ответами. Но получилось скверно, и его образа жизни я вовсе не принимаю. Сам Брюс стал мертвее некуда в достаточно почтенном возрасте; все его живущие старцы-приятели заплетают седые бороды, но как дети рады тому, что за последние полвека экономика не пошатнулась, а надежды не исчезли.
Какого столетнего ни спроси, все припоминают кризисное время с дрожащим голосом и неохотой. Мне не удалось отыскать на одном из книжных стеллажей библиотеки книгу «История города Новый-Амстердам»: она осталась от меня скрытой. Казалось, память о старом городе еще теплится в умах стариков; под старую музыку они припоминают, как звучали их голоса тех времен, а помпезные звуки кабаре разносятся по всему городу.
Книги, предназначенные для сохранности памяти, в самый раз подходят для открытия прошлого: смотреть на черно-белые маленькие портреты и радоваться, что ни ты, ни твое поколение не догадываетесь, каково было жить при них и чем уже умершие, забытые деятели заслужили такое забвение. Хотя попавшаяся мне книга была насухо выжата от жизненных соков, лишена эмоционального окраса и личных суждений автора, я зачитывал ее про себя со смехом.
И кто прожил в Новом-Амстердаме хотя бы пару лет, уже не сможет даже из вежливости сдержать смех от написанного. Я так и не вернул ту книгу, она вдруг пропала. Найти пропавшую книгу мне так и не удалось. Потом семья в очередной раз отправилась в путь, и больше книги «История города Новый-Амстердам» я не видел. Тогда я начал зачитываться книгами иного рода; помню каждую прочитанную строчку, но даже проговаривать названия книг людям вслух не решался.
За прошедшие долгие сливочные годы их старческий страх не иссяк, а в их домах чувствовался дух джазовой старины полувековой давности. Грустно сознавать, что вечно боящегося человека только могила исправит. Прошел слишком ничтожный отрезок времени, но эти годы уже нарекли особыми, о них отзываются со всей теплотой в голосе, когда приходят воспоминания.
Крохотный Столичный остров, на котором стоит Новый-Амстердам, — едва ли не маятник между ужасами прошлого и захватившей все пространство современной сытой обыденностью. Не мне отрицать, что я и рожденные со мной в один день проживаем жизни так же, как все поколения до нас. Болезни, стихийные бедствия остались непобежденными — скорее как неотделимая часть природы.
Дважды удавалось выпросить прибавку к оплате, взамен требования к работе все росли. Казалось, настало время, когда я без оговорок мог считать себя если не богатым, то преуспевающим. Хватало не смотреть на ценники в магазинах и закрывать бытовые потребности. Многое из задумок я не мог себе позволить, не прибегая к трастовому фонду. На восемнадцатилетие Дядя подарил роскошную квартиру в кооперативной собственности, и, хотя по документам я был полноправным владельцем квартиры, все равно каждый месяц требовалось вносить деньги за проживание. Это съедало почти половину заработка.
Недвижимость была тем самым «худшим подарком», который мне могли подарить на совершеннолетие. Когда я уже был готов от всего и вся избавиться, стоило мне получить дарственную, как тут же объявились далекие родственники. Те, что всю жизнь мечтали жить именно в моей квартире, любезно предложили в ней жить и оплачивать поборы. Я же мог жить у них, в двухэтажном доме в районе куда хуже и куда непрестижнее. Недолго думая, я счел это предложение достаточно выгодным, и вот теперь я живу в чужом доме, но уже без бремени платить ренту и прочие поборы.
Но еще до заселения я отдал немалую площадь жилья под хранилище всевозможных вещей — нечто наподобие винного погреба на вилле, только вместо бутылок вина вязаные свитера и фланелевые рубашки. Моя квартира, в которой теперь живут чужие мне люди, просто переполнена подержанной одеждой. Перед переездом я все сгреб ее в каморку и запер дверь в нее на ключ. Если новые жильцы увидели такую гору припрятанной одежды, они и не подумают, что тряпки мне ничего не стоили…
Раньше я был одним из единиц, кому не терпелось надеть затертые, закашлаченные свитера или рубашки с проеденными молью воротничками. Сегодня вторичная носка одежды — новое модное веяние. Меняться поношенной одеждой, донашивать вещи за старшими братьями теперь стало поощряемым. Несмотря на весь семейный достаток, комиссионные магазины меня завлекали. Сданная на перепродажу вещь вовсе не так плоха, как о ней говорят. Новая одежда носится на мне словно пустая, в ней нет истории. Пусть сохранность вторичной одежды бывает не в лучшем виде, моему телу милее носить именно обноски.
С десяти лет я уже понял это и просил Робина отдавать мне свою поношенную одежду; тот звал меня спятившим. На такие слова у меня чуть не проступали слезы, но после частых отказов Робина я принял его нежелание делиться одеждой как данность, хотя не понимаю, почему мой сводный брат не хочет расставаться с уже неналезающими, ненужными вещами.
Задал этот вопрос Брюсу; тот только растерялся от такого неожиданного вопроса, но ответил, чтобы я не дурил и носил купленную в бутиках и подаренную одежду, которой у меня полно, а не донашивал рубашки брата. Пришлось поступиться… Могу поверить, что простые люди терпеть не могут носить одежду старших братьев или сестер. Мне, как ребенку, которому только и покупали все новое, было в радость носить растянутые свитера и уже выцветшие от стирок штаны. Даже получив диплом, я вспоминаю это в одежде, которую купил за копейки с рук, и почти до слез счастлив этому.
Мне даже сложно представить, сколько людей могло носить мои куртки, штаны и рубашки. Только носки и нижнее белье мне не доводилось покупать с рук, белья у меня тоже достаточно… Возвращаясь к мыслям о работе, во мне невольно растет благодарность к умершему Брюсу за ту возможность избежать «работы на дядю» и шанс выбиться в люди по праву рождения, хотя именно на Дядю я и работал (только не на чужого, а на родного, и не совсем родного, а опекуна), однако легче от Брюсовых подарков судьбы мне не становится…
Подобная удача в жизни силой берется, иначе никак. Удачливость легко может пройти мимо; преуменьшением будет думать, что только некоторым повезло обзавестись летающим защитным куполом удачи, что способен уберечь своего носителя от всех бед.
Но глаза у меня по-настоящему неподходящие… из-за подобных малостей мне никогда не быть Грантом, настоящим Грантом, как остальные члены династии. У подлинных Грантов глаза медовые, как золотистый песок пляжа, на котором неохота оставлять свежие следы ног. Тетушки и дядюшки столько раз говорили и столько раз подшучивали над собой, что у всех глаза как глаза, а у Грантов зрачки как яичный желток, словно у них желтуха или гепатит C.
Может, им и правда осточертели свои же глаза, а мне так и хотелось обрести их огоньки в глазах, которые я так много видел, но добиться этого я мог, только смотря, как искрятся бенгальские огни. Глядя в мои глаза, люди только и делали, что подмечали мою особенность (мой дефект): как это необычно, когда один глаз зеленый, а второй синеватый…
По всей видимости, с наследственностью мой купол из цельной удачи подкачал, но я и не самый удачливый человек на всем белом свете; удача может порой сбоить, подводить и выдавать массу осечек. Я не собирался требовать от жизни и высших сил большей удачи и даже не рассчитывал получить то, что уже имею сейчас.
Моя жизнь — ничто иное, как практически невозможная череда совпадений, да и к самому рождению и зачатию я не прилагал никаких усилий. У меня не получается быть благодарным, а поэтому и не стану даже пытаться изображать благодарность за уже полученное. Но если припомнить, как со мной и моей компанией действительно не происходило ничего вредящего телу, может показаться, что легко прыгнуть в яму со змеями, где каждая из змей продолжит заниматься своими делами, не обращая внимания на упавшего к ним человека.
Страх перед замещением труда рабочих — простая глупость. Сколько бы тысяч рук рабочих механизация ни заменила, на деле тружеников требуется все больше, а уволенных просто разбрасывают по другим должностям. У технофобов подступает колотун к сердцу, как только те слышат о самой возможности быть замененными роботами.
С моей стороны будет хорошим жестом заранее вздохнуть и пойти навстречу нашим потенциальным новым хозяевам, роботизированным антропоморфным людским… творениям, что унаследуют Землю по человеческой доброй воле и благоволению. Наступит день, когда ученые смогут вдохнуть в самодельные механизмы сверхсознание, что будет превосходить сотни человеческих умов. Сейчас же остается только обходиться перфокартами и слушать радиопередачи из радиол о том, как на человечество в один день свалится все то добро прогресса, которое обещают не один десяток лет.
Похоже, что вселенная благосклонна к людям, и исчезновение им не грозит. Людской род, род моих сородичей, просто не потухнет, люди неистребимы. Посему несовершенные во всех отношениях люди не заменяются роботами. Компании обмениваются и переправляют сотрудников по всем достойным упоминания городам мира; бруклинцы могут тянуть лямку, как никто еще не тянул. Трудятся в Андах, на Сулавеси или в Кейптауне, но по-прежнему продолжают получать бруклинскую зарплату, словно и не покидали родной город.
Океания готова предоставить желанным гостям развлечения и удобства на любой вкус. Солидная часть зарплат оседает в бюджетах местных городов, а моряки и простые подвижники всех профессий поддерживают бытность в таких отдаленных и богатых на ископаемые краях. Равноценный обмен во всей красе, и никто не остается обделенным, по крайней мере на бумаге. Тех, кто не вписывается в торговые отношения, даже не считают.
Излишняя предусмотрительность настораживает, но никогда не бывает лишней. Раньше я всамделишно верил в долгожительство Брюса. В шутку говорил: «Когда все уйдут, только Брюс останется в живых, потому что помнит все свои причитания, как сохранить себя в целости до смерти или того дальше». За годы знакомства мне не припомнить его болезней или серьезных проблем.
Если кто и смог уберечь себя от любого вида бацилл, Брюс смог справиться с этим как никто другой. Одним днем свалилось несчетное количество поручений и задач; такой полуграмотный веснушчатый добряк не мог остаться без своей заслуженной доли внимания и одним видом вызывал у вышестоящих по статусу желание привлечь его к вещам, к которым он не питал никакого интереса.
Выдержка и терпение позволяют стерпеть любые мимолетные трудности; если мозг окутывает пелена здравомыслия, никакой жар не в силах вывести из себя. К тому же переменчивый по воле желания темперамент мог отпугнуть любую опасность. Будучи мальцом за школьной партой, в нем уже видели потенциал, а также опаску к словам и скрытное, но ощутимое самолюбие.
Ровесники могли быть опасны как для себя, так и для окружающих. Подобные выходки забавляли, но давали понять, в какой компании предстоит уживаться, когда юношеские годы подойдут к концу и наступит на порядок большее. Детские годы воображают как ту самую пору, когда открыты двери знаниям.
Становится смешным думать, с какими красочными отметками удастся закончить очередной школьный год. Части одноклассников приходилось убиваться над заданиями, подлизываться к учителям и ломать голову: как справиться с потоком сменяющихся учителей, если каждый из них считает свой предмет важнейшим? Приходилось подлизываться по новой. Легче всего учиться, если вовсе не показывать никаких отличительных умений; никакая репутация и чужие мысли не стоят распыленных усилий, которые можно было уделить на что-то одно. Перегонки за статус любимчика учителей и сидение совестливым отличником на первой парте были бестолковой затеей; я понимал это как никто другой.
Прикладные науки призваны по мере возможностей отгадать все загадки мироздания, нарушить прежние застоявшиеся устои, какими были гуморальная теория или зловонные миазмы, на которые возлагалась вся вина за эпидемии и болезни людей. Светлейшие люди еще двести лет назад подозревали, что человек способен быть сосудом смертельных болезней и, мало того, заражать ими ближайших родственников без всякой на то цели.
Только добротный дом вдали от простолюдинов становится убежищем от вида переплетенных улиц, где разгуливают вышедшие на свободу арестанты, а высокая ограда дома укроет от света в окнах переполненных централов, когда в комнатенках малых размеров порой жили несколько семей. Квартироваться без городских прелестей: канализации и водопровода. Одно спасение — быть среди своих и быть званым гостем в бомонде. В таких условиях и вправду верится, что «каждый, кто не аристократ, тот безденежный оборванец или того хуже».
Если довериться и без ухмылки рассмотреть приближенную к трезвой правде, но все еще лживую статистику, выкладки показывают, что куда больше людей доживали до преклонных лет, которых не видели и даже забывали об их существовании. Закрытая на засов парадная дверь давала знать белой смерти, что она нежеланный гость в их дворце удовольствий. И все же домашняя прислуга, без которой мало кто обходился, предательски заносила болячки — не со зла, но по незнанию. Разглядывая родовое древо Грантов (праотцов Брюса), я то и дело удивлялся, как вышло, что все эти прекрасные люди были рождены тогда, в то ужасное время, когда каждый порез мог стать роковым. Светлейшие умы эпохи умирали от пустяков, и никто не в силах был их вылечить?
Видимо, предки и вправду были нечто большим, чем люди сейчас: обходиться скудной пищей, когда мясо казалось непозволительной роскошью, производить на свет детей под настойкой лауданума в антисанитарных условиях, к тому же без уверенности, что новорожденный, как и его мать, не скончаются (а происходило это с завидной регулярностью). Никому и в голову не приходила мысль, что грязные руки могут стать смертельными, операционные инструменты следует заблаговременно менять и использовать по одному разу на пациента.
По отцовской линии, указанной на страницах семейной книги, в которой перечислены многие из предков Брюса, люди доживали даже по сегодняшним меркам неприлично долгую жизнь. Но также на страницах были перечислены везунчики, не дожившие и до тридцати; их имена напротив содержали не больше пары строчек текста биографии или ничего, кроме имени и даты рождения, словно ранняя смерть стала для них главным событием жизни. Нетрудно определить, кто из рано умерших был книжным червем, кто постоянным посетителем пивных или просто не самым удачливым человеком.
Был в этой книге и человек, чьи инициалы такие же, как мои, и даже малого размера портрет, выведенный красным карандашом, напоминал меня самого. Такая похожесть в лицах не вызывала во мне никакого испуга: родственники имеют свойство повторять черты лица сквозь поколения, но отпечатки пальцев у всех разные.
Пролистывая то и дело страницы с давно покойными родственниками, я не имел никакой цели, принимал всех этих людей как выдумку и бутафорию, хотя не винил книгу в лживой информации. У большинства людей нет никаких воспоминаний о далеких предках, и тем более нет записей, где достижения праотцов никогда не забывались. Так я думал тогда и так же воспринимаю сейчас: все равно у меня нет никакой возможности встречаться с этими людьми лично и найти подтверждение, правда ли они жили, их же словами.
Порой мне приходила мысль предоставить на рассмотрение общественности архивные записи о родовом древе семейства Грант и доказать, что я благородных кровей, и все мои россказни о богатой родословной правдивы, когда учителя спрашивали детей, помнят ли они о своих предках дальше прадедов. На что я не мог не среагировать и получил незаслуженную похвалу от учителей и молчаливое недоверие прочих учеников. Мне доводилось не раз менять школы, и каждый раз, кроме частных школ, где и учились дети родителей с немалым состоянием, я говорил одно и то же. Я попал в обычную школу по чистой случайности и всего на пару месяцев.
Воспоминания проясняют, что мне довелось сменить порядка двадцати школ; часть из них была хуже или лучше остальных, а я оставался таким же, как был. Давно позабылись имена и разговоры детей в перерывах между уроками. И хотя меня все еще преследуют обрывочные воспоминания тех времен в ночных кошмарах и даже на работе — мои ошибки и словесные наказания за них, понарошку или же нет, — многие из тех, на кого я таил злобу, уже либо мертвы, либо не имеют никаких шансов навредить мне. Только я способен их словами гнобить сам себя без возможности отвлечься от воспоминаний. Принимать неспособность изменить прошлое, отчего малодушие только нарастает, пока в какой-то момент не спадает, словно ничего и не было. Наступает облегчение, и я возвращаюсь к привычным вещам до следующего раза.
Я никак не ожидал, каким целебным эффектом на меня подействует смерть Брюса — человека, по которому, как водится, льют слезы. Не было того сожаления, которое должно было наступить после вестей о смерти Брюса. Может казаться, что я с точностью знал, что это произойдет, и поначалу воспринял эту новость как неуместную шутку, которую рассказывают знакомым. Шутку, что кажется всем глупой, но именно на тебя она наводит смех и веселит. Я не боюсь, понимая, что Брюс умер для меня еще до попадания на больничную койку под присмотр врачей; и пока всем не верилось, как один из богатейших людей города может окочуриться так просто, мне было понятно, что ему не удастся покинуть больницу своим ходом.
Брюс прожил жизнь, достойную понимания. Само собой разумеется, многие из оставшихся хранителей традиционных ценностей ужаснутся его образу жизни: какими путями и действиями он взошел на Олимп и остался на нем дольше тридцати лет. Да, его жизнь могла быть легче, лучше или прожита зазря. Но нет ничего того, за что его можно было бы жалеть. Его женушка все еще с нами, дышит, живет. Несмотря на глубокую старость, мыслит и чувствует себя вполне неплохо.
Удалось бы ей стать самым старым человеком, живущим на планете, и все равно найдутся люди, которые скажут: «Она прожила всего сто четыре года, а ведь могла прожить куда больше». Для таких людей величайшая ценность — жить на земле, и ничто не способно скрасить уход в Никуда. Вот уж кто поистине желает обрести долгие годы жизни, желательно до скончания времен. Им я могу только позавидовать и пожелать исполнения заветного желания в жизнь…
В Бруклине есть мусороприемник, настоящий кратер, что поглощает все выброшенные отходы, та выгребная яма, что настолько огромная, насколько и переполненная. Если мне не изменяет память, именно бруклинскую свалку официально считают самой глубокой и самой широкой на всем земном шаре. От Бруклина никаких других рекордов можно было и не ожидать; даже не сомневаюсь, что эта информация правдива, остается только обходить эту трясину стороной.
Этот запомоенный вид стал достоянием; некоторые местные жители шуткуют и говорят о своей свалке рекордных размеров как о месте притяжения туристов. Они не ошибаются, что подобные мне люди не против взглянуть на отстойник для использованных химикатов. Впрочем, я не слышал, чтобы на местную “достопримечательность” жаловались, когда был тут однажды четыре года назад. Тогда они также не имели ничего против такого соседства. Парочка стариков утверждала, что раньше сюда водили детские экскурсии: посмотреть в бинокли издалека, с каких технологий начинали люди осваивать эти территории и насколько сильно сейчас компании продвинулись по очистке химикатов.
Уже давно не то время, когда рыть котлованы для сброса всего шлака кажется забавной идеей. Мне бы было нечего сказать этим детишкам, но я малость рад, что подобные школьные экскурсии прекратились. Сейчас же я еду от него достаточно далеко, без особых впечатлений от увиденного. О подобном мне доводилось знать информацию разве что понаслышке, от, как водится, людей, говорящих правду и ничего, кроме правды. Но им не знать таких вещей, они и не пытались дойти до состояния жития, когда мир станет отсортирован в алфавитном порядке.
Порой люди, которых я встречаю раз в жизни, спрашивают, кем мне приходится Даяна. По ситуации мой ответ отличается, но чаще всего я говорю: «моя кузина», что недалеко от правды.
ГЛАВА 3. РОБИН
Для временных гостей мне выдали лучшее, что можно было выбить из удобств, не прибегая к слезным уговорам. Жилье уже ждет меня, стоит только решить некоторые дела и разобраться с багажом. Мне вполне подходили предложенные условия жилья (которые я обговорил еще до приезда в город). Вместо невнимательного телефонного разговора, когда легко забыть любую мелочь, вместо звонка я послал письмо, где говорилось: «Собираюсь пробыть в Новом-Амстердаме не дольше месяца, но не откажусь поселиться в жилом комплексе получше».
Я не стал возникать и отказываться от предложения быть званым гостем Нового-Амстердама и Компании: могучей Компании, которая потенциально может стать моей собственностью; шансы этого мизерные, но они есть. Компании, что регулирует и согласует всё: тендеры, госзаказы, торги и прочую неотъемлемость городских властей… После поминок самое время отправиться на поклон к Герману прямо в офис. Пока Брюсу не найдут должную замену, его племянник Герман будет властезаменителем…
Курсирующий автобус прибудет с минуты на минуту. Многие, кто дожидается прибытия автобуса, выглядят подвешено и нервно. Ходят кругами и в стороны; так ходят и выглядят как щепки только карьеристы либо те, кто сознательно морит себя голодом, пока мозги не заржавеют от нехватки пищи. Недолгое время голодность и недоедание было моей нормой, но никогда не доходило до полного отказа от еды. Как только чудаки приходят к этой затее и как с этим справляются — уже другой вопрос. Мало кого волнует сытое брюхо, когда на кону стоит слишком многое и слишком ответственное; тут уже не до еды. Другие, напротив, только и делают, что наедаются, готовы расстаться с любой суммой на еду… но перспектива быть самым толстым среди компании заглушает любые позывы наедаться.
Новый-Амстердам — самый разнообразный в плане еды город на планете, при этом миллионы его жителей обходятся порциями, которые для бостонца сойдут разве что за перекус. Впрочем, ни у кого недомогания не наступает, кроме особо отличившихся. Ночами, не переставая, проходят мили за милей, чтобы забыться в танцах и прочих пылких развлечениях ночного города…
У автобусной остановки все вдруг засуетились в ожидании. Похоже, транспорт подъезжает. Прождав минуту, вдалеке показалось нечто похожее на вытянутый как дождевой червь автобус, который не так часто встретишь. Колеса автобуса больше не крутились, дверцы распахнулись, и все пассажиры стали заходить внутрь, битком набили собой все свободные места. Никто не остался стоять, места хватило для всех, хватило и на меня. Водитель повернулся, осмотрел салон и молча закрыл раздвижные двери автобуса. Так водитель и провел в тишине всю поездку, как и его молчаливые пассажиры, больше часа.
Казалось, что мы едем часами и уже давно выехали за тысячи миль, в неправильном направлении, но нет: автобус ехал по гравию, грунтовке и залатанным дорогам. Такой порядок качества дорог правильный, значит, автобус колесит куда следует. Я прищуриваюсь и смотрю не моргая на водительские окна, затем на зеркала заднего вида. Уже кое-как могу заметить резиденцию, верхушки крыш у комплекса зданий, где и затаился Герман.
Водитель заворачивал автобус к пропускному пункту. Никакой сверх предохранительности: обычные и даже типичные меры перед входом в комплекс. Из разговоров с задних сидений я расслышал, что этих пунктов тут довольно много и мер безопасности хватает для всех случаев, даже для неосуществимых. Но сейчас они не работают в полную силу за ненадобностью: стоят без охраны и даже с отключенной сиреной.
Охранник, чья обязанность проверять у пассажиров пропуска и поднимать заградительный шлагбаум, просто увидел знакомое лицо водителя. Когда автобус только подъезжал, заграждения распахнулись, и уже ничто не преграждало путь внутрь офисного комплекса зданий. Многие пассажиры уже начали вставать с мест, занимая места поближе к выходу; я же сидел на сиденье возле окна, не стал торопиться, просто подождал, пока все выйдут, и вышел наружу едва ли не последним.
Признаю, места здесь довольно красивые, но мне некогда любоваться местными видами. Когда мне достанется больше свободного времени, я смогу лучше рассмотреть закоулки этого места. Сейчас я стою в окружении незнакомых людей, вслушиваясь в то, что говорит женщина со связкой бланков. По ее словам, она занимает не последнюю роль в работе и следит, чтобы на территории был мир и порядок, проработав больше четырех лет в качестве завхоза. Я не устаю слушать ее речь, но не извлек из нее чего-то полезного; все, что она сказала, я узнал заранее и уже ко всему готов. Похоже, вся ее речь была адресована мне и нескольким парням, которые назвали себя практикантами. Закончив невнятный разговор, она повернулась и свободной рукой показала направление, куда податься.
С внутренним убранством территории повсюду был порядок и много пространства. Габариты комплекса были немаленькие. Весь Огненный остров по своей сути находился в распоряжении мэрии как личная собственность. Ничего, кроме этого комплекса, на острове не было, а значит, и нежелательных местных жителей по соседству тоже не было. Когда все вышли, главные ворота внутрь открылись, и из них вышла дама с охапкой документов в руках (на вид моложе меня) в красноватом пиджаке, больше похожем на униформу… Я успел рассмотреть униформы местных сотрудников, и ее одежда имела совершенно другой вид. Она, по-видимому, стала исключением из правила, что каждому сотруднику надобно носить одежду по регламенту. Подойдя ближе к приехавшим, провела взглядом по всем, кто вышел из автобуса, не упустив вниманием и меня.
Ее не смущало мое присутствие, и ее вид был мне знаком. Мои воспоминания разожглись и стали подсказывать, что когда-то раньше я видел эту женщину, и по ее взгляду она давала понять, что также обо мне не забыла. Быть может, я путаю, но эта женщина в пиджаке точно была из помощниц на побегушках у Джун; помню, она была именно в офисе Джун. По-видимому, теперь ее положение повысилось: перебралась сюда и уже не работает на мою старушку Джун.
Как и ожидалось, дама с документами позвала нас всех войти, пройти за ней. Вот так и бывает: я только что был пассажиром, и вот я уже гуськом хожу следом за незнакомой женщиной, которая подскажет, куда идти. Оказалось, несмотря на внушительный вид, ворота, из которых выходила дама в пиджаке, не главный вход (как я сперва подумал), а лишь запасной. Проведя нас к боковой части здания, она ключом открыла серую дверь, в которую при желании могут пройти десяток человек одновременно в обе стороны.
Пока что ничто не выглядит необычно; быть может, поднимаясь выше, к кабинету Германа, это изменится. Но, пройдя дальше по коридору, ничего впечатляющего я так и не увидел. Вдруг все разбрелись по своим делам в разные кабинеты, и никто мне не указал, куда идти дальше, но, как я заметил, женщина в красноватом костюме не собирается никуда уходить и зачем-то пристроилась близко ко мне.
Она смотрела на меня… пока в моей голове проносились крики Джун… Джун любит называть своих прислужников по имени, и зуб даю, что эту даму зовут Мария… К (как выяснилось) Марии по бокам стали подходить поджарого вида мужчины; все они натянули подобие черных банковских костюмов, больше смахивающих на балахоны. Такого вида, что уважающий себя банкир такой костюм в жизнь не наденет. По виду одежды Марии и толпящихся за ее спиной парней очевидно, что она далеко не стажер, значит, деваха уже совершеннолетняя. Шея, загривок, руки и почти что вся кожа в родинках. Я и прежде видел ее, но так и не знаю ее имени; бейджика на ней не надето, и сама она не называлась по имени, и ее никто по имени не называл. Значит, знать ее имя и вправду не столь важно или еще рановато.
Были также бруклинские подонки, которые даже не были коллегами друг другу. Они присоединились уже по дороге и имели с собой плохо скрываемое оружие самообороны; понятия не имею, зачем оно им, разве что охота беречь себя. Я был выше других, хотя знал, что выходцы из этих мест поголовно голландцы или приписывают себе голландское происхождение. На самом деле бруклинцы являются кем угодно, но только не долговязыми любителями тюльпанов, сыра и морских приключений. У одного парня, что за нами увязался, даже была повязана лента с имперским голландским триколором на куртке, да еще на самом видном месте. Пожалуй, мне не следует обращать на это внимание, мне не хотелось показать неуважение к их славным традициям одеваться и много еще чему. Пока они ко мне относятся с добротой, я все принимаю и уважаю, пускай занимаются своими делами без моего осуждения.
Обернувшись к ней, я объясняю мою цель визита и прошу сказать, как мне найти моего кузена Германа, который у них теперь за главного. И это была чистая правда… Герман теперь рулевой и кормчий этой чиновничьей братии… По моему скромному мнению, Брюс откланялся и передал бразды правления Герману не по доброте душевной. Быть может, в этом не скрыто ничего, кроме трезвого расчета, но Герман с его природным математизмом и холодностью, похоже, именно то, что ведет его по жизни к безвременному успеху. Весьма примечательно, что Герман не самая достойная замена, слишком Герман холоден головой, но каким еще стоит быть на должности, которая не терпит горячей головы?
Дама в костюме заверила меня, что не знает, где сейчас мистер Герман, а более точный ответ мне скажут за стойкой регистрации. В ее компании я дошел до нужного места и разъяснил им, зачем и почему нахожусь здесь. Впрочем, о моем приходе им сообщили заранее. По их словам, мне следует на лифте подняться на самый верхний этаж здания, чему я был рад. Никогда я еще не преминул возможности проехать лифтом как альтернативы шарканью по лестнице.
Я уже было направлялся к лифту… но эта пятнистая девка стала у меня на пути и начала меня ненавязчиво расспрашивать. Эти вопросы были неуместными, начиная от всей моей биографии до всех моих родственников. Ни на один ее вопрос я не дал внятного ответа, уклончиво отвечая, но она не показалась расстроенной. Все же не каждый решится вот так выложить все карты на стол… Вместо того чтобы искать лифт, мне бы сперва найти Манчини… Я с ним договаривался о встрече в резиденции Германа… Придется его обождать, пока Манчини не явится, и я буду ждать столько, сколько потребуется…
ГЛАВА 4. ФЕЛИКС
С Манчини у меня выдался короткий разговор: все, что было важно обсудить, уже было обсуждено по телефону. Мой багаж и место, куда его можно сбагрить, волновали меня куда больше, нежели разговоры. Благо в резиденции, неподалеку от меня, есть хранилище багажа. Манчини я сказал, что сейчас полно дел: разберусь с мелочами, и было бы недурно проехаться с ним. Всего-то сдать кладь да встретиться с Германом. Сущий пустяк… Манчини прохаживается со мной по коридору до хранилища, даже любезно взял часть моего багажа… в руках полегчало… все вдруг стало таким легким…
В Манчини было живо умение сохранять обостренное чувство такта при любых обстоятельствах, но оставаться всегда непринужденным. Благодаря харизме вокруг Манчини сам собой образовался негласный круг поклонников: бывших коллег, что считали его своего рода авторитетом, и красоток, что если и не хотели пойти с Манчини под венец, то просто болтаться где-то у него под ногами.
Всем внешним видом и повадками Манчини показывал, что «он себя не на помойке нашел и находить не собирается». Самолюбие Манчини умеренное, к тому же нерастормошенное, никакого показного тщеславия. В этом мы с ним похожи. Если верить его словам, в отличие от меня Манчини город не покидал, да и за последние пять лет за пределы городской агломерации не выбирался, и нет желания. Я не видел его больше двух лет, а его взгляды по вопросам поездок на длинные дистанции остались на том же месте. Мы не прекращали связь после моего отъезда и периодически слали письма и открытки друг другу.
В основном это я читал письма Манчини. Но и сам написывал Манчини, когда на то были причины; денег, чтобы нализывать марки на конверт, мне всегда было не жалко. Периодически созванивались, когда на эти звонки действительно была причина, посему звонков было немного, первым звонил я. По долгу работы я менял города, адреса и, как следствие, контактные данные. В отличие от Манчини, стационарного и всегда коммуникабельного.
Когда я должен был позвонить по неотложным делам, Манчини был незаменим. Благо я не пристрастился к телефонному трепу. Я звонил только по практичным вещам. По проводу невыносимо легко разузнать обстановку в городе даже за тысячу миль: оставаться в курсе событий городской жизни, новостей, секретов и сплетен; и по прибытии в город я знал его так, словно и никуда не уезжал…
Не помню, что и как я говорил охраннику хранилища, но мои пожитки приняли на хранение. Охранник хранилища окликнул меня, я растерянно заморгал… охранник все пытался дать мне ключ с номером. Я получил ключ с порядковым номером на брелоке. Манчини стоял сзади; завидев ключ, развернулся, разобравшись с вещами. Мне не оставалось других дел, как пойти (уже налегке) к лифту… Теперь уже никакой багаж не помеха встретиться наконец с Германом.
Поднимаюсь на лифте, который незаметно взлетел на сто двадцатый этаж меньше чем за минуту, — и вот я на месте. Пожалуй, это и есть отличие от Нового-Амстердама, где лифты в зданиях по старинке поднимаются медленно и неспешно. Кабинет Германа был на самом высоком этаже здания. Пусть я и направляюсь в, казалось бы, знакомый кабинет, в котором бывал уже десятки раз, все же раньше в кабинете мэра засиживался Брюс, а не Герман… Я шел куда следует, пока не услышал мужской высокий голос…
Оказалось, я прибыл на прием к господину Герману весьма не вовремя. Не успел я подойти к сидящему у дверей мужчине в круглых очках и попугайских тонов галстуке на белоснежной рубашке без единого пятнышка кофе… Он поприветствовал меня и по-секретарски спросил, чем может помочь. Прошло пару секунд молчания, прежде чем я сообразил, что стоит ответить, и почти на автоматизме сказал, что пришел увидеть мистера Германа, к которому я заранее не записывался на прием.
Я добавил, что Герман — мой родственник. Хотя это и была чистая правда, даже мне мой тон показался неубедительным, словно я на ходу назвал Германа сводным братом, лишь бы меня впустили к нему на аудиенцию по моей прихоти. Работник — видимо, новый секретарь Германа — не растерялся (видимо, предупрежден, что у Германа есть нерадивый скорбный братец, которого стоит любезно сопроводить к выходу), но никто меня выгонять не собирался, напротив. Секретарь стал обращаться ко мне на «сэр» и извиняться, что и рад меня впустить, только мистера Германа нет на рабочем месте.
Секретарю очень жаль, и лучше бы мне прийти через пару недель, согласовав встречу заранее. Такой исход событий меня даже радовал. И даже если он лжет, а Герман преспокойно сидит в своем кабинете и велел никого к себе не подпускать, это нисколько меня не оскорбляет. На худой конец, имеет ли человек право побыть в своих владениях в одиночестве? Думаю, что да.
Немного поразмыслив, я согласился с его словами, поблагодарил за совет прийти позже и неспешно направился к выходу: осталось пройти все эти извилистые коридоры по новой, но спускаться с холма всегда легче, чем взбираться на него. Сперва думал спуститься на лифте, но перед ним столпилась немалая очередь людей с бумагами в руках. Я завернул в боковую сторону, к лестнице. На полу возле нее зачем-то поставили табличку «Скользкий пол», и рядышком вторая — «Скользкая лестница».
Может, пол и скользкий, только это не играет роли: свежевымытые скользкие ступеньки не пугали меня раньше, не испугают и сейчас; следует всего лишь смотреть, куда идешь. Я схватываюсь одной рукой за перила и перешагиваю за раз по две-три ступени; козлиной вприпрыжкой я быстро спустился с этой мокрой лестницы. Спустившись, я был рад снова оказаться в фойе; взгляд приметил выход из здания. Манчини был около выхода, беспечно сидел с прикрытыми щенячьими глазами в кресле рядом. Видимо, все это время по своей воле выжидал, когда я спущусь.
Джун слишком важна для города, немолода и вряд ли уже станет моложе. Эта мысль была единогласно принята и никем не оспаривалась. Ко мне обратились, могу ли я предложить другую кандидатуру первой леди города, и мне не нашлось что ответить. Остальные также были в догадках, им тоже не нашлось что ответить. Все окончательно сменили тему на пустой треп. Общение исчерпало себя, и каждый спешил покинуть компанию, стараясь не показаться грубым. Вскоре все разошлись, кроме меня: еще оставались незаконченные дела, и вот-вот должны были показаться…
ГЛАВА 5. РОБИН
Выйдя через черный вход, мы оказались на стоянке, где и была припаркована одна из машин Манчини. Я понятия не имел о ее модели и цене, но допускаю, что она не из дешевых и выглядит (под стать владельцу) не потрепано. Когда я садился на переднее сиденье, руки так и потянулись застегнуть ремень безопасности. Только когда я пристегнулся, нос обдал моросящий запах. В машине был запашок сырости: пахло мокрой землей и утренней травой. Он заметил, как я принюхивался, и я свел все к сарказму, но меня не волновало, если машина и впрямь простояла в мокрой грязи, а мытье и чистка не смыли въевшийся запах.
На моей памяти каждый раз, как Манчини меня подвозит, любая из его машин всегда плохо заводится, словно ему и продают эти машины уже плохо заводящимися. Немудрено: Манчини любитель машин, что старше его самого и с высоким пробегом. Сколько ведро с болтами ни смазывай, но прогнившая машина лучше работать от этого не станет.
Манчини дергает запястьем, все проворачивает ключ зажигания, тараторит под нос, что автомобиль прекрасно работает, стоит только отдать на небольшой ремонт. Манчини проговорился, что мотор стал чутка барахлить.
Все же двигатель завелся, но с таким треском, словно эта поездка для двигателя будет последней. Даже удивительно, как такая новая с виду машина может быть в таком плачевном состоянии, да и сам Манчини хвастался, что купил ее четыре года назад — вот что значит покупать яванские автомобили. В такие редкостные моменты я особо рад, что у меня даже водительских прав нет, не то что машины.
Манчини подъезжает с открытым окном к пропускному пункту; со стороны охранника в будке меня трудно не заметить, и, конечно, мое лицо и лицо Манчини сочли весьма знакомыми, и шлагбаум подняли без лишних вопросов и досмотров. Смотря в зеркала заднего вида, я наблюдал, как чиновничьи здания все дальше отдаляются. Машина набирала скорость, салон ненадолго затрясся, и мы с Манчини уже почти мчались, словно от кого-то удирали…
Не спорю, Манчини — знатный лихач, и многие, кого он подвозил, видели в нем эдакого беспечного ездока. На удивление многих, за многолетний опыт вождения Манчини так и не попал ни в одну аварию: дальше нескольких штрафов дело не заходило. Мне довелось немало раз бывать пассажиром в его машине, сидя на переднем сиденье. На каждом повороте казалось, что уж в этот раз занос автомобиля в кювет неминуем. Впрочем, когда от езды Манчини зависела не только его жизнь, но и жизнь пассажира, он сбавлял скорость и выруливал более осторожно.
Из разговоров я знаю, что Манчини почти перестал крутить руль. Манчини обзавелся личным шофером, как и подобает. Статусность Манчини выросла, а раз так — полагается иметь личного водителя. Теперь даже не приходится самому притрагиваться к рулю. Личные водители — вещь удобная, но слишком необязательная. Вся любовь к скорости и просто вождению быстро сходит на нет.
Манчини разговорился о работе его отца, о том, насколько много инженеров и прочих людей с линейками и карандашами работают в отцовской конторе. Манчини, как и я, к счастью, не инженер. К счастью, мне не приходится доказывать начальству, что мои руки предпочитают работать только над моими собственными проектами, а не браться за поручения начальства.
Так ненароком можно сточить не один карандаш о бумагу, причем без толку. На такой разговор Манчини про тяжесть рабочих будней у цеховиков мне не пришло в голову ничего сказать, кроме как подметить, что при такой нагрузке недалеко доработаться до мозолей, на что Манчини только одобрительно кивнул.
Львиная доля предков Манчини обессмертила себя и прославилась строительством гигантских, еле выполнимых проектов, скупкой лицензий на концессии и перспективных патентов для лучшего освоения концессий. Мест освоения, где развернулись масштабы каучуковых плантаций, которых еще не видел мир. Хотя компания отца живет и здравствует по сей день, Манчини не приобщили к семейному бизнесу как законного первородного наследника, а отдали дело в безмозолистые руки эффективных директоров и их таких же эффективных, знающих свое дело управляющих.
Но и обделять Манчини не стали: он получает солидную сумму дивидендов как держатель крупного пакета акций. Только когда мы задели вопрос натирания мозолей, меня пробрал секундный интерес: есть ли у Манчини мозоли на руках? Но именно сегодня Манчини не побрезговал надеть водительские перчатки, и мне уже никак не разобрать, есть у него на пальцах мозоли или нет.
Проехав минут пять, Манчини так и не знал, куда меня отвезти; по существу, мы никуда не направлялись. Я помнил адрес предоставленного жилья и проговорил, что лучше всего высадить меня около городской мэрии. От мэрии до моего (временно данного) жилища рукой подать. Точного адреса я так и не сообщил…
Подъезжая все ближе к мэрии, я высматривал через полуоткрытое автомобильное окно знакомые лица среди идущих куда-то людей, но у мэрии были только мимо проходящие чиновники. Такое запустение, особенно в воскресный выходной день, настораживало, хотя в Новом-Амстердаме воскресный день существует только чтобы отлежаться и протрезветь от субботнего…
Когда Манчини появляется в поле зрения, тут же для заботливых родителей встает незаурядный вопрос: «Куда следует прятать дочерей?», но, похоже, те времена уже прошли. Ведь теперь Манчини ходит за руку со своей спутницей, и отцам можно спокойно выдохнуть. Хотя я продолжаю принимать его переход к моногамии как своего рода игру. Если человек с юных лет побывал в числе бывших парней у всех желанных женщин города, ограничивать себя только одной может быть поистине непосильным препятствием. Вид у Манчини привычный и отнюдь не страдальческий, тот же вид применим и ко мне.
Манчини пожимает руки своим многочисленным знакомым, болтает с ними и активно жестикулирует, словно способен донести свои мысли руками лучше, чем любым словом, — собеседники смотрят на его ладони, словно это действительно так. С лица Манчини не спадает улыбка, и он заражает ею всех, с кем заговаривает. Я не умею читать по губам, но что-то подсказывает мне, что они обсуждают по кругу одно и то же. Губы слишком одинаково движутся. Все, с кем Манчини говорит, годятся ему в отцы, но задает тон и больше всех жестикулирует именно Манчини.
Собравшаяся вокруг Манчини компания людей только кивает головами да задает все новые вопросы. Манчини явно приходится на них отвечать, оттого он отвечает на вопросы полушуточно и явно по существу. Такая себе словесная саркастическая кашица, но все довольны на вид (похоже, рады услышанному).
С помощью демагогии Манчини (как и мне) удалось избежать массы драк в жизни. Можно сколько угодно времени учиться давать отпор, выстраивать «свои границы», и только демагогам это не нужно. Демагоги — вот кому легко увертываться от ненужных драк. Осталось сделать выборку достойных кадров и создать лояльную во всем личную банду; тогда ему точно никто не станет помехой. С учетом прежних достижений он даже умудрится себя в этом деле превзойти.
Прошлые попытки создать нечто подобное закончились плачевно. Сколько же лет я не видел чернявые волосы Генри, что всегда намазаны кремом для волос и зачесаны назад. Надо же, как сильно его лицо покрылось морщинами! По сравнению с Манчини Генри выглядит как ветхий бессильный старик: вид болезненный, будто вот-вот свалится от хвори, разве что у Генри нет седины.
Напротив, волосы почти чернейшие, как деготь, чернее даже моих. Несмотря на средний возраст, Генри еще пять лет назад мог спокойно называть себя привлекательным. Глядя на эту пару со спины — Манчини и Генри, — можно вполне счесть, что они ровесники одного возраста и социального веса. Конечно, думать так было бы грубейшей ошибкой.
Когда-то давно, когда обо мне долго не было вестей, Мясной Король (младший братец Брюса и Дяди) все допрашивал звонками моих и своих знакомых: где я, как он может со мной связаться и когда я смогу с ним созвониться. Сейчас же Манчини и Генри почти в унисон напомнили мне о моем младшем дяде, или, как его еще называют по его кличке, «Мясном Короле».
Я готов встретиться только на своих условиях. Все же это Мясной Король дожидался моего прихода, а не я его. Из привычного набора знакомых мест приходится выбрать лучшее, и у меня уже есть достойные варианты.
Привычных глазу мест для встречи было предостаточно. Я бы хотел увидеть толстяка в его доме, так сказать, на его территории. Пускай младший дядюшка сам находит место и время, если желает меня увидеть вживую. Осталось только договориться, как и когда наведаться к «Мясозаводчику всея Новый-Амстердам».
В свою очередь, старший Дядя (который для меня просто Дядя) меня избегает, хотя еще год назад предлагал погостить в его имении, и удастся ли мне с ним встретиться до отъезда — тот еще вопрос. В отличие от Брюса и Мясного Короля, в Дяде не было ничего моногамного. Поразительно, как в глубоко женской семье средний сын, который и так был всегда окружен сестрами матери, вырос с четким убеждением, что женщин в его жизни недостаточно и должно стать еще больше, пока два остальных брата только и делали, что прятались от женского внимания.
Разводы были Дяде не чужды, и нескольких жен он-таки выставил из дома, хотя и не выкидывал на мороз. Так или иначе, зарекаться о совместной жизни до смерти во время свадьбы можно сколько угодно. Вот уже после первой брачной ночи все данные обеты как по волшебству пропадают и больше не дают о себе знать. Когда Дядя задевал тему свадьбы, ему все хотелось напутствовать меня, научать уму-разуму, чтобы я не сглупил. Чтобы предусмотрительно позаботился о брачном контракте и не вздумал играть свадьбу без него…
На глубинном уровне брачные контракты плашмя рушат всю корысть, а вместе с ней и смысл данной церемонии. Его женам словно нравится жить скопом под одной крышей, как медовые пчелы в улье. Ведь в мире не так чтобы много мужчин, сумевших преисполниться деньгами настолько, чтобы содержать и попечительствовать стольким женщинам, и по итогу не разориться. Место жен всегда было шатким; они отчего-то всегда тряслись и подавали вид, словно боятся чего-то, но брат был в этом ни при чем: просто изначально набирал робких и боязливых дам в свой гарем.
ГЛАВА 6. РОБИН
Егерь по-прежнему выглядит красавцем: тот же нервный румянец на щеках и белые, почти до седины, волосы. Все как во время нашей первой встречи. Егерь всем своим видом напоминал шведа — пожалуй, тот самый образ шведа, который представляется людям чаще всего: беловолосые, почти седые, с анемично бледным лицом, словно напудренным, и высокорослые (но на дюйм ниже меня). В Филадельфии похожих на него — добрая половина города. Но сам Егерь видит в себе чистокровного потомка пиктов и никак иначе.
Пускай Егерь и носит шотландскую фамилию, и сам был выходцем из Великих гор, где кое-где шотландская речь популярнее и предпочтительнее английского языка. Не раз ему указывали на малую схожесть с другими выходцами шотландского высокогорья, на что Егерь только отшучивался либо после пары кружек пива молча мотал головой.
Помню, я тоже один раз указал на такое внешнее несоответствие; он прочитал свою привычную тираду про неразрывное родство своей исторической шотландской родины со скандинавами, которые и подарили островным шотландцам такую отличительную внешность. До его вполне разумных доводов мне не было никакого дела. Сколько бы Егерь ни распинался с той же тирадой передо мной или другими, большим шотландцем в глазах окружающих ему не стать.
Незнамо который час Егерь выпивал с Генри, и, конечно, я не мог обделить Генри вниманием. Внутренняя старость Генри ему к лицу. После такой щедроты, как досрочное освобождение, он был вне себя от счастья, что еще не спадет долгое время.
Когда его имя стало весить больше всех имен далеких и близких родственников, развиваться не составляло труда. Неплохое предложение для восхода успешной карьеры, но не для него. В первые недели выслужиться было куда важнее. Он зарекомендовал себя как выгодное вложение средств в обучение, которое компания когда-то давно выделила. Работа продолжалась, начальству не к чему было придраться и отчитывать.
Впрочем, его заявление об увольнении стало неожиданностью для всех в компании. Кто-кто, а такого от любимца начальства не ожидали. Для руководства это сравнимо с унизительным подзатыльником. Выпрашивал, а получая желаемое, не стыдился просить еще; в итоге Генри отдали весь запас препаратов. Он стал гораздо спокойнее и смотрел то на пакет, полный лекарств, который только что приобрел, то куда-то по сторонам. Все же Генри решил не покидать так быстро нашу компанию и до конца бесед оставался с нами, хотя и не говорил. Делал вид, что внимательно слушает, когда это казалось уместным.
Ни один из врачей не давал заключительный диагноз пройдохе Генри. Сомневаюсь, что Генри пойдет к тому врачу, что компетентен определить его редкую болезнь; анализы ничего не выявили. Генри всего-навсего хочет получить точный ответ, чем именно болен. Врачи, что обследовали Генри, словно желают дать пациентам право самим определить свои симптомы и поставить свой заключительный диагноз; самообследование для Генри не представляло вовсе никакой проблемы.
Мало того, у Генри имеется его ушибленная нелюбовь к аптечным препаратам, которую скорее можно увидеть разве что у мракобесных людей с боязнью фармкомпаний. Передо мной мужчина средних лет, которому медицина, по его же словам, смогла принести больше вреда, чем пользы, а травяные растирки хотя и не помогают, но хотя бы не вредят.
Судя по нездоровому виду, Генри и вправду нездоров. На шее все больше появляется мелких красных пятен, но все врачи как один убеждают его, что Генри не заразен и это нечто вроде ветрянки, остается только стерпеть, пить обезболивающие и ждать выздоровления. Подобный акцент на заразности меня не отпугивает. Я не стану лишний раз касаться его сыпи даже не из-за боязни заразиться, но из-за ужасного внешнего вида. Похоже, если его госпитализируют, я не скоро увижу Генри. Возможно, только в госпитале Генри смогут помочь. Если Генри хоть что-то способно скрасить боль, кроме пилюль с непонятным составом.
Впрочем, нет по-настоящему вселечащих таблеток. В английских преданиях и хрониках говорилось, что слезы единорога способны исцелить любые раны, а сами единороги плачут только из сострадания к погибающим. Что-то мне подсказывает, что Генри не сможет получить у рогатого коня ни слезинки.
Что же до врачей, врачи — не всеисцеляющие существа. Каждый интерн желает знать подобную тайну: как стать таким и лечить, поправить здоровье каждого пациента простым касанием руки, или как в короткие сроки стать самым востребованным хирургом, зубным, остеопатом и прочим малоприятным спецом, к которому ни один настоящий бродяга не сунется.
Мне не далось понимание, как люди могут оставаться на побегушках у врачей дольше, чем пару месяцев. Подлечивать людей — не худшая занятость из всего, что может предложить Компания; с другой стороны, любому назойливому официанту платят не меньше, и никакой ответственности за жизни посетителей. Официантам платят чаевые и жалеют за нелегкую жизнь. Посетители ресторанов рассуждают, как те докатились до разноса заказов. Санитары и медсестры — совсем обратное.
Бродягам также никакие чаевые (увы) не достаются. Многоглазые бродяги просто продолжают искать себя на вольных хлебах, как будто каждый день последний; жизнь таких искателей день ото дня прогибается, как плакучая ива. Дела все паршивее, прямая линия кренится вкривь и вкось. Все идет к тому, что все одним моментом кончится, словно никогда не начиналось.
Своей отрадой я находил злорадные мысли: «Пускай и так, но многие не доживут и до этого», и в них казалось больше веса, чем в любых словах утешения, как бы приторно они ни звучали. Эта долгая поездка прямо-таки раскрывает мою врожденную склонность впадать в большое отчаяние. Грусть тех размеров, больших, чем простой человек может вынести. Такие приступы — редкость и чаще всего приходят по моему собственному желанию и моей воле.
Кроме больных, что пьют все, что им только ни пропишет врач, я знаю и здоровых людей, что принимают лекарства просто по привычке. Профилактические лекарства — одна из худших придумок городских жителей. В Амазонских джунглях, где и правда любое лечение на вес золота, а все живое — прямая угроза, ничего из лекарств нормально не получишь. Рабочие принимают хинин, и это их спасение от большинства болезней, но и жизненно важного хинина бывает недостаточно. Изобилия лекарств на деле никто не видит, а на всех в избытке хватает только касторового масла да хинина.
В землях к югу от Карибов все припасы подвозят по старинке в деревянных ящиках и бочках на повозках, запряженных мулами, или сами люди тащат на спине свой груз, сколько могут унести. В осваиваемых джунглях хининовые микстуры стали настоящим предметом поклонения тем, кому не помогли травы и растирки. Методы лечения сужаются до проверенных средств, когда малярийные комары и несвоевременные мысли не дают спать по ночам. Только и успеваешь обвешаться москитными сетками с ног до головы…
Несколько лет лгунишку Генри оберегало покровительство и длинный язык. Сделанного не поправить… теперь он, как перевоспитавшийся работник, вышел на прежнюю деятельность. Генри клялся, что те случаи были большой ошибкой: случайной ездой по встречной полосе.
Другим Генри говорил про «аферы» как о самой большой ошибке в жизни. Клялся, что больше никогда чужих денег в руки не возьмет. Генри вышел из-под ареста полтора года назад. Никто не спорил, что Генри получил диплом через усердие и совершенно заслуженно. Но сложно доверить нострификацию человеку, который рад взяться за любое дело и берет заказы от клиентов пачками.
Я, подобно Генри, всегда был готов вписать свое имя под авантюры любого рода, конечно, если авантюры не имели прямого отношения ко мне. Тем более если от их провала для меня не было последствий, а было это всегда. Ничего криминального, только убийство времени. Казалось, я пометил событие своим именем. Дальше, если проделка сохранится в памяти людей, они припомнят, что и я как-то был в это замешан.
Среди своих приятелей Генри стал практически наглядным примером несовершенства американских судов и судебной несправедливости в частности. С недавнего времени на каждого порядочного человека копают, чтобы зацепиться.
Все махинации, которые курировал Генри, — далеко не та причина, за которую можно лишать человека свободы. Прорехи в репутации, что остались после отсидки, не важны: Генри отбыл свое наказание. Разве что наказание Генри было в полной мере справедливо и максимально щадящим. Жилище Генри находится в такой глуши, что ему негласно (с барского плеча судьи) позволили свободу передвижения. Только в центр города Генри запретили соваться. Вот вам и «домашний арест».
Адвокаты упрямо шли на амбразуру, закидывали апелляциями и требованиями скосить срок заключения. Генри как их клиент заслуживал условный срок. Адвокат предлагал увеличить сумму взноса вдвое, и это возымело эффект. Крайне упертого старикана-судью еле уговорили назначить эквивалент условного наказания. Но формально оно было настоящим домашним арестом с правом выйти досрочно, что в итоге и произошло: Генри отбыл всего один год из трех положенных.
Джун, говоря о Генри, только то и делала, что фыркала в его сторону; была абсолютно уверена, что Генри будут до конца дней таскать по судам. В свою очередь, я знал о нелюбви Генри к тесным, закрытым, решетчатым пространствам. Я смеха ради убеждал Джун, что Генри не так плох, как кажется на первый взгляд. Генри — один из тех, кто до тридцати лет не попадал в поле зрения служб правопорядка, хотя имел все шансы попасть за решетку начиная с родильного дома. Предсказания Джун сбылись с завидным опозданием.
Старушке уже не вспомнить, что тюремные решетки давно распилили и переплавили на болты и гайки. Темницы — лишние траты налоговых поступлений. Ради приличия оставили пару десятков колоний строгого режима для самых не находящих места на воле. Остальные правонарушители отплыли морскими конвоями подальше от американского континента, в места лучшего распределения труда. Но Генри никуда не отправили, и Генри никуда не исчез, вот он, сейчас передо мной… Помню, как Генри выбрал удобный для себя вид заработка; его метод неплох… но для меня совершенно не подходит…
Не разделяю любви Генри к милым лет старушкам, что называется, «в самом соку». Впрочем, кто знает, как они себя ведут и насколько отвязно веселятся, пока никто не видит. Генри себя в обиду не даст, но и защищаться от стариков, что гораздо выше по статусу, себе дороже. Легче подставить щеку, терпеть или мириться с этим.
По его же словам, заниматься подобным ему не нравится, но его никто не обязывает, и он может прекратить, когда пожелает. К тому же Генри никому не напрашивается. Развалюхи добиваются его расположения. Не могу сказать наверняка, верит ли Генри в то, что говорит, но его речь звучит вполне убедительно. Генри знает толк во вкрадчивости, да и Генри уже достаточно пожилой, чтобы сближаться с бальзаковскими дамами. Тридцать пять лет с таким здоровьем, как у него, сродни двум третям жизни.
Все это подлизывание до той степени нелепо, насколько предсказуемо; во мне даже возникает мысль подсобить Генри с этим делом, но быстро отговариваю себя. Ему приходится проводить время со всеми скучающими стариками, и он невольно подавил свой пыл. Конечно, старики редко когда бывают тихими и, напротив, только подпитывают неврозы тех, кто о них заботится. Но ему повезло иметь дело именно с такими людьми. Флегматикам, особенно богатым, в старости и правда наступает отменная пора.
Немалое финансовое положение Генри не уберегает от привычки занимать как можно больше денег у всех, кого только можно. Генри привык расплачиваться чеками и векселями, которые так не любят получать таксисты и кассиры. Это вечное заложничество всегда срабатывает, конечно. Общественный транспорт не заменит собой поездки на хромированных, продолговатых такси. Смотрю, как он садится на заднее сиденье; и тут Генри зовет меня присоединиться. Я нисколько не возражаю. Поездка уже оплачена, а внутрь помещается человек шесть пассажиров — найдется место и на меня.
Генри стал для него хранителем городского быта, вестником элиты. Генри знает толк во вкрадчивости, достаточно пожил, чтобы сближаться с бальзаковскими дамами. Тридцать пять лет с таким здоровьем — две трети жизни. Успешно пытался заработать, взбалтывая стариков, нелепо подлизывался. Взамен приходится проводить время со скучающими стариками. Старики «при деньгах» редко бывают тихими, особенно шумят те, кому только в радость подпитывать неврозы тех, кто о них заботится. Но флегматикам-богачам старость — лучшая пора, как и для их сиделок.
ГЛАВА 7. РОБИН
Герман получил контрольный пакет акций (тех акций, что были у Брюса), хотя и имеет на это в разы меньше оснований, чем вся его близкая родня. Никто не препирается насчет этого, будто бы никого не волнует, кто более достоин распорядиться нажитыми пожитками умершего. В завещании все подробно расписано, дальше все остается за поиском лазеек и оспариванием написанного в суде.
Я по своему желанию практически выстрелил себе в ногу и пошел на невыгодную сделку — получать деньги в конвертах, где бы я ни находился. Весь хлам с наследством лучше всего как раз подходит Герману; расклад сил таков, что всё следует оставить самому лучшему, терпеливому и приспособленному, и Герман подходит под это описание всяк лучше меня, Феликса, Дианы и кого бы то ни было еще.
Меня даже забавляло и продолжает забавлять, насколько Брюс как главный смотрящий за делами бизнеса сумел воспитать таких убогих, неспособных к деловой хватке людей… но уже ничего не поделаешь. Мне удалось свалить этот груз гигантской ответственности преемственности и по доброй воле отречься от недюжинных возможностей, которые прилагаются к немеренной ответственности. Ношу, которую так заинтересован нести Герман. Ровно такой же самоотвод сделали и Диана с Феликсом.
От родни не было серьезных попыток втянуть меня в дела наследования семейного бизнеса, но я так и не испачкался в этом болоте. Удалось заключить договор о своей вольнице на собственных условиях, и в то время все решились поставить подпись без лишних вопросов. Пускай я еще много раз пожалею и посмеюсь, что с легкой руки отказываюсь от причитающегося…
В который раз убеждаюсь, что умение смеяться над собой — важная и даже необходимая черта характера. Не до степени едкого стеба и самооскорблений перед зеркалом — хватает и самоиронии в рамках разумного. Я, несмотря на эту дельную мысль, не любитель корчить лицо перед отражением, самоиронизировать, да и в голос стараюсь не оскорблять никого, и в особенности себя.
Генри и Егерь прожужжали мне все уши о намечающейся конференции… я согласился ее посетить еще по телефону пару месяцев назад. Намечающаяся конференция — нечто вроде собрания, где «Исправители проблем» обсудят проблемы города. И я пошел на этот безрассудный шаг, пойти на конференцию со всей серьезностью, скорее из желания заполнить пробелы в новостном поле Нового-Амстердама.
Не сомневаюсь, что в преддверии ненавистных, но важных переговоров каждому из переговорщиков найдется чем утешиться. Все нерешенные вопросы, вечно откладываемые, никуда сами не испаряются, а томятся в спячке и поныне. Знания и ответы на наболевшее «что делать?» прорежутся, как коренные зубы у детей.
Оппонентам предстоит вынести очередной вердикт: стоит ли сдувать пыль и решать проблемы — проблемы такие тянущиеся, растущие и безучастные к людям проблемы. Стоит ли оно того, или городским служащим лучше продолжать сладкую дремоту, покуда у горожан имеется возможность продолжать привычный уклад жизни.
И так по возрастающей претерпели определенные изменения, и как результат — небывалый запас радостных историй о том, как преобразился устав работы: делаешь что заблагорассудится, только будь добр выполнять нормативы вовремя. Четыре года назад это было настоящим шоком; при такой системе скоро вообще никому из работников не придется выезжать на рабочее место.
Стоит подождать с десяток лет, как жилье станет людям таким же местом работы, как и офис. Весь домашний уют вдруг превратится в одно большое рабочее пространство, от работы не скрыться даже дома. Я на такие идеи и бровью не повел: свободный график работы не означает вседозволенность. Не мне уважать работу на дому, тут нечему радоваться: просто теперь начальство будет подсчитывать, сколько часов в скользящей реальности проводят их подчиненные.
Манчини говорит мне это, а в голове только мысль: неужто эксперименты со свободным графиком действительно пошли на пользу? Спросил об этом, но Манчини как человек, что только слушает, но не привык проверять услышанное, сказанул, что чего не знает, того не знает.
****
Как я тут оказался? Неважно: ворота сейфа не заперты, а всюду, где не заперто, там я желанный гость. Этот сейф почти моя собственность, как и все здание, где находится это хранилище, — также мое.
Если слухи верны, именно здесь осели вещи Брюса. В это хранилище соскладировали те личные вещи, которые можно отправить в утиль, но не отправили. Тут и пригодится моя помощь… Над стеллажом нацарапан случайный набор слов, впрочем, для тех, кто выполнил эту работу, они что-то да значили. Все же в блокнот я переписал большую часть из едва разборчивых слов. Стоит думать не просто так; не зря я все время держу под рукой блокнот с ручкой. Никогда не узнаешь наверняка, что и когда понадобится. Пожалуй, эту информацию обязали пролиться прямым потоком на стол к агентам, впрочем, никто в точности не знает, какая великоватая доля бумаг ни до кого не доходит, остается лежать всеми забытой.
Эти страницы слишком долго держали под замком нетронутыми, осталось только сдуть пыль и начать вычитывать отложенные на бумагах знания. Не напрашивались на неприятности, мы ждали увидеть выстроенную по-новому серьезную систему безопасности.
Я только следовал голосу разума: спасти столь ценный перечень данных, собранных под одной неприметной папкой на сохранение. Если им настолько не терпится расправиться с документами, не дать им попасть в плохие руки, пускай этими плохими руками будут мои. Не исключено, что никто из разгильдяев-охранников и не заметит пропажи. Паника и мысли о скорейшей и неизбежной поимке обошли меня стороной; мне оставалось только продолжать жить в прежнем темпе, словно ничего не произошло.
****
Красивых людей среди персонала «Сильвании» весьма поубавилось; я помню еще те дни, когда бокалы с выпивкой разносили вчерашние школьницы, прошедшие строжайший отбор. Сейчас никаких прекрасных лиц официанток нет и в помине. Я знаю всех совладельцев «Сильвании» и их сотни коллег по ресторанному ремеслу. Для каждого уважающего себя обеденного заведения вставал острый вопрос выбора персонала; наиприятнейшие гости становятся жадными к виду прекрасного, особенно это касается обслуживающего персонала.
По-настоящему подходящих на роль официантов и барменов людей в подобные заведения — настоящая редкость, и счастье для тех стажеров, кого выбрали из сотен других претендентов. Как по мне, опыт, проведенный за барной стойкой либо с подносом в руке во всем известном заведении, сам по себе небывалая оплата за старания. Стоит только знать, как этим пользоваться. Охотно верю, что устроиться сюда куда сложнее, чем в крупную корпорацию.
Манчини постоянно вынимает из штанов свои позолоченные фамильные карманные часы. Они размером с крупное куриное яйцо, на длинной цепочке. Время от времени Манчини доставал их, вдавливал кнопку, что открывала крышку. Пару секунд глядел на циферблат, а посмотрев, закрывал крышку и возвращал часы обратно на место, в карман. Если у многих людей есть привычки вроде обгрызания ногтей или наматывания волос на палец, то у Манчини его громоздкие часы исполняют роль погремушки.
За полчаса стояния Манчини все доставал их из кармана, посматривал и возвращал обратно в карман, и так раз за разом. Когда-то и у меня были часы, правда наручные и совсем не примечательные. Не припомню, когда в последний раз носил их на руке, как и любые часы вообще: вся эта культура часов меня не привлекает.
Мои запястья не созданы, чтобы сдавливать их ремешками часов, да и время мне знать вовсе не обязательно. И хотя я никогда не могу по желанию узнать время, если негде посмотреть и не у кого спросить, я могу целые сутки ориентироваться только на внутренний распорядок дня. Есть люди, которым дано знать, когда следует ложиться спать, вставать по утрам без будильника или плотно обедать, не сверяя расписание с часами.
У меня есть такая способность от природы, особенность, которую будет трудно объяснить. Манчини, напротив, моего дара лишен и возится с часами; это, ко всему прочему, дает мне над Манчини необоснованное преимущество, о котором он даже не догадывается.
Он не переставал помешивать кофе и класть в него все больше сахара. Каждый, кто знал Манчини, помнил его в компании дюжин женщин. Тех дам, с которыми Манчини был близок, но которые позже уходили: дерганые, зареванные и ни с чем. По его же словам, он принял это во внимание, заверил, что долгие отношения сейчас нужны как никогда.
Эти отношения не просто другие, а способны полностью изменить его жизнь к лучшему. Она на десять лет старше его, и их разница в возрасте — это то немногое, что я знаю об их отношениях наверняка. Не знаю, как ей или все же ему удалось приобщиться к моногамии, но, пожалуй, в ней и правда есть нечто особенное. Еще бы восемь лет разницы, и их пара могла бы казаться скорее матерью с взрослым сыном. Манчини и не скрывал, что у его новой женщины-воительницы Глории есть темное прошлое. Манчини каким-то образом сумел за пять минут разговора проговориться о ее жизни и едва ли не пересказать дословно биографию Глории.
Я все выслушал, потому и не стану спрашивать, что такого натворила Глория, которая до недавнего времени ходила по рукам у воздыхателей и, видимо, каждого из ухажеров понемногу обкрадывала, вила веревки или подворовывала по мелочи. И угораздило же ее встретить Манчини… два несчастья встретились. В компании Глории и Манчини я, пожалуй, третий лишний, только без слова «лишний». Им всегда будет чем заняться вдвоем без моего участия, поэтому не думаю, что чем-то мешаю.
Мне достаточно только время от времени видеться с Манчини и желательно без Глории… Хотя стоит отдать ей должное, Глория до неприличия красива. Миссис Глория избежала во внешности видимых изъянов. Если это можно счесть за комплимент от меня, то Глория, пожалуй, слышала комплименты куда лучше моего.
Всматриваясь в ее до боли знакомое нутро, я в самом деле понимаю: ей безразлично мое мнение. Мне знать о ее самочувствии тем более безразлично. Глория готова терпеть, относиться ко мне как к старому другу ее парня, а так я ей совершенно никто, и в этом она совершенно права. Длинноногая, беловолосая бестия Глория по правде (для меня) выглядит как стрекочущая белая ворона; поставь ее рядом с Марией и Дианой — даже эта особенность уже здравая причина того, почему Глория была столь востребована в высших кругах.
Когда Манчини идет с ней под руку, такое чувство, что у нее мышц даже больше, чем у него. Конечно, и Манчини дохляк, но как для такой смазливой, да еще и немолодой женщины у нее руки раза в два толще моих совсем веточных мускулов. Голубки прохаживаются под руку.
Пока Манчини держал руку едва касаясь, Глория словно вцепилась в ладонь Манчини своей венозной рукой, больше похожей на цепкую, когтистую обезьянью лапу. Руки Глории закрыты длинными рукавами. Никакая одежда, какой бы длины она ни была, не скроет очевидного: ее бицепсы подходят больше для лесоруба или моряка, нежели для фаворитки желанного холостяка города. Я бы с радостью обменял свои совсем тонкие, девичьи кисти рук на ее несуразно накачанные руки. Глории мои мышцы подойдут куда больше впору, чем мне.
Проходя мимо павильонов, наша троица остановилась возле очередной витрины разглядывать ассортимент товаров. А я все думаю: не из-за рук ли Манчини выбрал свою спутницу? Улицы бывают так опасны, а Глория выйдет вперед и прикроет своего возлюбленного. Защитит Манчини от опасности. Возьмет на себя все услуги, что делают даровые телохранители.
Пожалуй, для таких дам, как Глория, придумали фразу «Смотреть, но не трогать»: сложно распускать кулаки на даму сильнее тебя. Такой симбиоз изящного тощего сардинца и широкоплечей голландки, хотя я даже фамилии ее не знаю, но нечто голландское в ее крови само себя выдает. Скромняшка Манчини не обращал внимания на то, как я иду поблизости; казалось, что ему даже нравилось, что я им мешаю или дополняю (тут уже как посмотреть), словно их личная жизнь вышла на «новый уровень», а побыть наедине подобная пара всегда успеет.
Начало такой темы просто не могло быть обделено вниманием, и есть о чем поговорить. Как только Манчини удалился в туалет, Глория наконец заговорила со мной. Говорила не обо мне, не о себе, а о Манчини. Пыталась выведать: как и когда мы стали, по ее мнению, «не разлей вода приятелями», какими секретами Манчини делился со мной.
Сперва я не понял, что Глория имела в виду, и спросил, что ее конкретно интересует. Она в шутку ответила «все», но на шутку это было вовсе не похоже. Все скабрезное, что я мог выдать о Манчини, и все секреты, которые я о нем могу рассказать, так и застряли во мне несказанными. На ее просьбу я только заулыбался и никаких секретов не выдал. Глория приняла это с неким пониманием и перевела разговор в более небрежное русло — разговоры обо всем и ни о чем.
Манчини задержался в туалете на добрых десять минут. За это, казалось бы, малое время я не сказал того, чего бы Манчини уже не разболтал о себе сам. Как только Манчини вернулся, все расспрашивания меня прекратились. Они до конца вечера общались и ворковали между собой, словно меня и нет. Этой парочке я больше не интересен как собеседник и могу считать себя пропавшим.
Быть может, Манчини через год-другой образумится, но кто однажды заглядывал под каждую юбку, может и остепениться, но то ли дело будет на словах передавать опыт. Даже если красавец Манчини состарится и обанкротится, то непременно найдет себя в обществе щедрых взволнованных щеголей. Щеглов, что только и думают о танцах на танцполе и танцах у себя дома на кровати.
Манчини сможет брать мзду, взимать настоящую плату за консультации и советы по прожиганию юности. Поучать невинных, неказистых, но богатых мальчиков, как стать мужчинами и как они, когда вырастут, смогут преуспеть в жизни так же, как он сам. А его спутница жизни Глория будет занята тем же, только уже с ее (женской) стороны вопроса.
Лучше, конечно, и вовсе написать книгу, которая охватит как можно больше потенциальных фанатов и при должной рекламе будет стоять на каждой полке букиниста. Книга эта будет паршивой и набита очевидными, вековечными истинами, примечаниями автора и редакторскими пояснительными заметками на полях для самых непробиваемых читателей, которым любые разъяснения будут недостаточны.
Знал я тех умудренных жизнью стариков, в чьи амурные похождения из жизни никто не верил; их любовные интересы не вылились в книгу и не принесли никаких денег. Все знакомые только смеялись над тем, какое у старика богатое воображение и фантазия и что в жизни такого случиться никак не могло, а тем более с ними. Бесспорно, проблемных отношений на порядок больше, чем примерных семей; такого рода приходящая клиентура кончится только тогда, когда отношения насовсем изживут себя или людей как таковых не станет.
Знаю, что эта парочка, Глория и Манчини, даже подавшись в бега и скрываясь от всех, сможет до меня достучаться и удивить своей новой жизнью, как у них все в жизни случилось припеваючи на югах; стоит только дождаться и не тормошить события, тогда-то точно позвонят.
Порой автобиографии ничем не отличаются от сборника сказок; их пишут такие выдумщики, что поражаешься: «Сколько же наглой лжи может поместиться на страницы такой маленькой книжонки?» Их пишут если не девственники, то те, кто без одежды видел только свою жену. Но есть и опустившиеся братья миллиардеров, которые еле влачат жалкое существование на улице. Всех убеждают, что он брат того самого воротилы, и готов многое рассказать про младшего брата за разумную плату. Неясно, кому верить, но кто-то ведь действительно правдоруб, а не немытый сумасшедший. В самом деле непутевый родственник у своей преуспевающей родни.
По моим меркам, поиски затянутся надолго, но сколько бы эти ищейки ни вынюхивали и ни искали, Глорию они не отыщут. По обыкновению, застаиваться на одном месте, как засыхающие, вянущие цветы в стоялой воде, всегда рискованно; иначе на безопасность даже в Амазонии можно было бы не рассчитывать.
ГЛАВА 8. РОБИН
Кто бы что ни говорил, но Мясной Король умеет договариваться. Я дал ему выбор самому решить, где сегодня отужинать. Моя прихотливость сегодня не проснулась, и я был согласен отужинать где попало. Из привычного набора знакомых мест приходится выбрать лучшее, и у меня уже есть достойные варианты. Осталось только принять бой на его территории; меня даже вдохновлял такой поворот событий. Наши мнения, где провести званый ужин, сошлись клином на его доме, что неподалеку от северной окраины Бруклина; Мясному Королю даже не потребуется никуда выезжать — только впустить меня в дом, и дело с концом, конечно, если он захочет меня впускать.
В прежние годы мне уже доводилось бывать внутри его дома, только тогда дом еще был во владении Дяди. Поместье, которое Дядя благополучно сбыл младшему брату за бесценок, могу понять почему: добираться из такой глуши до центра города ежедневно было выше всяких сил. Тучный вид Мясного Короля никак не выходит у меня из головы; казалось бы, и выглядит неплохо, а все равно отталкивает…
Мне (к счастью) не приходится задумываться о похудении, сжигании жира (которого у меня нет); если и правда верить во всю эту похуденческую тематику, похудеть можно благодаря чему угодно, стоит только стойко придерживаться правил. Даже сейчас у меня перед глазами проносится та реклама на билбордах: на ней некогда тучный мужчина буквально утопает в своих прежних штанах и смотрит вниз, в сторону ширинки, словно не понимая, как мог быть таким округлым…
Этот диковинный метод, который совсем недавно придумали диетологи: приходится, не поднимаясь, лежать, ворочаясь на кровати, как бессонный ребенок, днями напролет в своем обиталище или номере отеля и не переставать ждать, пока весь телесный жир как-нибудь сам собой рассосется. Я задумался над этим и вдруг понял, что у меня в окружении и нет людей, которых я мог бы назвать по-настоящему толстыми; да, есть в меру упитанные, но никого из них толстяком не назвать.
Пускай мне совсем не нравится свое тело, по-настоящему я никогда не хотел его менять, пускай и все парни вокруг и правда словно дразнят меня своей внешностью, но такой низкорослый, как я, может похвастаться… Вдруг во рту пересыхает, словно я час высовывал язык… Я все хотел рассказать немного о своем академическом отпуске… Мясной Король перебил меня и задвинул телегу про свое похудение…
Он всеми силами верит в «интуитивное питание» и говорит о нем почти с придыханием. Интуитивное питание пока что идет Мясному Королю только на пользу. Прошлая комплекция тела не давала ничего, кроме одышки и насмешек со стороны. Впрочем, у него всегда в достатке времени наверстать все сброшенные фунты веса. Надеть прежнюю мешковатую одежду… Каким бы Мясной Король ни был свиномордым хряком, он такой же Грант, как и я, как и Брюс. Да, это проясняет, почему сейчас я разговариваю с ним, а не шатаюсь по Бруклину, как и планировал…
Бедный Мясной Король, пусть он и на порядок выше меня во всем, а все думает обо мне (своем племяннике) как о мамочке. Сколько раз Мясной Король ни уговаривал меня пройтись по праздникам вместе, все кончалось одним и тем же. Будто все праздники были ему как один повторяющийся маскарад, и я рад, будь это правдой. Все ходил за мной, клянчил представить его гостям, к которым сам он постеснялся подойти в одиночку. Когда я выполнял его просьбу, удалялся подальше. На званых ужинах так и надо: болтаться самому по себе. Своим вниманием я только давал ему импульс, все остальное Мясной Король делал сам.
Как только Мясной Король заведется, уже только и делает, что ходит в попытках заговорить с важными для себя людьми, да все без толку. Он был мало кому интересен; по целому ряду причин никто толком не обращал на него внимания. Словно к ним подошел не владелец фирмы, а просящий подаяния бродяга на улице. Подобное сравнение к Мясному Королю подходило как влитое.
Стоило мне посмотреть на Мясного Короля из-за плеча, тогда он и правда на мгновение мог показаться мне приодетым и отмытым попрошайкой. Словно бы я смотрел на розу, но на секунду роза выглядела и пахла как чертополох. Было в нем и что-то щенячье, словно всегда был готов исполнить трюки: его сопливый, мокрый нос, который он то и дело трет носовым платком, умел смотреть собачьими глазами или поймать на лету косточку.
Перед глазами такое пресмыкание и неловкие попытки знакомства на корню убивают в нем всякие намеки на уважение. Каких бы достижений в жизни Мясной ни добился, непростительно слабая позиция для бизнесмена такого уровня: гости смотрят на него свысока и отмахиваются. Пожалуй, его попытки оказались тщетны, с другой стороны, он хотя бы попытался, пусть даже так нелепо.
Ясное дело, Мясной Король преподносит себя выходцем знатного рода, что морским путем избежал незавидной участи многих нерукопожатных дворян Европы. Даже в компании отпрысков старой знати глаз цеплялся за соцветия с враждующих грядок. В жилах всех оставшихся аристократов нацежена кровь из всех знатных домов. Смешивание голубых кровей дает не только плюсы; только не в меру смешанным генофондом и можно объяснить донельзя желтые глаза Грантов, их худобу лица и тела — костлявость, что не проходит, сколько еды ни ешь. Я знаю всех оставшихся в живых родственников Брюса, и лишь Мясной Король выделяется. Только он мелкого роста, коренастый и всем своим видом напоминал, что ему попросту нечего делать в семействе Грант; вышло недоразумение, которое следует стерпеть остальным членам семейства.
Почти что вся индустрия мяса была тесно связана с Мясным Королем, повязана на нем и дышала Мясным Королем. Во многих узких кругах прослыл человеком, снабжающим весь столичный регион мясом и молочными продуктами с избытком. И впрямь, мне не вспомнить, когда на полках магазинов я держал бутылку молока или свиную вырезку без знака качества от продуктовой компании Мясного Короля.
На удивление, все то время, что я знал Мясного Короля лично, был он милейшим человеком, одно время разъезжал по отдаленным краям. Раздавал отбивные бродягам, да и всем жаждущим приобщиться к культуре поджаренных стейков. Мясной Король просчитался только с названием своей компании: оно абсолютно невыговариваемое и незапоминаемое, один лишь логотип в виде говяжьей вырезки остается в памяти.
В целом Мясной Король плохо умеет разговаривать… такое чувство, что говорит он вовсе не со мной, а сам с собой, уж слишком не хватает живости в голосе, да и речи его маслянистые. Все его истории получились короткими и далеко не захватывающими. Казалось, для часового потока словесных изречений есть все условия. Посему так легко выплескивать любую мысль наружу, как китам легко струить фонтан воды. Этот человек, быть может, и харизматичный, но очаровать меня он не сумел.
Желание иметь свое жилье сочли бесполезным и даже вредным; мелкий заработок не позволял уйти из родительского жилья, и приходилось делить дом с братией. Пребывание в отчем доме задержалось; как самый младший брат он и провел дольше всех на родительской шее. Тех родителей, которые в любое время могли и даже хотели прогнать, но не давали вида, что готовы это сделать.
Наверняка, если бы этот дом был меньше да поскромнее, а не громадным особняком, они так и поступили бы. Не каждый жилой дом из трех этажей имеет внутри лифт. Проходящих мимо людей не мог не привлекать вид, скорее напоминающий музей, чем жилое здание, хотя и подойти к нему не живущим в их закрытом районе было еще той задачей.
Когда мне доводилось переночевать у родителей Брюса, я проживал на самом верху дома, под самой крышей. Лежал на кровати и вполне мог понять, в каких завидных условиях проживал Брюс с двумя братьями. Хотя по своей воле мне всегда было неохота встречать своих подставных бабушку с дедом; навряд ли и Даяна с Феликсом так же горели желанием с ними встречаться. Неловкие ситуации разного толка только прибавляли шансы грядущих неудачных, даже провальных любовных похождений. Невзначай мы обменивались взглядами, но больше я смотрел прямо на его упитанное пузо, которое он себе отъел.
Если Мясной Король за годы поисков не нашел себе спутницу жизни и верных друзей, сомнительно, что на шестом десятке лет обретет желаемое. Если хоть когда-то по-настоящему хотел обрести. Не стараюсь выдавливать из себя интерес, разговор начинает меня порядком утомлять. Историй из жизни у него хватит по меньшей мере на недели непрерывного общения.
Самые интересные, те, что я желал бы услышать, Мясной, конечно, не скажет. Мое блистательное прислушивание за ходом беседы навевает еще больше скуки; впрочем, это никак не повлияло на Короля, и он продолжил как ни в чем не бывало. Поток слов прервали оживленные звуки, доносящиеся со стороны кухни, и сиплые голоса прислужников его дома.
По мере приготовления вместо пустых тарелок приносили все новые кушанья; все они были крохотных размеров и елись больше как закуски. Я съел больше двадцати блюд, похожих на макароны, что отдают вкусом рыбы и кальмара. От поедания вкусностей мой желудок переполняется пищей до отказа. Оставалось только попивать воду из винного бокала и выжидать удобный момент, и мне не пришлось его долго ждать.
Мясной Король ел медленно, перекатывая языком пищевую кашицу во рту. Надкусывает словно черепаха, что щиплет листья салата. Когда Мясной Король доел, вдруг стал молчаливым, а лицо приобрело несколько болезненный вид. На самом деле он меня не слушает, и это к лучшему, потому что у меня нет никаких желаний поддерживать его темы разговора.
Майское бесцветное небо перекинулось и на летнюю пору; с наступлением лета город накрыла еще большая пасмурь. Листва стала еще тусклее, а карамельного цвета стволы деревьев почернели, словно налились древесным соком и готовы уже летом сбросить осеннюю листву.
Принялся напевно пересказывать все новости за сегодняшний день. Я не знал, к кому точно он обращает свой рассказ, допускаю, что к самому себе. От живших в Бруклине достаточно долгое время можно ждать чего угодно. Все же в его словах были отдельные фразы, что не казались мне пустой болтовней. Мясной Король, тот самый некогда рисковый парень, что обрюзг, понабрал жирка.
По старым юношеским портретам Мясного Короля теперь уже не узнать. Пока сердечная мышца работает, а клапаны прогоняют лимфу, Мясному Королю нет резона становиться таким же тощим, как его дистрофичные братья и племянники. Над его брюхом никто не стебется, на его мамон не тычут пальцами, разве что в шутку шлепают ладошками по пузу, трут на удачу, как статуи Будды, и не более того.
С виду обивка старинной мебели на ажурных коврах и обстановка помещения выглядят нарочито дорого и оттого видятся мне безвкусными, хотя моим ногам не терпится присесть на подобную рухлядь. Я не решаюсь сесть, как бы она ни выглядела. На дне углубленных тарелок разложены слишком мелкие порции еды как для такого великого во всех смыслах клиента.
Мясной Король себе не изменяет и все живет по-прежнему. Мне не разглядеть его пузо под слоями одежд, но предугадываю, как его живот немало подрос за пару лет. Сколько новых растяжек и складок на его пузе — и не сосчитать (даже если бы он по какой-то причине начал раздеваться и оголять живот).
Но полнота Мясного Короля — дело временное. К нему нагрянет время старости, Мясной Король исхудает, засохнет, как сушеный инжир, и состарится, как в свое время состарился Брюс. Брюс ведь по молодости тоже был пухлым, только к сорока годам жир и отеки начали спадать, и теперь вовеки Брюса будут помнить именно сохлым. Что неприменимо к Мясному Королю. Сколько бы он веса ни сбросил и времени ни прошло, все так и будут помнить его с фотографий, где Мясной Король не помещается целиком, и рекламных постеров, где он как владелец компании позирует, обхватив двухфутовую детскую бутылочку с молоком.
Мои остужающие пыл слова применимы как дротик со снотворным в брюхе у слона, чтобы Мария побыстрее замолкла и оставила меня в покое. Все же она отступила, поняла, что я не куплюсь на ее слова, пока я такой несговорчивый.
Сердцем я уже был не здесь; не по моей части выдавать наигранные реакции, выделывать понимающие гримасы и уделять больше внимания собеседнику, к которому не испытываю ни малейшего интереса. Со мной у них одни неприятности, и им хотелось только поскорее избавиться от моей компании, что было полностью взаимно. Достойных собеседников — как грязи по весне, чтобы еще выбирать вместо них подонков, что тебя ни во что не ставят.
Мясной Король по обыкновению не шел на конфликты, скандалы и размолвки. Мягкотелость Мясного Короля была предметом для несмешных шутеек (по-настоящему несмешных), но над которыми смеялись и даже я посмеивался. Амбиции, рожденные праздной скукой, подсказали ему заняться по примеру старших братьев собственным делом и преуспеть в нем, и полностью себя оправдали.
Несмотря на то что среди крупных игроков рынка он имел репутацию пастушка-простака, которого и можно было изжить из бизнеса, но до того был безобиден и не лез в крупные дела компаний, что его оставили в покое. Сговорчивость и безучастность сыграли ему на руку.
Рекордные надои с ферм цистернами перекачивались на комбинаты, где, в свою очередь, уже готовая продукция отгружалась, развозилась. Скотоводческое дело стабильно приносило прибыль. Аграрная промышленность — довольно спокойная сфера заработка… Деньги любят тишину, это касается любого вида денег, какого они цвета, запаха и грязноты ни были, вплоть до пиастров и дублонов.
Не хватит и всего выпитого молока мира. Заводчик был словно сердечно любил буренок больше любого из людей, пока большая часть ферм отправляет телок на убой. Когда вымя уже не может давать молока, то и корова превращается в набор вырезки, а молодых бычков ждет перемолка в сочный телячий фарш, стоит им только набраться мяса. Но дядины фермы скорее были луговым Эдемом, где рогатым подают свежее сено и моют не хуже породистых скаковых жеребцов. Если бы быки могли мычать от радости на понятном человеческому уху языке, то оды о Мясном Короле в коровнике не прекращались бы и по ночам.
Удивительно еще, как такая гуманная продажа молочных продуктов еще может себя окупить. Прогуливаясь на людных перекрестках, я вижу сотни реклам, и на многих рекламах, которые я вижу, — продукция Мясного Короля. Все эти рекламные рисунки улыбающихся людей с молочным следом вместо усов. Стоят с еле налитыми стаканами и глупым слоганом снизу: «Стакан молока?», словно потенциальным покупателям позарез надобно напиться молока. Рад, если эти рекламные баннеры и правда работают, возбуждают в людях желание прикупить молока…
День выдался необычно долгим, под стать скучнейшим разговорам. Пожалуй, и сам Мясной Король так же утомился от наших бесед, но не находит в себе смелости первым завершить столь прекрасный вечер. Я беру инициативу в свои руки. Я доливаю бокал молока, одним глотком выпиваю его и ставлю пустым обратно, и уже начинаю вставать. Говорю о том, как благодарен за нашу встречу, как, к сожалению, не могу остаться подольше, хотя и хотел бы, только дела мешают. С радостью как-нибудь загляну погостить еще. Не вставая с кресла, он понимающе провожает меня взглядом и добавляет, что «я могу связаться с ним в любое время».
Мне от его вороха слов только тошно; только подумать, такой человек, а признателен тому, что я соизволил его навестить. Нет, я совершенно не могу разделить его признательности в словах. Пускай от Мясного Короля пахнет человеком, а не пластмассой и духами, как от остальных. Мне следует держаться от него подальше, как и ему от меня. Кто знает, что я ломкого могу сказать, а поймет он меня так и так неправильно. В ответ на это я прощаюсь, повторно благодарю за все и подхожу к входной двери, где висят часы, показывающие, что уже почти полночь: выходит, я просидел больше двух часов.
Также понимаю, что в такой поздний час будет проблемой добраться домой, но, едва открыв дверь, вижу припаркованную машину с тем же водителем, что привез меня сюда и ждал два часа, когда придет время довезти меня к дому. Дальше все расплывается, мутнеет, как запотевшее зеркало. Мне удается залезть в машину и напомнить нужный адрес; водитель говорит, что поездка будет недолгой. По приезде водитель будит меня, когда оказываемся на месте. Даже не помню, что на это ответил. Просто машинально поднимаюсь к жилищу, которое совсем не так давно покинул. С трудом открыл двери, глаза стали слипаться и открылись на следующий день. День, в котором не было места поездкам, только отдых и ничего большего.
ГЛАВА 9. РОБИН
Среди пустых мест я приметил привычное для себя у окна; не успел я сесть, как автобус тронулся. Салон внутри оказался полупустым: не насчитать и десяти человек. Смутно припоминаю, что сегодня понедельник и работающим людям не до поездок. На одном из перекрестков автобус заворачивает с междугородней трассы в жилую застройку, где полно остановок, но водитель ускоряет ход, не притормаживая. Мне решительно нечем заняться, кроме как смотреть на виды из окна, но послеполуденное солнце било мне в глаза со всей силой, и пришлось сменить вид.
Осматриваю взглядом пустое соседнее место и вспоминаю, что еду совсем налегке: никаких гостинцев я с собой в поездку не брал, только карманную мелочь для таксофона. Если Бруклин не захочет вот так просто меня отпускать. С полминуты думаю про припасенные монеты, провожу свободной рукой по нагрудному карману и нащупываю несколько монет. Стучу ногтями по невыпавшим монетам и убеждаюсь, что они все еще на месте. Автобус стало потряхивать на выбоинах дорог, которые в этой части города по обыкновению убитые.
Солнце скрылось за тучами, словно закатилось за одной из школ на другой стороне улицы. Оказалось, в этих местах предостаточно школ. Я стал подсчитывать, сколько школ проедет автобус, прежде чем доедет до моей остановки. Проходит никак не больше пяти минут, а я уже успел насчитать двадцать. Все школы небольших размеров. Перед входом у многих школ вывешены вывески и баннеры, на них рисованные зверюшки и надписи, что дублируются с английского на все языки мира. Похоже, именно в этих крохотных школках и учится большая часть бруклинских детишек.
Сегодня я не надел часов, но чувствую, что уже скоро по времени в школах зазвонит долгая перемена. Толпы натерпевшихся детей наводнят эти улицы и разойдутся кто куда. В точности я не знаю, когда следует выходить, но нутро, как и дорожные знаки, подсказывает, что через пару минут мне уже следует подниматься с нагретого мною сиденья и выходить. Хотя водитель по неясной для меня причине почти не останавливается на остановках. Мы проехали их немало; над сиденьями висит шнурок, который стоит потянуть, и водитель все же соизволит нажать на тормоза. Именно это я и делаю: автобус замедляет ход, и дверцы открываются. Молча выхожу на тротуар. Автобус тут же отъехал. Не помню, платил ли я за проезд, а если нет, то стоило бы?
Как бы то ни было, продолжаю путь уже на своих двоих, оглядываюсь во все стороны, словно никогда не был в этих местах (что, конечно, неправда), но не замечаю никаких видимых отличий за время студенческой отлучки.
Егерь заработал легкий доступ к мастерской и пользовался всеми ее благами. Быстро освоился без обучения и показывал перспективные результаты как для новичка; на вопросы о дальнейшей карьере отвечал, что искусство — всего лишь развлечение. Когда возраст дойдет до выбора профессии, мало кто станет выбирать художественное хобби как рабочий способ заработка.
Облагораживание Бруклина происходило постепенно и, мягко говоря, выборочно. Мне пришлось подметить, что никаких заметных улучшений не произошло. Только оглядываясь по сторонам, становилось понятно, что длинные руки муниципальных служб сюда кое-как дотягиваются; вид знакомых домов остается прежним, и от этого мне становится веселее.
Сбытчики и барахольщики расстилали товар прямо на накрытый простынями и одеялами тротуар, выставляя свой товар желающим приобрести барахлишко за полцены или того меньше. Конечно, я знал, что большая часть украдена или отдана даром. Как некоторые любят раздаривать вещи целыми складами — свою непроданную одежду под видом благотворительности. Таким образом можно и освободить место, заняться благотворительностью, и никаких нареканий со стороны.
Мне понятно желание покупать краденое: только так можно разжиться качественным предметом старины, ведь ничего такого старинного и качественного не делалось уже давно. Такие вещи не крадут на продажу, да и разве эти вещи можно считать украденными, если их отдали как залог вместо денег? Каждая команда с перекупленным добром заверяет, что весь товар только недавно был куплен моряками у не знающих цену прекрасным вещам, а прежний хозяин хранил вещь лучше своей репутации. Впрочем, покупателям выбора нет, и приходится доверять деловитым матросам на слово.
Но стоит всегда проверять краденое перед покупкой, даже если продавец на нервах и подгоняет поскорее купить товар. Торопить события лучше всего с осторожностью; отнятый у кого-то трофей лучше вернуть продавцу и не покупать (если вещица действительно сломана). Но трудно вернуть то, что сотнями лет безуспешно ищут, а когда вещица найдена, нашедшему придется прятать у себя раритетную вещь, ибо любой, к кому приносят артефакты на экспертизу, может схватить за руку, назвав вором. Даже если вещь была найдена совершенно случайно или была потеряна по глупой ошибке.
И в Новом-Амстердаме были такие стихийные рынки, потом их становилось все меньше. Теперь их место перекочевало в Бруклин вместе с продавцами. И так со многим… сейчас Бруклин перенял многие особенности, которых больше нет у Нового-Амстердама. Но насколько бы Новый-Амстердам ни терял себя, пора упадка, разорения и банкротства наступит весьма не скоро. Некоторые города опередили время, и для них плохие времена наступили уже сейчас.
Егерю с его колокольни уж точно виднее, какой город до какой степени прогнил — как-никак его любимая тема для разговора… Подходя к дому Егеря, я, возможно, поспешил с выводами, когда впервые увидел его дом и окружение: домишко вовсе не плох и, пожалуй, именно в таких домах удобно жить холостякам или матерям-одиночкам. Конечно, меня и в первый раз поразило, как такой чудесный дом могли продать за бесценок только из-за плохого вида и соседства с колумбарием. Сейчас этот дом кажется еще краше, и краска кажется более подходящей. Как и ожидалось, мне никто не открыл; даже если Егерь и был дома, то вида не подавал. Его предложение зайти как-нибудь еще меня заинтересовало, но всплыло в памяти только когда оказался снова вблизи его дома.
Это кладбище вовсе нельзя назвать мрачным местом — просто крупнейшее в городе место погребения, всего-навсего кладбище, напротив которого и обитает Егерь. Привычный вид из окна скорее напоминает ему вид парка, только парка несколько особенного. К тому же после повального перехода на кремацию тел колумбарии заменили собой привычного рода ритуалы спускания людей к земле. После столичного моратория на рытье погребальных ям и упокоение через землю, легальных нововырытых могил за последние сто лет так и не появилось — только склепы, усыпальницы, колумбарии и наводящие страх постаменты, которые давно следует причислить к архитектурным изыскам.
В арсенале Егеря было достаточно предлогов засесть в мастерскую любым способом избегать домашнего очага. Браться за работу по выходным; когда же он возвращался домой, его работа не прекращалась, тут уже не до семейных проблем, когда сроки сдачи проектов горят, а тишина при этом необходима важнее воздуха. Впрочем, с нескольких попыток влиться в прочие доступные варианты вернулся к подростковому увлечению холстами, чего вполне хватало на нужды, хотя и не без ограничений. Как потомок мог себе позволить большую часть денег откладывать, не волнуясь о завтрашнем дне. Никто из верхов не будет счастлив видеть отпрыска такого семейства в качестве оборванца.
Никто не считал Егеря оборванцем, а сам он тем более себя таким никогда вслух не называл. Когда Егерь достиг большего совершенства в навыках, ему стали уделять большее внимание; поработать успел во многих местах месяц-другой. Бренчать днями на гитаре и жарить на костре пойманных зверей, плавать на лодках в Великих озерах, где каждое из пяти озер проплывали вдоль и поперек.
Все это можно было назвать отдыхом или, на худой конец, нежиться отдыхом на природе под открытым небом. Где у каждого из участников этой компании что-то да есть, что-то да припасено, но никто не прохлаждался без дела. Жили в дикости в мороз и жару; на зимовку также никто не разъезжался по домам, а только больше подкидывали колотых дров в камин. Их условия были далеки от грани выживания, каждый был умельцем, тем, у кого руки прямо-таки из чистого золота.
Да и в местности, где они обосновались, было полно рыбы, что словно сама просится на крючок, и рогатой живности. Рогатину в тех «дикарских краях» еще не успели истребить. Лоси нередко бывают равными по росту с человеком и даже больше, но достаточно меткого выстрела из арбалета, как лось падает замертво за час. Особенно если стрелы хорошо смазаны ядом.
Лоси стали ходячей мишенью не только из-за сочного мяса и шкур, но и простого состязательного интереса: не умереть с голоду хватит и улова тунца, а кто прострелит как можно больше дичи — это уже соревнование. По рассказам Егеря сдается, что он только тем и был занят, что охотой, бытовой волокитой и плаванием на лодках, только я не услышал ничего, что по-настоящему можно приписать как достоинство. Был бы рад провести остаток дней в таком водовороте событий, только хватило такой жизни всего на пару лет, а дальше — возвращение в родную гавань.
Когда Егерь наконец-то вышел из этой общины в свободное плавание, вернулся в родные пенаты и обрадовал всех, кто считал его пропавшим без вести, своим возвращением и живучестью. Так совпало, что Егерь вернулся в Новый-Амстердам из странствий ненамного раньше меня. Егерь подметил такое приятное совпадение, хотя для меня это скорее сюрприз. Я тоже думал: «Егерь уже тоже сменил ориентиры и стал навеки невозвращенцем», насовсем стал «лесным мальчиком» — но нет. Новый-Амстердам полон сюрпризов, следует не забывать об этом, быть начеку: каких еще кроликов из шляпы достанет фокусник и достанет ли. Возвращаясь в Бруклин искать работу посерьезнее, для себя и на более длинный срок, нежели два года работы в городской администрации.
Впрочем, Егерь всего лишь зарабатывает тем самым на жизнь; что бы он ни творил, если это продается, следовательно, имеет право продаваться. Алгоритм понятен, но товар от этого лучше не становится.
Сумел прикупить для себя хорошее место для жилья около переполненного кладбища, возле которого никто не хотел селиться. Егерь же боязливостью не страдал и быстро нашел дом, подходящий под свои запросы. Теперь и проживает в этом доме год; вид за окном в виде кладбища так и остался непривлекательным для друзей, но не для хозяина дома. Никаких неудобств жить возле окраины кладбища Егерь не видел, разве что слишком долго добираться до центра Нового-Амстердама.
В попытке удержать внутреннюю гармонию прибегают к ухищрениям, подобным этому; в отличие от многих подобных бесполезных способов, этот и вправду способен дать ощутимый результат. Человечество открыло его тысячи лет назад, и с того времени замены ему так и не нашли. Современное массовое искусство призвано развлекать и неплохо справляется с этой задачей. Искусство прошлого не старается быть понятным, оттого кажется малодоступным. Я не критик и не мне судить вкусы людей, но множество представленных экспонатов вовсе не достойны занимать место в галереях, не то чтобы быть проданными или подаренными за немалые суммы. Егерь думает в полностью противоположном ключе, и мне везет. Егерь еще не в силах считывать мои мысли, иначе никогда не стал бы зазывать в подобные места.
Егерский запас картин на продажу и впрямь поражает… По всей стене от угла к углу в деревянных рамах развешаны картины, на вид забытые, словно они висят здесь не один десяток лет. Стоит забыть, что их автору нет и тридцати, обстановка выглядит довольно удручающе. На картинах изображены одни и те же два дома, написанных в разных стилях и обстановках; каждая картина отличается от предыдущей, но ландшафт остается неизменным. Автор явно знал, чего хочет добиться, выбирая лучший пейзаж из многих попыток. В немногих местах стены оставалось пустое пространство с вбитым гвоздем: видимо, некоторые картины были сняты.
Я уважаю его творчество, но мне абсолютно не по нраву его работы по холсту, но это не значит, что Егерь пишет одну мазню, напротив: пускай расписывает красками любой холст, как вздумается, лишь бы самим покупателям было понятно, что они покупают и понимали, ради чего они прощаются с деньгами. У каждого из заказчиков вкусы не имеют никаких четких предписаний; их вкусовщина ничем не ограничена, кроме размеров кошелька. Людям по нраву то, что блестит и наполняет их эмоциями, так что, похоже, Егерь еще долгое время будет жить за счет слабых до красоты людей. Егерю стоит только найти тех, кто посчитает мусор за сокровище и не только будет любоваться холстом перед покупкой, но и купит его.
Мои писательские потуги многим тоже будут не по нраву… уж слишком много в них от меня. Выкладываться на пределе возможностей, отшлифовывать сделанное. Я всегда не любил впадать в крайности (но приходилось), словно дотошный поэт переписывать законченные, но несовершенные стихи — вот что по-настоящему глупая и вредная привычка. Как по мне, завершенное дело всегда лучше идеального; удачно выдавать даже плохой результат — уже что-то… лучше бывает только продавать мусор по цене жемчуга.
Конечно, мое неверие в его талант не значит, что Егерь конъюнктурщик, пишет одну мазню на продажу, напротив: пускай расписывает красками любой холст, как самому вздумается, лишь бы самим покупателям было понятно, за что они прощаются с деньгами. У каждого из потенциальных покупателей вкусовщина не имеет никаких четких предписаний и ничем не ограничена, кроме размера кошелька. Людям, как темнокрылым воронам, по нраву то, что блестит, переливается игрой света и наполняет их эмоциями. Егерь еще долгое время будет рисовать или, как это принято у художников, «писать картины», жить безбедно и бесхлопотно, чего и себе желаю.
Все же желающих разбить палатку в чаще леса, но при этом чувствовать себя как дома, крайне много, можно сказать, миллионы. Несмотря на популярность, такое проведение досуга дальше узких кругов никуда не распространилось. Меньшее из зол — просто позволить, мягко говоря, неординарным искателям приключений колоть дрова на пеньках и собирать лесные ягоды. Надеюсь, что ягодки не ядовитые. Дальнейшая судьба согласившихся на такую жизнь вызывает тревогу, но и в городах станет дышать посвободнее без людей, которые могут только сделать родные улицы еще хуже.
Ни с чем я вышел за участок дома Егеря и взглянул на кладбищенский колумбарий. Он ничем не выделялся среди других, кроме размера: это было второе по величине место упокоения, хранения и складирования погребальных урн. Официальное название кладбища — New Hope, долгое время у него не было названия. Когда я в школе вместо уроков читал книгу «История и особенности кладбищ Нового Амстердама и Бруклина», на страницах книги четко объяснялась причина, почему половина кладбищ так и оставалась без принятого имени.
Только я ее запамятовал и совершенно не в силах припомнить. Впрочем, в Новом-Амстердаме и Бруклине всегда была сильна неурядица с топонимами. Многие места и сооружения называются не так, как их прозвали местные власти. Некая попытка бруклинцев называть вещи по-своему, а не общепринято, назло приезжим из других городов, которые знают только официальные названия, как написано в картах и туристических путеводителях, которые туристы внимательно вычитывают.
Подойдя ближе к входу на кладбище, я все яснее вспоминал, что уже бывал здесь в детстве, но, на удивление, не могу припомнить, когда и по какому случаю. Пожалуй, совсем еще в детстве или настолько не придал значения очередным похоронам, что оно подчистую забылось. Но ворота были открытыми, и я не знал, хочу ли я туда зайти от безделья и пройтись. Сомнительно, что у меня будет много поводов посетить кладбище в ближайшее время. Не исключаю, что именно так оно и случится.
Пока я стоял, мимо меня прошел человек знакомого вида. Я на него не взглянул, но оглянулся, и этим кем-то был Егерь. Он также обернулся и заметил меня. В руках Егерь нес две наполненного вида сумки. Мы разговорились односложными предложениями, спросили, кто куда направляется и как проводили те несколько дней, что не виделись. В свою очередь, я сказал, что оказался в городе проездом. Прогуливался к мосту обратно в Новый-Амстердам. Сто лет как переходил мост пешком, что и забыл, каково это. Про попытки встретить его дома я умолчал. Егерь будто бы поверил. Он тоже сказал, что только освободился и уставший. Сказал, что выполнил некие свои «планы на день», и ни слова про сумки. Так мы с Егерем и разошлись на мажорной ноте.
Было время, Егерь писал картины только простым карандашом и даже радугу зарисовывал разными тонами черноты, то еле проводя грифелем по бумаге, то вдавливая так, что бумага чуть было не рвалась. Теперь даже около входа в дом пахнет ацетоном, растворителями красок и самой краской, а на ногтях — следы брызг краски. В увесистых сумках Егерь приволок домой инвентарь с запасом; удобно будет не покупать краски, а заколотиться у себя в доме и с головой погрузиться в творчество, доводя свои изыскания собственного стиля до вершин крайности.
Егерское стремление к этому начинает прогрессировать, необходимо иметь больше общего и считаться с коллегами по цеху и их недостающим опытом. Сейчас он вышел на самообеспечение и поддержание терпимой жизни в дареном доме, чьи окна выходят на немалых размеров кладбище. Одни принадлежности для творчества отнимают часть дохода, картины продаются с переменным успехом и уже вряд ли станут покупать больше.
Как бы то ни было, мне удалось повстречать Егеря, пускай и вне дома… И увидев входные ворота на кладбище, захотелось сразу завернуть туда… когда Егерь скрылся из виду, я прошелся чуть ниже по улице к входу на кладбище. Мне неохота, чтобы Егерь увидел, как я захожу на кладбище, в будущем это создаст слишком много ненужных вопросов. Но если Егерь живет рядом с кладбищем, то значит, что он к нему привык и не замечает посетителей? Пожалуй, так и есть.
ГЛАВА 10. ФЕЛИКС
Для заурядных жизней можно без труда обойтись без удобств, лишь бы брюква по весне давала хорошие побеги. Эта аскетичность применима для сотен других вещей, которые стали обыденными для людей. В часе езды от меня сотни людей уже испытывают на себе прелести аскезы; в их лицах нет ничего от веселья, только приглушенная грусть. Конечно, пройдут месяцы, и их тела подстроятся к новым условиям, недовольство утихнет, тогда любая еда и погода станут поводом для счастья.
Порой страх способен сковывать волю, придавая обыденным ситуациям искаженный, пугающий облик. В мире природы можно притвориться мертвым, и, возможно, хищник пройдет мимо неподвижного тела. Набить брюхо становится второстепенным делом, когда речь идет о борьбе, где победитель известен заранее и ставки делать не имеет смысла. Даяна не была ни жертвой, ни хищницей. Только другие могли оценивать ее поступки; сама же она воспринимала свое поведение как нечто должное, без тени сомнений.
Не мне беспокоиться, что к двадцати годам я ничего не добился. Наивысшее достижение моей жизни пока еще не произошло, оно ждет меня с момента моего появления на свет, и все, что мне остается делать, — не впадать в мысли, что это лишь погорелые наивные догадки о наилучшем будущем. Меня мало заботили подобные мысли, поскольку я уже принял свои детские домыслы за данность и уже не намерен с ними прощаться.
Когда человек еще ребенок, ложное чувство беззаботности отступает лишь перед мечтой вернуться в то время, когда не нужно было думать о пище и крыше над головой, хотя даже в детстве не всем выпадает эта привилегия. Потребность угождать другим порой заменяет собой любые трудности, сглаживая их. Старшие не только определяют круг общения ребенка, но и регулируют его доступ к семье. Вопросы личных решений, касающихся самого ребенка, не должны отражаться на его доле в этом мире. И все же далеко не каждый нежеланный ребенок готов смириться со своей участью, как с подкидыванием монеты.
Когда я был шабутным ребенком, такие мелочи, как «внутреннее чутье», подсказывали мне, когда стоит умерить пыл, помогали мне еще долгое время смягчать наказания за поведение и не давали взрослым людям всерьез держать на меня зла. Без терзаний совести легко наказывать людей, которые представляются абсолютным злом, с простыми несносными детьми все слишком неоднозначно. Непослушание детей слишком приемлемо, и чем хуже дети вокруг, тем собственное чадо кажется лучше на их фоне. Слишком много было у меня мелких промахов в поведении, но собрать из них портрет будущего заядлого авантюриста, как Дядя, было никак нельзя.
Во взрослой жизни такие трюки уже почти не работают, но все же казаться лучше, чем ты есть на самом деле, — почти что необходимый навык для выживания. Не пользоваться этим — все равно что оставить надежду получить желаемое или многократно усложнить себе жизнь. Никому не нравятся с откровенностью принижающие себя люди, словно это для них вид хобби, метод обратить на себя внимание или попросту получить удовольствие; ведь если человек сам о себе не лучшего мнения, неясно, что он говорит за спинами о других. Самовосхваление так легко превратить в харизму, только, в отличие от меня, многие не имеют об этом понятия.
Когда люди отдают котят «в добрые руки», они умиляются собственной щедрости и доброте, но разве подкидыши заслуживают меньшего? Даяна, впрочем, не была нежеланным ребенком. Однако кончина ее отца больнее ударила по матери, чем по ней самой. Старик почти никогда не говорил о семейных делах; человеку, на плечах которого лежит ответственность за сотни тысяч людей, нечего обременять себя семейными проблемами.
Даяна рано начала взрослеть. К четырнадцати годам остатки ее ненависти угасли, и мысль о мести или возвращении к чему-то далекому перестала быть важной, приелась и забылась. Самоистязания приносили такие же муки, как и увечья: лучше потерять часть себя, чем продолжать это. Будь она на месте матери, поступила бы так же. Тех, кто знал Даяну близко, такие вопросы не волновали, и лишних расспросов не возникало. Даже в кругу зрелых женщин, от которых не ждешь порицания, лучше было не испытывать судьбу. Лишь избранные знали о ее приемной семье, а привычка Даяны называть отцом и матерью каждого встречного не вызывала подозрений. Сегодня, в эпоху передовой медицины, рождение детей за сорок уже стало «скрыто порицаемой нормой».
ГЛАВА 11. РОБИН/ФЕЛИКС
РОБИН
Мне доводилось замечать, насколько же в студенческих городках необычайно много народу, которые оголяются перед сном, скидывают одежду куда придется и без стеснения проводят вечера и ночи в чем мать родила. Среди подающих документы абитуриентов всегда было предостаточно нудистов. Особенно из нудистов, чья кожа обгорает на песчаных пляжах, а из интересов — только прохаживаться напротив зашторенных окон в одних носках. Мое университетское счастье было учиться вблизи тех бледнолицых, чья кожа бледная и белая до совершенства. Я не подсматривал, даже больше: закрывал глаза всякий раз, как только видел в окнах эту стыдливую студенческую наготу.
По нужде приходится болезненно разбираться в тонкостях, куда конкретно из ВУЗов зачисляться, большинство подают документы из-за звучных названий заведений. Я сопоставил информацию о внутренней кухне заведений и сделал выбор почти наугад, только и всего. По правде говоря, я мог никуда не уезжать и остаться в одном из престижных вузов неподалеку от дома.
За время учебы в академии ее бюджет все разрастался. В предновогодние праздники открыли новые кампусы, теперь их больше шестидесяти, и без того безмерный университет теперь способен вместить на пару тысяч студентов больше. Разрастание академии завлекает желающих поступить абитуриентов. Отчего в академии будет только больше денег. Но даже с лучшим денежным обеспечением и гигантских размеров исследовательской базой светлейшие умы науки были не готовы предоставлять успешные наработки. Как бы им ни предоставлялось все необходимое оборудование, это не ускоряло ход исследований, подвижки были, но не в желаемом объеме.
Иногда казалось, что чем большие суммы выделяются на нужды науки, тем с большим скрипом проходит работа. Самый крупный университет Западного полушария ежегодно выпускает, как кажется, десятки тысяч юных умов, но фронтир науки остается неосвоенным. Богатейшим людям планеты только в радость оросить потоками меценатской росы учебные заведения.
Дабы заполучить дополнительное финансирование, ряд директоров университетов пошли на многое и пойдут дальше на что угодно. За последние полвека не открылось ни одного нового заведения. Многие, в том числе профессора, сходятся во мнении: «Двенадцать университетов, пусть и на многомиллионное население, вполне достаточно». Пусть и мало, кампусы дюжины университетов год от года все расширяются. Нет нужды распылять профессорский состав.
Подобный набор профессуры — извечная проблема подобных заведений. Большую часть лекций преподают именитые профессора, что маринуются в лекториях десятками лет. Как тихие, но влиятельные профессора не дают президенту академии отправить стариков по домам на заслуженный покой. В эту академию приходят люди ради личных исследований, все обеспечение берет на себя учебное заведение.
Стоит только научным работникам выдвинуть список требований, и любые прихоти в рамках разумного будут исполнены. Возможно, от подобной безотказности в реагентах здесь такая нищенская оплата за работу с учениками; это, в свою очередь, покрывают гранты любых размеров для исследований.
Посетителям во время открытых дверей, проходящим мимо экспонатов, будет сложно поверить, но большая часть этих картин еще недавно пылилась, забытая, на складе одного из крупнейших коллекционеров искусства в мире. Ему с легкой руки отдают на хранение все те картины, что владельцы получают любыми доступными способами. Ужасно неловко хранить холсты в неподобающих условиях, где они покроются плесенью, потрескаются и разрушатся. Подобные галереи и выживают за счет того, что это лучший способ хранить ненужные вещи; в любой момент по желанию их можно вернуть назад.
С того дня я не получал от него вестей (впрочем, на то время я сам никому вестей не посылал). Как человек не в меру спонтанный и импульсивный, он быть может хоть каждый день попадать в беду или ловить солнце на пляже — на том самом купленном пляже, где только Дядя и загорает в одиночку. Он вполне справится: до нашей встречи он больше года искал достойную работу, менял подработки, чтобы выжить.
В отличие от факультета журналистики, танцы — вовсе не место для слабовольных людей. Синяки, ушибы и ссадины — совсем малое, что может претерпевать каждый танцор. Изматывающие многочасовые тренировки, похожие на сюр. Разрабатывать одни и те же телодвижения. Растяжка под надзором меня не веселила, но хореограф, что занимался нами обоими, был на редкость безучастен.
Среди танцоров ходили слухи, что преподаватель танцев человек далеко не из лучших и что поднимает руку на своих бестолковых учеников. Обходит своим гневом только студентов, с которыми приходится сюсюкаться и которые делают все из рук вон плохо. Нам же доставалась только его вялая коррекция наших движений — движений подростков, что танцуют как считают нужным, с песком в голове.
Никаких надутых губ, истошных криков не было и подавно. На моем потоке, набранном практически из одних женщин, два парня смотрелись словно какая-то статистическая погрешность… Странно, можно ли назвать погрешностью то, что новый мэр Нового Лондона был мне «студенческим приятелем»?
Ирвин был из тех людей, кто просто мог без повода надеть килт в сине-черную клетку поверх штанов и не видеть в этом никаких трудностей. Килт — одежда специфичная, под килтом даже трусы носить не обязательно, не то что штаны. Такие эксперименты в одежде меня не радовали. Никто не сможет надеть на меня юбку против моей воли. Походу, в университете никто не замечал такой странности Ирвина.
Профессора уважали любую позицию розовощеких студентов; разрешали наряжаться в традиционную одежду даже не в праздники, когда такую «праздничную одежду» и принято носить. Но стоит только вставить серьгу в ухо, так сразу незаметность пропадает. Знающие профессора видят в тебе только эту несчастную серьгу, а порой и расспрашивают: «К чему парням носить сережки?»
Еще никогда доктора изящных искусств не видели такого танцора, как я; если бы мне задали вопрос, как называются танцы, которые я исполняю, или хотя бы направление, мне не было что ответить. Поставил в тупик всю профессуру, но и изрядно удивил. Ведь тысячи молодых людей только мечтают учиться в их академии, а я только занимаю место желающих… да еще и возбухаю. Я и сам это понимаю — свою лишность, понимаю как никто другой. Желал поскорее закончить этот цирк и просто позволить мне перевестись на другой факультет; другого варианта просто не могло быть.
Не представляю, как подобные представления могут иметь какую-то ценность, да и изматывающие танцы всегда были для меня мимолетным увлечением. Пока мой партнер по танцам воспринимал это уж слишком серьезно. В телодвижениях была некая своя эстетика. Без отдачи я более-менее справлялся с нагрузкой, самонадеянно думал: «Если двигать ногами в такт музыке, то движения превратятся во что-то смотрибельное». Бывает, балерины, видящие себя примой, тренируясь, принимают на себя всю ведущую роль, пока танцовщик-мужчина выкладывается гораздо меньше.
Мне не быть балетмейстером, но сколько раз мне ни доводилось наблюдать за балетными постановками, балет — совсем не командный танец. В плохой постановке даже один танцовщик может вытянуть провальную программу до уровня оваций. Да и слишком конкурентная среда у балета, который со стороны кажется таким беззубым, а в самом деле — настоящая гонка на выбывание. Каждая прима борется за то, чтобы обратить все внимание зрителей с рядовых балерин именно на себя.
С момента, как меня официально зачислили к литературоведам, время посещения общих для всех специальностей предметов у меня сдвинулось ровно на час; я с моими бывшими однокурсниками приходили в одни и те же кабинеты, но в разное время. Мой учебный план из лучших соображений изменили под меня (под мои хотения и удобство). Все лекции, что связаны с танцами, поменяли на книговедческие. Оказалось, посещать книжные чтения и обмениваться знаниями по богатству речи и разбору особенностей слога различных авторов мне дается на порядок лучше, чем двигать телом под музыку. Из всевозможных вариантов, на какую специальность перевестись, литературоведение казалось самым оптимальным вариантом; недолго думая, именно на него я поступил и именно так прикончил свои начинания как великого танцора. Без того мелкие мысли когда-то зарабатывать на танцорстве я отбросил в мусор, как выбрасывают арахисовую скорлупу.
Движения профессора танцев настолько неумелые, что совсем не вяжутся с тем, что именно он когда-то выступал как главный хореограф и балетмейстер: ставил уйму танцевальных постановок в театрах. Его балетные постановки были примечательными, даже где-то красивыми, но не впечатляющими (а честнее сказать, были так себе). Все эти изгибающиеся телодвижения, что с анатомической точки зрения вредны для осанки, и иже с ними. Традиционно победителям танцевальных конкурсов и постановок удаются движения куда лучше тряски ногами неумелых танцоров, но имеет место быть и обратное, когда весь танец напоминает танцора-эпилептика, что пытается переплавить свою растряску, будто шаровая молния вместо громоотвода попала именно в него.
Судя по тому, что я вижу, навыки и грация танцовщиков свелись к потугам не упасть во время танца. Никто не требует от студентов иметь накопленный опыт в танцах, достаточно хотя бы не быть абитуриентом, что парализован ниже пояса, слышать ушами звуковые волны музыки и иногда делать то, что говорит инструктор по танцам. Мне не мечталось выпрямлять ноги, подпрыгивать, словно я пытаюсь достать кота с дерева, а затем еще смотреть, как мои собратья по несчастью танцуют те же движения. На этом танцполе все танцуют, словно бакалавры изящных искусств. Многие не стали утруждаться, перенимая движения друг у друга, и их движения слились в некий один танец, напоминающий пульсацию, как на крупных музыкальных фестивалях. Двигай руками вверх, переминаясь с ноги на ногу, — тогда все поймут, что твое тело создано двигаться в такт музыке.
ФЕЛИКС
Перебирать пальцами по флейте и музицировать, пусть и выглядит легким делом, но порой бывает необычайно сложно. Еще труднее выдать из флейты звуки, не похожие на бессвязный шум и визг свиньи. Правильно обращаться с флейтой я научился за пару месяцев и уже мог надувать что-то похожее на музыку. В отличие от стандартных для новичков полугода обучения. Без мерзотного сольфеджио, от которого выпустившиеся из консерваторий музыканты отходят еще не скоро.
Все сны были заняты уроками игры на флейте, что продолжались по ощущениям тягостно долго. Постельные репетиции заменяли собой все прочие сновидения; казалось, на несуществующем инструменте пальцы не наиграют мелодию, да и вне сна руки не привыкнут держать твердый предмет в ладонях. Но мои сны причудливы, в них я не нахожу отдыха и передышки от объективно существующего мира, в который возвращаюсь после сна. По праву использовать сновидения как репетиционный зал, в который попадаешь через постель, может многое мне дать, многому научить… только брать мудрости таким сновидческим образом я ничего не хочу, и стану ли я хотеть когда-то?
Духовые инструменты — не то, на что так хотят поступить студенты. Музыкальщики обычно берут струнные и клавишные инструменты, а все остальные инструменты достаются по остаточному принципу. Но мне не было интересно мозолить руки или играть на рояле, мой главный инструмент был и будет — пишущая машинка. Играл на флейте я только как некую обязанность и прикрытие для основного заработка, пока сидел у себя в комнате. Мне сыграть что-нибудь на флейте было отдушиной, затем я возвращался к невыполненным заказам.
Над моими мозгами поработали, скинули мои амбиции с шаткого постамента на новопоставленный постамент, мраморный. Я буду жить полной жизнью, раздобуду больше всяческого барахла и «нужных вещей». Флейтист внутри меня найдет паршивых музыкантов в паршивых забегаловках. Кабаки, к которым можно пристроиться, играть музыку ради милостыни и делить территорию с другими «вольными музыкантами» — на овсянку мне всяк хватит.
Перспектив стать флейтистом в симфоническом оркестре у меня не намечается, как, впрочем, и с любым другим духовым инструментом. Мне ли не знать, с какой беззастенчивой насмешкой широкая публика смотрит на флейтистов и насколько мне не нужны их насмешки. Жаль, на одной лишь флейте учеба не кончается.
Первые два курса я не унимался: доделывал заказы ночами, затем работал, маялся над несделанным и доделывал заказы уже днями и ночами, до лекций. Но делать работу вместо лекций я уже не решался. Клиентской базы в университете на двести тысяч человек необычайно много. Вопрос только в том, когда и где подыскать время ее выполнить и примет ли клиент работу без правок, а они не принимали. Не университет, но настоящий хаб людей, которым только дай возможность написать научных статей, эссе и научных работ, переложенных на готовых выполнить их обязанности студентов за карманную мелочь.
Если быть точным, мне никто копейки не платил, даже только взявшись, мне платили немного, но выше других. Потом к выпускным экзаменам мой ценник был не меньше, чем у именитых работников крупных печатных изданий. Во многом я брал деньги только из ритуальных побуждений: всю сознательную жизнь я терпеть не мог выполнять работу за спасибо. Но мне приходилось «работать за огрызки» еще до университета.
Мне и без оплаты оплачивали все потребности, поэтому брать плату за труд первое время было мне необычно и даже стыдно, словно люди тратятся на меня, когда я могу выполнить их работу и просто так. Как водители, которые едут лишь бы ехать, но еще и деньги за это получают; конечно, развозить людей в такси — это почти подневольный труд, но в этом действительно что-то есть, и от денег даже такие идейные таксисты не отказываются. Постоянные клиенты уже сразу первым делом приходили ко мне, выписывали тестовое задание, где уже было написано, что мне делать и как это делать, дабы их эссе хотя бы допустили к проверке. Требования к оформлению не менялись. Я уже наизусть знал, как должна выглядеть готовая работа, но правок просить меньше не стали.
Те, кто «сами себе работодатели», свыкаются с привередливыми заказчиками или уходят на стандартную работу. Я был исполнен гордости и вовсе не против проработать на офисного босса… но взял себе на заметку оставаться без начальства такое количество времени, насколько это возможно. Мне это удалось — себя самообеспечивать, хотя я замышлял гораздо больше. Заказы никуда не исчезли и после получения диплома. Получив диплом, мне даже не верилось, насколько хорошие оценки по итогу получил. Много высших баллов, на которые я и не рассчитывал. Я всегда не умел быть одним из любимцев в классе, как Робин, не умел интересничать и любопытствовать, а без этого хороших оценок и ждать не стоит.
Теперь при написании работ я мог дополнить портфолио наличием диплома; быть может, это на что-то повлияло или повлияет. Мне не оценить, до какой степени. Влюбленности в свое дело я не испытывал, просто выполнял то, что выходит лучше всего. В отдельные дни долгое печатание меня грузило, чувствовал себя почти прикованным цепью к печатной машинке. Все думал, какой глупостью занимаюсь, но это была та глупость, которая дает мне деньги на пропитание. Мне забавно вспоминать, как еще в отрочестве я зарабатывал на своем уме, пока мои ровесники с их перспективными мозгами ничего, кроме оценок, не получали. Все искали себя и свое призвание, ломали голову и безнадежились. Я не обнадеживал себя ни в чем с самого начала жизни.
Найти свое место всегда успеется; даже если все, чем ты занят, это учеба, мир не стоит на паузе. Миллионы выпускников уже выполняют свою работу, а пока человек лишь студентик, клоп, который только проходит свое обучение, каждому прибудет время самому испытать опыт на деле. После диплома и приходит осознание того, что информация протухает быстрее, чем сырое яйцо.
Мне без толку равняться на успехи других, меряться силами с профи и доказывать, что именно я лучше их и достойнее. Пусть я не уникум и не подхожу для самых дорогих и трудновыполнимых заказов, я уже пережил «этап надежд», словно период работы я уже успешно прошел, не успев прожить и трети жизни.
В воздухе пахло жареным от перфекционизма. От былой лени не оставалось и следа. Листы на столе все прибавлялись, и поток злободневных мыслей нельзя было ничем остановить. Мой мозг настолько приучен спасать своего носителя. Это моя козырная карта, усиленный режим работы, без которого я уже не мыслю, как можно выполнять работу «без моего природного допинга». Порой мне ощущается, что все свободное от работы время мозг усиленно готовился ко «дню икс», к моменту, когда придется скрючиться, как при радикулите, и перебирать пальцами по печатной машинке.
Вспоминаю, как Робин в школьные годы хвалился тем, как может ходить по разным местам и ни минуты не засиживаться за книгами, а потом в один момент сесть и складно настрочить все эссе и сочинения, которые только ему давали в школе (а их было немало). Сдать «выполненное» точно в срок. Я молча скрипел зубами от зависти, но позднее и мне далась эта способность: похоже, у Грантов это семейное. Хотя я не был с Робином одной крови и нас, кроме общей фамилии опекуна, ничего не роднило.
Порой я, напротив, бросаю дела на самотек в твердой надежде на то, что мозги набухнут мыслями, а я уже как ретранслятор выведу их руками на бумагу, и когда это удастся — выручить за такого рода работу немалую сумму.
Излюбленное времяпрепровождение литераторов — это подсчитывать и сопоставлять мнения знаковых деятелей об их написанном. Их поток мыслей слишком ветреный и неконкретный, словно флюгер одобрений и критики гоняет из стороны в сторону, как ветер гоняет сухую пожухлую листву. Мое самомнение, любовно потрепанное множеством советов и ехидных замечаний. Когда я прочитывал вслух свои первые работы перед единицами слушателей, мой голос незаметно менялся — перекрашивался от уверенного до почти заикающегося.
Тогда мне даже в голову не приходило, что имею наглость писать что-то помимо научной литературы, где изложены только сухие факты, так что все мои речи напоминали необязательные лекции вне аудитории. Пытаясь делать точные прогнозы, недостаточно просто знать свой профиль до предельного совершенства, но нужно и быть неоплачиваемым актером, уметь меняться на ходу, уметь разговаривать с публикой и в большей степени быть почти как Гамлет на сцене, чем читающим по листку.
Я могу быть сколько угодно правее оппонента, но косноязычие мешает победить в дискуссии или выразиться. Как крикливый младенец, что мешает спать по ночам, ведь каждый именитый ученый не столько исследователь, сколько лицедей, проекция всей команды из тысяч ученых.
РОБИН
Во время долгих перемен студенты любили рассиживаться на газоне перед кампусом или в комнатах отдыха, где на теплых полах расставлены напольные сидения, по размерам подходящие разве что детям, на одно из которых я присел и стал пристраиваться. Лепешкообразные седалища ставят меня в стесненное положение; на нем с трудом, но можно вытянуть ноги, я же предпочитал всегда сгибать колени к животу и просидеть так до затекания ног.
Лекции несли сугубо познавательно-информационный, развлекательный и ознакомительный характер, почему-то все профессора (судя по всему, по личному опыту) решили закрывать глаза на не пишущих конспекты студентов. Мне и не помнится, чтобы писать что-то в тетрадях было обязательно. Когда хореографы не заставляют выписывать в тетради теорию правильных движений тела, это казалось вершиной логичности.
Когда на лекциях английской литературы никто не пишет ни одного слова в тетрадь. Свобода конспектировать — студенческая привилегия, что подсахарила мне все лекции. К ручке во время лекций я почти не прикасался. Одни изложения да до жути унылые эссе; если кто и собственноручно писал эссе, то скорее его просили пересказать написанное по памяти, но если студент не соглашался на это, то мог этого и не делать. Моей памяти хватало запоминать всю поданную лекторами информацию сходу, а не дрожать как осиновый лист. Не боясь, что меня могут отчислить, когда зубы дрожат, до запоминания слов не остается никаких сил.
Но, как оказалось, всю университетскую программу я прочел в школьные годы. Сама учебная программа только дополняла тот минимум, переучивать дисциплины, что и так проходят в старших классах. Экзаменов мне сдавать не довелось, вся история с моей великой миссией началась именно перед сдачей экзаменов. Нисколько не сомневаюсь, что сдал бы их без пересдач и прочих проблем, которых так боятся первокурсники.
Студенты выглядели совсем по-разному: одна половина в белых рубашках и пиджаках, вторая половина — модники, коих в университете большинство. В учебной группе теперь было побольше парней, хотя все еще сильно меньше половины. Все имена моих одногруппников совсем вылетели из памяти, мне не помнится и сколько их было по численности, но точно не больше сорока и не меньше тридцати.
Моя рабочая тактика пропускать ровно то количество занятий, чтобы меня с позором не отчислили, себя оправдала. Заветные семьдесят баллов посещаемости удавалось наскрести, не считая дней, когда сопливые студенты с рубашками навыпуск заражали всех вокруг (и меня за компанию); пропуски по болезни мне посещаемость не портили.
ФЕЛИКС
Студентов созвали на мероприятие, и пусть я мог не идти, я пошел. Выступление актеров было жутким; страх брал не ужасом постановки, а чудовищной игрой всех актеров до единого. На удивление, это происходило в день, когда недовольные демонстранты вломились без предупреждений и без позволения, но выступление было столь фальшивым. Я как зритель уже был готов болеть за вломившихся, кричащих непристойные шуточки и крушащих все вокруг студентов.
Мне не хотелось прославиться как студент, что сочувствует вандалам; так я стал бы с этими «дикарями» в один ряд. Все сидящие в актовом зале стали вдруг невольными наблюдателями неспланированного представления вне сцены; оставалось только вжаться в кресла и затаить дыхание, гадать в голове, чем это кончится. Никто из сидящих зрителей не решился остановить пришедших, никто даже не двинулся с места. Ничего не предпринял и я.
Оставалось только всматриваться с места в зрительском зале на происходящее: как люди в странных одеждах топчут картонные декорации, размахивают в руках металлическими трубами. На грохочущие звуки сбежалась вся охрана академии. Охрана довольно быстро посеяла страх среди «буйных студентов»: охранники скрутили, повалили на пол и обездвижили почти всех.
Остальные стали бежать сломя голову к черному выходу. Как ошпаренные сбежали во двор кампуса. Дальше у нескольких особо идейных крушителей случилась мелкая потасовка (и проиграли). Может, мышц у спортсменов и предостаточно, но от охраны им достались не кулаки, а только перцовые баллончики и шлепки дубинок по мягким, незащищенным местам.
И куда делась моя смелость? Среди прочих храбрецов я кажусь совсем робким; в сравнении с непримечательными стыдливыми студентами буяны, напротив, могут показаться рисковыми и даже безрассудными. Концентрация подобных отчисленных нерадивых студентов в этом квартале настолько высока, что считать смелее их можно назвать разве что каскадеров и саперов.
Конечно, всех буянов выперли. Устроили взбучку и, пожалуй, что заставили оплатить ущерб. В самом деле, студентки были безобидны, пусть и громко шумели. Только железные трубы были явно лишними. Неизвестно, где они смогли раздобыть эти самые трубы. Не думаю, что у них были настоящие заблаговременные планы кого-то калечить — возможно, всполошить академию и не более того.
Актеры (чье выступление прервали) совсем не пострадали, и, быть может, только мозг после такого надолго не оправится. Ведь активисты успели разгромить декорации и оставили актеров на сцене без оваций в конце. Администрация, ясное дело, не рада таким потугам привлечь внимание. Но ошалевшие и так были в списках на отчисление. Лучше всего уйти не поджав хвост, а со вкусом, хлопнув дверью. Я же остался в неком безраздельном восторге от увиденного и услышанного. В сущности, я ничего не предпринимал и ни в чем не участвовал.
В одиночку, меньше чем за час, вынесли упившиеся сонные тела. Конечно, июньским знойным темнеющим вечером проспать всю ночь под открытым небом — не худшая из перспектив. Вот она, настоящая жизнь на кампусе, а не библиотеки и не распитие чайных церемоний.
Пробыв меньше года, я успел разгадать внутреннее устройство академии. Задумки насчет будущего. Единогласно принятые идеи, которые вторят новичкам, кажутся абсурдными; в ответ тронутые умом новички рождают новые, безумные идеи. Но только этот балаган помогает в дальнейшем принимать более сдержанные предложения как осуществимые.
Попытка сделать из разобщенных островков жизни, где каждый каждому наниматель или нанимаемый, сработала в лучшем виде. Большой разлад пробуждает жажду ко всему, что можно выучить и усвоить. Обездвижено лечь без всяких действий, как лентяй, кажется уже непозволительным и немыслимым. Пока я проживаю свой век, пускай сна и отдыха будет мне не хватать.
Порой моя разумность меня тяготит; от меня не поступало никаких просьб рожать меня начиненным немалых размеров мозгом и разумом неоправданно широких взглядов. Парадоксально, но так нужную для меня расслабленность всецело я мог найти только в напряженных часах учебы и изучении книг, не имевших ничего общего с учебным планом. В конечном счете, не имело значения, насколько разрастались мои мысли, пока по оценкам они приносили одну просадку.
В какой-то момент я был даже готов вернуть потраченные на мое обучение деньги, но мертвецам, как Брюсу, деньги теперь ни к чему, вот я и оставлю их при себе. Мне удалось настолько долго откладывать такое решение, что тот, всепонимающий Брюс, уже успел отойти из жизни. Никакого мошенничества, только удачное стечение обстоятельств. Да и университет недосчитался меня вовсе не из-за сложности учебы, напротив, учиться было несказанно просто. Профессура была далеко не худшей, а жилищные условия получше, чем у большей части Нового-Амстердама.
Казалось, единственное, что от меня требуется, — это учиться. Но моего слишком человеческого желания усложнять себе жизнь хватило пуститься в дорогу и дрейфовать обратно в Новый-Амстердам — именно на этот зеленый диван, на котором я сейчас и сижу, и ни о чем не жалею…
РОБИН
Многие студенты — всего лишь дети, которые потеряли опеку и всецело предоставлены сами себе. Всему университетскому составу от нового наплыва первокурсников одни проблемы. Только школу закончили, а ведут себя, как будто им все дозволено, что вполне закономерно и правдиво.
Безотцовщина была и остается привычным делом для жителей: были и те «немногие», выросшие с отцами, но с суррогатом матери в виде мачехи. Среди такого пейзажа полные семьи кажутся уже не просто редкостью, а скорее роскошью. Моим знакомым и приятелям нравилось сетовать на своих матерей, тех, что доставляли проблемы и уходили из семьи. Матушки удирали, сматывались в Новый-Лондон.
В этом даже есть своя извращенная логика: когда женщины заводят детей как залог отношений и некий «груз», который заставляет семейную пару прожить вместе хотя бы до «энного времени». Эта смешная в своей наивности идея, что мужа можно удержать ребенком, сломала не один миллион браков. Матери-одиночки попросту попались в свои же расставленные сети.
Впервые они стали частью хоть чего-то, будь то хорошее или плохое, неважно. То, что превосходит их личные интересы, благодаря чему люди способны собраться и сплотиться. Прежде не замечал такую нужду первокурсников сбиваться в коллективы по интересам. Если раньше эту роль заменяли студенческие организации под протекцией колледжей и глав кафедр университетов, такие стихийные объединения студентов стали популярны только когда я сам был первокурсником.
Считывался очевидный вопрос: что забыл в моем университете тянущийся к знаниям приятный молодой человек, полная противоположность? Привычное институтское бытие не располагает к прочтению книг. Именно в таких местах прочтение книг — одно из немногих доступных развлечений для порядочных студентов.
Переизбыток знаний — верная дорога к преждевременной старости, а кому охота стареть раньше положенного? Были и, как бы мы, двадцатилетние, назвали, «старики», тот тип сорокалетних студентов, что пришли к ученичеству через желание обновиться. Казалось, подобный тип престарелых студентов давно расстался с мыслями заниматься чем угодно, кроме учебы: именно старики и пытаются продержаться на гребне волны подольше да показать себя во всей красе.
Деды, у которых еще был порох в пороховницах, который все никак не заканчивается. Уже отжили свое, а все по-прежнему живы. Бьюсь об заклад, у стариков были и есть свои особые методы развлечься. Печально сознавать, но для меня старые клячи никогда интереса не представляли, да и сейчас черносливоподобные профессора университетов вызывают во мне вместо уважения только неловкие смешки.
Стесненные условия жизни студента обошли меня стороной. По меркам многодетных семей я жил в условиях, близких к императорским опочивальням. Некоторым поступившим на учебу везунчикам удалось поселиться в двухэтажных апартаментах. Мне же досталась на обустройство только одноэтажная квартира у самой крыши; мне это даже нравилось. Под крышей удобно слышать капли дождя, которые бьются о черепицу. Виды из окон позволяют рассмотреть все, будто я живу в смотровой башне. Я не мог поверить своей удаче, даже никаких соседей — один лишь я, да я.
Самообразовательная учебная скука не прошла даром: в довольно короткие сроки я прошел всю школьную программу и сдал предметы как только можно хорошо, особенно по классической английской литературе. Все, что я делал: записывал в тетради заметки и мысли обо всем прочитанном в книгах, только и всего. Пожалуй, эти заметки так и лежат, забытые мной, в одной из резиденций семьи. Настанет день, когда и до них наступит черед моих рук, я стряхну с них накопившуюся пыль и поставлю на самое видное место как напоминание о своем прошедшем бытии школьника.
Как следует все обдумав, я заблаговременно составил завещание. Обзавелся им, как только мне исполнилось восемнадцать лет. Благо по закону мог составить завещание и в шестнадцать, было бы желание его составить. Составлять завещание может каждый старшеклассник, если сочтет это нужным. Особо рассудительные люди и просто реалисты именно так и поступают. Мне доводилось видеть, как мои (особо предусмотрительные) ровесники не боялись составлять завещание до окончания школы. А я все думал: «Завещание — вещь дельная, стоит оформить свое, да поскорее».
Нового имущества у меня за шесть лет особо не появилось, потому и нет надобности писать по новой, описывать, что и кому достанется… Есть ли в профессорах такая предусмотрительность? Пишут ли они свои завещания, а если да, то на кого оформляют? Впрочем, профессора часто обделены предусмотрительностью и даром предвидения. Что уж говорить, даже внешний вид многих профессоров смешит и удручает.
С моей стороны было умилительно смотреть, как профессора, люди, у которых мозг едва помещается в черепную коробку, не могут соблюдать банальные правила гигиены: не расчесываются, подолгу не меняют одежду и даже пренебрегают чисткой зубов. Казалось бы, ум не противоречит красоте, а только ее дополняет, но парадоксально, как люди с высшими учеными степенями и широким послужным списком не способны избавиться от угревой сыпи на лице и только неумело замазывают угри тональником, одеваются не в костюмы, а в поношенное тряпье, словно специально хотят подчеркнуть преданность науке и подчеркнуть свою непривлекательность перед непосвященными.
Но никакой, даже самый мерзкий как внутри, так и снаружи, научный работник не пройдет фильтрацию — всему виной ненужность и неумение уживаться со своими коллегами по общему делу. Пока над ректоральными, энергичными проектами витает протекция спонсоров. Заливать проблемы деньгами — вполне привычная, рабочая и даже обыденная картина для почти всех американских академий. Но президент ИМЕННО МОЕЙ академии каждый раз любил бахвалиться. Весь стол с микрофоном на трибуне не дает профессорам и деканам забыть, какие неземные условия предоставляются именно в этой академии и нигде более.
Преувеличивал ли он, была ли это форма речи или нагло врал, как врали президенты академии до него, мне не довелось выяснить. Его речи давно стали шуткой среди студентов, и на веру его слова никто не воспринимал всерьез. Забавно было его слушать, и этого у него не отнять, этим он мне и запомнился. Я даже имени его не запомнил, но его силуэт еще надолго отпечатался у меня в памяти: еще бы, столько раз я видел его в преддверии академических отпусков. Пожалуй, он же одобряет и подписывает мне все новые прошения о продлении отпуска и уже который год не отказывает в этом.
Отдельным видом юмора было посещать «уроки этикета» и понимать, что на эти уроки ходил не я один. Даже воспитанники, что с вниманием прислушиваются к урокам безупречных манер, так ничего путного с этого не вынесли; упор на уроки этикета выдает в дорогих академиях цель более плавно влить подрастающих детей к делам их праотцов.
Стало быть, мудрость заключается в том, как различать столовые приборы, правильно подносить еду ко рту и как не терять вид во время трапезы. Профессора превозносили мастерство искусной беседы по нормам приличия за ключевой аспект как успешной сделки, так и бизнеса в целом. После окончания курсов по этикету выпускники продолжают неподобающе себя вести, чавкать за столом при деловых встречах не лучше абы кого из простолюдинов.
Ученые студенты не задерживаются надолго среди своих сверстников. Кому есть дело до учебы, нравилось проводить время с людьми на порядок старше, но все еще далекими от старческих лет. Словно профессора не замечали разницы в возрасте и закрывали глаза на то, как среди сорокалетних затесался студент. Придя в одно кафе-бар больше пяти раз, я стал понимать, что в этом месте собираются профессора и аспиранты со всех факультетов и кафедр. Заговаривая со многими, мне удалось войти в доверие и за чашкой кофе вести беседы на щепетильные темы наравне с преподавательским составом. Это заполнило мои пробелы в премудростях лучше любых лекций, на которых мне довелось присутствовать.
Давать людям площадку для высказываний; подобные гуляния привлекали многих просветительских деятелей во время их университетских туров. Академические сомнения о способности таких мероприятий приучить студентов к отрезвляющим знаниям плавно сошли на нет. Позднее эти попытки повторялись, впрочем, все так же безуспешно. Оставить подобные глупости было легко: все попытки были дополнительной услугой к самому обучению и ничего не стоили. Отчего я могу сказать, что только заработал за счет угощений, которых было много и за них не требовалось платить, этим я и пользовался, проводя обеды у них вместо общей столовой.
Только будучи живым, я могу дать оценку подобным рассуждениям и не нахожу ничего близкого. Если это очередная авантюра повеселить студентов перед экзаменами, то это будет десятая подобная попытка показать красоты местных городов. Заподозрить, что в этом году выделили больше грантов, чем обычно, все легче. По-новому участвовать в этом нет никакого желания, и если президента колледжа не будет на своем месте, ему придется разобраться с ситуацией уже без моего участия.
Подобные мысли посещали меня нечасто, но с завидной регулярностью. Только изъездив все прибрежные города от края до края, я убедился, насколько плавильный котел сплавил потомков европейской бедноты в монолитный слиток. Самоуправление городов, некогда данное волей его величества, позволяет свободолюбивым и обделенным вниманием городам вести планирование, как им самим вздумается.
Однажды мне уже удалось со скрипом и не без покровительства нескольких профессоров упросить ректорский совет университета одобрить мою исследовательскую миссию. Написать неподъемную работу о различиях, особенностях и, как бы сказали социологи, перенять местный образ жизни и написать перенятые премудрости на бумагу.
Мои доводы о том, что за последние двести лет никто не решался проводить хоть сколько-нибудь значимое наблюдение за жизнью малых и непомерно больших городов на побережье Атлантики; даже в самых крупных библиотеках мне едва удавалось найти сносного качества краеведческие книги, поразмыслить и читать на страницах жизнеописания без всякой конкретики.
Президент университета счел мои аргументы весьма достойными, выдал мне полный карт-бланш на то, чтобы вместо лекций и написания курсовой работы за второй год обучения я тут же взялся за выполнение возложенной на меня сей амбициозной миссии. Подумать только: такой неприметный, отстраненный от любых учебных дел студент, как я, да еще по своей воле рвется написать уникальный в своем роде альманах по жизни великих американских городов.
Высшие университетские чины даже распорядились предоставить мне финансирование, на которое я никак не претендовал да и не рассчитывал: как-никак серьезная разъездная работа требует денежных вложений. Все же родители студентов выделяют целые состояния на обучение отпрысков, чтобы такие, как я, разъезжали по городам с несомненно важной миссией; даже еду и ручки мне не дали покупать за свой счет, а я и не против. Я не прочь выскребать мед для себя из академического улья. Но воровать сам у себя — это уже слишком… слишком неоправданно опасно, воровство того не стоит.
Объединив приятное с полезным, я и рад был провести два года в подобных странствиях, все продлевая намеченные сроки сдачи проекта. После такого рода работы любой возомнит себя никак не меньше чем лучшим журналистом своего дела. Отсылая целые горсти писем, я давал деканату одни смутные сведения о том, чем занимаюсь и как движутся мои успехи. Профессора все никак не могли до меня дозвониться: сложно выяснить номер у человека, который в одном городе задерживается не дольше чем на пару дней.
Как только мне наскучили подобные странствия, я неожиданно для всех объявился в директорской и с порога ошарашил новостью, что неоспоримо беру академический отпуск по причине усталости от тяжкой работы, которой у меня взаправду не было.
В тот день весь директорский состав вместе с президентом университета всем скопом выехали на срочную важную конференцию, и мне в тот же день одобрили отпуск без всяких проволочек. Представляю, в какую ярость пришли бы все, кто ждал от меня результатов, а в итоге получили неожиданный самоотвод. Конечно, когда научная конференция закончилась, было кому сообщить ректорату сию радостную новость, но это уже совсем другая история.
Я не заявлял, что все бросаю: не дописать такой опус для меня смертеподобно; вместо этого взял положенную всем научникам передышку. Профессорам пришлось бы по вкусу, если за два года так ни разу не брать передышку? Подписывать обязывающих контрактов мне никаких не предлагали, и это было моим спасением, ограничились устными договоренностями. Без нотариально заверенных бумаг устные договоренности стоят ровным счетом ничего, словесный пшик и не более.
В их праве было меня отчислить; лицо, оформляющее академический отпуск, так и говорило, что если я еще раз появлюсь на пороге главного кампуса, меня и видеть не хотят. Профессора — натуры ранимые, пожалуй, таким беспечным поступком их легко вывести из себя, но всем академическим кругам следует принять во внимание, какой это труд — писать столь объемный выхолощенный нетленник. Но есть вещи пострашнее неоправданных ожиданий. Пожалуй, и всей моей жизни не хватит, дабы описать все тонкости обделенных туристами захолустий и не только, не то что за жалких два года…
Мне было непривычно обращаться с ректоратом начистоту, так прямо выражать свое желание заняться настоящим делом. Покидать привычное учебное место оказалось труднее, чем мне представлялось, но никаких проблем после первых трех дней. Кроме облегчения, я ничего больше не испытывал, обо всем позабыл. Подзабыл, что когда-то плясал под надзором бывших балетмейстеров. Попыток остановить меня в моем только начавшемся пути никто не предпринимал, им нечего было со мной делить. Поживиться за мой счет никто не подумывал.
Разгребая накопленные в академии вещи в хранилище для студентов, я нашел его полупустым. Все лишние для поездок вещи я так и оставил залеживаться в своей студенческой ячейке, которую у меня никто не отнял. Но уборщицы всегда суют свой нос куда не просят и прикарманивают к себе студенческое барахло, которое лежит без спроса. Конечно, обворованные студенты кражу пытались не замечать и подворовывающих уборщиц не хватали за руку; запасные ключи от ячеек хранятся именно у них.
Для них это не стало сюрпризом — получить бумаги с частью готового опуса; мне кровь из носу была нужна причина для продления академического отпуска, поступают едва не каждый день. Его приняли, перебросились парой фраз и отпустили. Уже десять минут спустя я вернулся к свободе. Первая же припаркованная машина, как оказалось, приехала за мной, и вышедший из дверцы водитель помог мне положить сумки в багажник. Пригласил меня сесть на переднее сиденье, и мы как ни в чем не бывало поехали в направлении парковки главного здания города. Туда, где мне пришлось бы прожить с перерывами следующие четыре года.
Привычные мне сделки с совестью не имеют за собой никаких долгосрочных последствий, мой сон оставался прежним и ничуть не ухудшился. Если бы я ставил задачи никогда не ошибаться, то вовсе ничего не делал бы, кроме как спал, ел и облегчался в туалете. Вместо этого я забавляюсь тем, как представляют себе студенческую жизнь профессора, которые были студентами в те годы, когда совместное обучение мужчин с женщинами казалось вздором и единичными, особыми случаями.
За то мизерное время, что мне довелось проучиться, я окончательно усвоил, что университеты работают как смазанный механизм только тогда, когда студенты сами того позволяют, в противном случае все попытки заинтересовать учащихся ни к чему не ведут. Годы идут, а я пытаюсь найти достойное применение этим академическим знаниям, но, кроме пары глупых идей, ничего достойного раздумывания и обсуждения с другими людьми не приходит в голову.
Академические научности есть потому, что должны заполнять пробелы в, пожалуй, более важных вещах. Вещах слишком сложных и важных для моего неученого, а значит, и недоразвитого умишка. Было бы каждая фраза ученых значима, как сами ученые описывают свои труды, безнадежно больные и отчаянно ищущие лекарств жили бы в совсем другом мире. Только самомыслие сыграло мне хорошую службу. Конечно, диплом и его наличие — это некий гарант того, что ты что-то да знаешь, и если тебя не выгнали из университета по разным причинам, ты не совсем пропащий человек. Если не брать врачей, юристов и еще пару профессий, где действительно важно образование, можно без опаски притворяться тем, кем хочешь быть, но делать это достаточно убедительно, чтобы другие поверили.
Если вести себя всю жизнь как вершитель мира, рано наступит момент, когда и сам в это поверишь, и уже не будет повода всем внушать свое мастерство и значимость как эксперта в своей профессии; только лучше всего это делать как можно дальше от родного дома: будет обидно, если знакомые выведут тебя на чистую воду. Но если я действительно допишу свою рукопись о житии американской глубинки, уже могу смело называть себя писателем без всяких «но».
Если верить россказням, и у многих преуспевающих дельцов действительно за плечами нет ни одного диплома и даже школьного аттестата, то я снимаю шляпу перед этими безродными мирожителями. Ораторствуют они совсем не по-обывательски. Без крепких устоев и догматов сложно завести несведущих к себе в поисках знаний и сменить привычное видение мира. Впрочем, меня как формального студента с неоконченным высшим вполне устраивает их уровень самообучения. Для людей, что не провели и одного дня в университете, уже вполне достойный результат, не то что я со своим неполным семестром.
Вникать и понимать далекую от меня тему уже дорогого стоит. Изучать идеи, к которым я не питал теплых чувств. Насильственная зубрежка и кормежка себя пустомыслием окончилась ожидаемо: только одним отвращением к учебе и не принесла мне ничего, кроме потери времени. Целых недель учебы, что так бездарно потрачены. Не желая разочаровываться дальше, я сгреб все книги в один ящик в надежде если не прочитать их, то продать или раздарить на праздники, или продать в голодные годы, которые почти с колыбели я себе предрекал.
С младшей школы я стал без шуток задумываться, что мое место — засыпать если не на свалке, то в сточной канаве неподалеку от нее. На этот случай и существуют дареные мне вещи, с ними я смогу разжиться деньгами, которые отсрочат мою бесславную, но полную свободы участь. Большая часть нераскрытых подарков так и хранится в разных домах, складах и даже подвалах. Многие недооценивают, насколько порой много людям дарят вещей и как трудно собирать, складировать подарки в одном месте.
Если коробки и ящики с моим добром еще не растащили, не украли и не выкинули, посчитав за ненужный хлам, у меня легко может скопиться подарков на круглую сумму: продать безделушки и на вырученные деньги прожить сытые годы где угодно. Пожалуй, стоит хранить память о подарках как маленький секрет от всех и поминать только в мыслях. Пока что никакой крайней голодности в моей жизни не настало, а когда настанет, я без малейших угрызений совести сорву всю подарочную упаковку. Вскрою коробки, которые следовало открыть еще годы тому назад.
Примешивается возвышенная грусть, какая есть у безнадежно интеллигентных алкоголиков, словно только ради подобной грусти и пьют. Конечно, не в вине скрыто то, отчего глаза намокают, а с покрасневших лиц юношей стекают слезы, а о студентках и говорить не стоит. Нужда в попойках была выше воздуха, без пунша не обходилось ни одно хоть сколько-нибудь значимое событие. Мужчины пили наравне с женщинами, но было то самое понимание, когда иной раз лучше оставить стакан наполовину пустым.
Для посторонних все эти мимолетные радости были одинаковы и различались только набором гостей и случаев, которые случались у собутыльников по жизни и которые лучше рассказать всем. Но я припоминаю каждый из них как вчера. Признаю, что сейчас ни за что не стал бы в них участвовать. Многие перешли на более щадящие тело способы завязать разговор, но бокал вина в подходящем месте выпьет кто угодно.
Выпивая подобную бурую жижу из общего бокала, мне не было дела до риска заразиться или до следов губной помады выпивающих дам. Концентрированная коричневая патока, смешанная с чистым спиртом, убивает всевозможную заразу, как и пищевод тех, кто решился выпить подобное тягучее засахаренное пойло местного разлива. Да и могут ли слюна и губы приносить по-настоящему чумные болезни? Стало быть, нет.
Празднования в самом разгаре, невиданный прежде приступ щедрости не позволял в этот день взимать плату. Мало кто мог устоять от такого искушения. Казалось, едва не весь студенческий город нашел свободный час времени и навестил щедрого старика (который по совместительству моя заноза и поручитель по университетским делам). Я оказался внутри ближе к рассвету и попал в полупустое помещение. Ожидалось, что большая часть заблаговременно разойдутся по домам, и я оказался прав. Моего старика нигде не было видно. Беззубые студенческие клубы по интересам не испугают даже самого робкого в мире декана.
Конечно, никто точно не знает, чем заняты все мужчины средних лет в полосатых, слегка испачканных рубашках, которые собираются в определенные дни обсуждать все, что приходит в голову. К счастью для города, в управленческие головы редко приходят стоящие мысли. Слишком много отвлекающих вещей, на которые так просто на изрядное время перенаправить все внимание. Студенческие объединения — совсем другое дело. Университеты издавна заняли нишу как рассадник самых разных идей: большая редкость, когда желания студентов, безлюбных ко всему светлому, совпадают с целями правительства. Сейчас, напротив, студентов со всех сторон обложили стерильностью, что собрание недовольных сочувствующих в одну мощную силу уже невозможно.
Когда слишком многое можно потерять, риск теряет всякую привлекательность, только по-настоящему отчаянный человек может пойти на крупный протест. Жизнь слишком легка и беззаботна, чтобы ненароком и по своей же вине сделать ее куда хуже. На меня эта мысль бессильна: слишком цело и тепло то чувство, когда каждая промашка и каждая темная мысль в голове способны дать целую бурю прерывистых сложнейших эмоций.
ГЛАВА 12. РОБИН
Егерю посчастливилось иметь в роду одного из крупнейших просветителей родной Шотландии. В родном Эдинбургском университете он был описан современниками как человек со своеобразными идеями, которые было немыслимо воплотить в жизнь, и никак не мог найти покровительства. Его благородные начинания готовы были оплатить… он перебрался через пролив во Францию, где нашел себе применение при королевском дворе, но как чужеземец не пользовался доверием среди знати, зато имел за собой опыт торговли табаком и заключения торговых договоров с купцами Нового Света.
Французы безуспешно отстраивали на заболоченных местах все новые торговые форты и мелкие поселения на несколько сот жителей; поселенцы без продыху подвергались нападениям индейцев и постоянным неурожаям. Прибыли со всех трудов и стараний не покрывали даже содержания колонистов, в Париж нельзя было собрать и монеты налогов, этой монете неоткуда было взяться.
Глава казначейства принял его доводы за разумный способ выйти из патового положения, и вскоре новые конвои людей уже насильно собирали из узников тюрем, которые уже не вмещали новых пополнений разбойников. Их заставляли подписывать пятилетние контракты в обмен на свободу. Власти без лишних доказательств понимали, насколько в тех болотистых враждебных краях они не дождутся своей свободы, а дождутся удара томагавка: но среди отчаявшихся невольников не было разницы, где прозябать и на каком континенте, даже если это будет отчаливание в один конец.
Преимущество отдается первым творческим порывам: что попадет в голову первее всего, то и есть лучшее, по заверениям его последователей. Это помогает держать голову в чистоте, отходить от всего темного к свету и становиться все ярче (что бы это ни значило). По их виду я, пожалуй, могу подтвердить, что подобное применимо на практике.
По тому, как мало людей воспринимали его учение всерьез, ничем большим, чем клубом по интересам, это назвать было довольно трудно, но его влияние на умы сложно переоценить… пусть литературные критики считали все им написанное за ненужное мудрствование. Он как писатель и сам догадывался, что его стиль и слог мудреный, знал это не хуже самых предвзятых критиков, но продолжал нести свое слово в народ — «народ, готовый его услышать» (как он сам говорил о себе). На удивление, эта идея запала мне в голову; и как только восьмилетнему мне удалось воспринять столь зрелую досадную мысль? Это неясно даже мне.
Исследовательские препоны происходят регулярно, и нет большего препятствия, чем рецензирование от академической среды. Попытки издаться в обход — в самый раз для тех, кто хочет пробиться. Незачем пытаться приглянуться членам жюри: для них тот, кто не является их частью, видится дикарем-мятежником. Если на то пошло, никто не пытается ворошить их улей, пока пчелы не выставляют жало как аргумент своей правоты.
ГЛАВА 13. РОБИН/ФЕЛИКС
РОБИН
****
У нас обоих не было ни бумажных пакетов, ни чего-либо другого, куда можно опорожнить желудок. Водитель совсем не лихачит, я бы даже сказал, едет медленнее разрешенного. Но салон автобуса трясет во все стороны, как рыбацкое суденышко в шторм.
Феликс, в отличие от меня, более слаб на желудок и, видимо, страдает морской болезнью. Живот Феликса издает бурлящие звуки, словно он днями напролет ходит с пустым желудком (но если и так, в таком случае и пакет не пригодится). Я сижу с ним рядом, отчего приходится выслушивать весь спектр звуков его желудка.
Прошло уже минут двадцать пути, Феликса не выворачивает: только нездоровый вид на лице и совершенно пустой взгляд через меня, куда-то в сторону окна. Предлагаю ему поменяться местами, на что он соглашается; пересев ближе к окну, Феликс не стал выглядеть более здоровым, только теперь все его лицо повернуто в сторону зеркала. Осталось не так много станций до конечной, и меня донимают мысли, что следует делать после приезда на остановку.
Таскаться с Феликсом и парой ходить незнамо куда — совсем не выход. Пожалуй, распрощаюсь с ним, как только остановится автобус. Мы разойдемся и пойдем каждый своим путем. Да и пока Феликс сейчас похмыкивает и смотрит залипающим взглядом в окно, ему будто стало лучше; укачивание — вещь хоть и неприятная, но не смертельная.
Неожиданно автобус резко притормаживает, меня с Феликсом чуть встряхнуло. Водитель задергал шнур, отчего в автобусе слышится гудящий шум паровоза (неплохой способ будить пассажиров). Водитель дает о себе знать и во весь голос напоминает, чтобы во время остановки пассажиры не забыли забрать свой багаж; мы оба едем почти налегке, и за сохранность нашей ручной клади водитель может не беспокоиться.
Поворачиваюсь к Феликсу, говорю, что собираюсь его оставить; в ответ же он признается, что хотел сказать мне то же самое, а сам он собирается отправиться к моим сожительницам. Похоже, для него Мария уже определила обязанности на сегодня, и до меня обоим не будет никакого дела. Феликс разгребает все прихоти прекрасного пола, а мне остается только изредка их видеть — неплохая сделка, которую я не заключал и от которой ничего не теряю.
Если Мария и Даяна говорят дело и у засевших вблизи Бруклина людей есть чем заняться, я с радостью проведу время у них. Собственно, Мария с Даяной приедут на то же место, куда отправляюсь я, но часом позже.
****
РОБИН
Поселенцы не питают никакой любви к Новому-Амстердаму и Бруклину. Нет никакой любви и к деду, что их приютил. Все их бессребреничество поддельно желтит, как золото дураков. Я совершенно согласен с утверждением: «Лоск Нового-Амстердама — не более чем витрина и наглый обман». В будущем уж точно любой лоск городов сотрется, городское благоустройство пойдет своей дорогой, совсем по-другому, все преобразится, и Новый-Амстердам преобразится вдвойне… Если от Нового-Амстердама вообще что-либо останется.
Забудутся все воспоминания о Новом-Амстердаме, кроме как о мировом центре, что утратил всякое значение для мира. Это уже произошло с Вавилоном и Мадридом. Буду думать, что мое любимейшее кафе «Сильвания» будет держаться до конца, простоит, пока от всего города не останется одна зола. Избежит ли Новый-Амстердам вавилонского сценария? Задай я подобный неприличный вопрос в приличном обществе, сколько ответов услышал бы?
Насколько этот ответ меня обрадовал бы, а насколько огорчил? Слишком велик соблазн ответить на подобную мысленную дихотомию по-разному… Слишком откровенно, а не передавать ответ по сломанному телефону. Мир и без того переполнен ошибками, чтобы создавать новые ошибочными мнениями и просто ничего не значащим словоблудством. Пока что мне прекрасно живется в мире, где Новый-Амстердам что-то да значит, а раз так — что-то значу и Я…
Меня воротит от недовольства многих скептиков, желавших плавных изменений, что и не думают принимать любого рода решительные меры. Так заведено в мире, что лучшие пути развития тут же ставятся под сомнение, и многие правильные законопроекты клеймятся как «не выдерживающие критики», а бланки с непринятыми пачками законов просто шмякают в ком и закидывают куда подальше…
Казалось бы… вот смотрю я на этих людей, что друг другу совсем не родня, а во всех них видится общность; быть может, солидарность во вкусах и мыслях и впрямь делает людей похожими… даже внешне? Поставить этих поселившихся на ферме в один ряд, и можно не заметить различий: по виду они напоминают выходцев из закрытого, недоступного внешнему миру городка на острове, острове, что живет не иначе как по своим клановым правилам.
ФЕЛИКС
Земля в округе и вправду чудесная, но никто ее не возделывает и не засевает — никто не кормится с ее плодов, по крайней мере пока. Да и кому возделывать эту землю? На всем пространстве его участка нет ни одной рассады и саженца, посему фермой эту территорию можно не называть, скорее нетронутая чаща, чем ферма. Пока старик еще дышит и владеет этим участком, никто и пальцем не пошевелит.
Глядя на состояние милейшего деда, я понимал: старцу уже недолго осталось. По словам поселенцев, старик годы упирался, жил в своем уголке суши и не шел на уступки ни за какие деньги. Я понимаю, почему с ним обошлись более радикальными методами, чем простые уговоры. Будь старик помоложе, от участка камня на камне не осталось бы. Компенсации хватило бы построить дом совсем в другом месте, подальше отсюда. Стоит только тронуть таких стариков, и они уже сложатся, как карточный домик.
РОБИН
Эти люди, что поселились у старика, и правда выполняют договоренности: «Я вам землю, а вы следите и заботьтесь обо мне, словно бесплатные сиделки». Следовательно, за стариком есть какой-никакой присмотр. У меня нет особых сомнений, что эти поселенцы явно надавили на старика, чтобы он дал им поселиться на ферме. Быть может, старик только делает вид, что все в порядке, а на самом деле находится у этих поселенцев в плену; это вполне объясняет нежелание старика покинуть ферму — слишком уж много риска для такого немощного деда. Но сейчас все выглядит прекрасно, а что еще нужно?
Дедуле-фермеру от чистого сердца охота накормить усталых путников (вроде меня), а нам остается только принять еду в качестве хозяйской щедрости. Старик выглядит еле ходящим, еле дышащим, мускулатура худее скелета, словно в жизни ничего тяжелее половника не держал. Как ни странно, такие кухарщики и знают толк в готовке… подобная внешность и, как следствие, манера готовки придают стряпне особый вкус. В мои планы не входит брать еду и объедать стариков, но раз уж он сам кладет еду мне в рот, остается только прожевать.
Гостеприимство стало не только возможностью, но и постепенно переросло в обязанность раздвигать руки в объятьях да пошире. Конечно, никто не станет придираться: еще можно было вдумчиво молчать и говорить только когда спрашивают. В столичном обществе хранить слова за зубами стало почти жизненной необходимостью. С другой стороны, без подвешенного языка подъем по карьерной лестнице тернист или невозможен. У поселившихся в округе людей с языком все в порядке — вот что, а говорить они и впрямь умеют.
Дед все повторял, «насколько у него тихо и безопасно»; его словам было трудно не поверить. На этих непаханых землях никогда не было людно, люди исходили обувкой все прочие уголки Бруклина, но только не частную фермерскую собственность… Для этого старика и впрямь наступило блаженное время: за ним теперь есть кому заботиться.
Главарь меня заверил, что все люди здесь мирные, пришли издалека: только и делали, что табором кочевали. Переходили от города к городу и рады бы продолжать. Местный дед приютил их, дал разбить стоянку, а когда придет время, они налегке поднимутся и скопом перейдут в другие места. Занятие свое они любят и проделывают такой фокус годами.
Я несколько перебил его мысль, отошел от темы и все спрашивал, как они устроились на этом месте и почему среди них так много женщин. Он нисколько не смутился и сказал «хороший вопрос», прочел мини-лекцию об истории их движения, у которого, как оказалось, нет одного названия и постоянно придумывают все разные.
Многие по привычке называют их старыми названиями или любыми словами, какие придут в голову. Главарь придумал это специально, чтобы их название оказалось у многих на слуху, но под разными именами. Рассказал, что все эти прекрасные женщины, что сейчас живут в их «общине», сюда пришли по зову сердца, и акцентировал внимание на том, что они могут вернуться к обычной жизни, если или когда только захотят.
По его же словам, он никакой не управляющий, не главный и не руководитель… Почти учитель, к которому пришли люди жить в гармонии. Когда он снова вернулся к разговору про женщин, «лично от себя» добавил, какими никчемными и запутавшимися в себе они были при прежней жизни, но сейчас прониклись знанием.
Приходится доверчиво поверить в эти слова, что каждый человек здесь если не золотой человек, что выбрал некий новый путь в жизни, то готовый улучшить свою жизнь к лучшему. Он закончил свой лихо закрученный рассказ, я выслушал все не без интереса. Сказал, что не увидел в последователях его идеи грусти и все выглядят вполне сытыми и счастливыми. Конечно, он согласился и подтвердил мою догадку, что у них все замечательно.
Главарь этих поселившихся на ферме людей явно не дурак… Но каким бы он ни был прекрасным главарем… ни один управленец не получал столько же уважения, сколько венценосец Брюс в свое время… по крайней мере мне охота в это верить, и я верю…
Слишком наивно думать, что хищный мир обойдет и не тронет всех этих прекрасных людей стороной; стоит лишь всем сердцем надеяться на лучшее. Если убрать весь словесный шум, идеалы этого сообщества кажутся мне воплощением ненасильственного максимализма, в котором я не хочу участвовать никаким образом.
У этих чудесных людей в головах, как в котелке, намешано всего понемногу и вскипает по-настоящему ядреная смесь из свободолюбия, подлинной любви к природе, луддизма, ненависти к насилию, но в то же время поощрения такового, если не избежать. Страшно подумать, что может случиться с такими добрыми и отзывчивыми на вид людьми, попади они в недобрые руки. И они находятся не в непролазных лесах, а на задворках Бруклина. Да, я не разделяю их жизненную позицию и идеалы, но готов на многое, чтобы они имели возможность выражаться как им вздумается (в пределах разумного)…
РОБИН
Сам Главарь местных поселенцев строит вид, будто не считает себя за лидера… но он им являлся.
Пусть люди они сколь угодно скромные, но себя обделять не собираются, и их лидер без притворства говорит, что «ничего человеческого нам не чуждо». Разумеется, он выразился иносказательно, но весьма понятно объяснил, что аскетизм лично на него не распространяется. Неясно лишь, зачем он мне все это сказал. Может, он каждому встречному расписывает планы на будущее или же пытается быть честен со мной? Пожалуй, похожие на него самопровозглашенные лидеры не станут вот так трепаться языком; если он сказал мне всю эту информацию, значит, хотел этого.
Сперва мне верилось, что эти люди заядлые трезвенники, но нет… Вижу, как некоторые ребята (видимо, местные повара) черпают половником мутную жижу. Стоило мне только подойти к ним, как я увидел знакомую по учебе в академии картину «варки тростниково-фруктовой браги»: даже сюда эта модная карибская привычка делать из фруктов алкоголь добралась… запашок тот еще… Хотя не могу сказать, как питье фруктовой браги может сочетаться с осознанностью, но я и не настолько осознан, чтобы знать ответ на это.
Эти люди изображают из себя семью. Быть может, в тесноте фермы каждый полюбит каждого и продолжит по-братски любить годами… Но такая совместная жизнь — скорее вынужденная мера… отребье (подобно этим людям на ферме), как и положено отребью, вынуждено сбиваться в некое подобие семейной жизни.
Который месяц, который год привлекают все больше последователей, при этом остаются вне поля зрения инстанций. Значит, эти люди не создают мороки другим людям за пределами своей несостоятельной частной собственности, есть высшая неприкосновенность (покуда соучастники соблюдают рамки приличия).
Поселившиеся на ферме люди живут почти друг у друга на головах. Как же некоторым людям легко делить жизнь с людьми во время проникновенных радостей, так же как раньше. Этим мнимым аскетам можно разговляться без всяких мотивов и посторонних свидетелей и продолжать говорить, что живешь аскетично без капли всяких излишеств… Люди на ферме, хотя и кажутся миролюбивыми, не вызывают у меня желания видеться с ними чаще, чем того потребуется.
Но мне не впервые справляться своими силами, справлюсь и в этот раз… да, эти люди знают, что делают… само собой, я здесь чужой, и открывать передо мной ценные тайны, распинаться об идеалах «общины» никто не собирается. Если они действительно верят в то, что говорят, — флаг им в руки. Я готов смириться с любым сумасбродством и детскими мыслишками, пока они не касаются лично меня. Пусть хоть ходят с ведрами на голове, лишь бы не пытались повесить мне ведро на голову.
ФЕЛИКС
От людей на ферме я удостоился услышать совершенно разные, но совершенно откровенные разговоры — от людей, кто давно обустроился и уже называл это место, эту ферму, своим домом. Мне давали понять, насколько разношерстный контингент людей населяет этот ломоть бруклинской земли. Многие слова были полны противоречий, самоутешения или самоутверждения своего положения и твердой уверенности, что натягивать палатки и жить в них всех вполне устраивает. Час спустя я переговорил с глазу на глаз с несколькими жильцами фермы о старике и о том, как они за ним приглядывают, о планах на будущее, куда они собираются двигаться дальше. И на все вопросы так и не получил вразумительного ответа.
Среди них по виду не было никого старше сорока, и на это нашелся ответ: что они никого не удерживают, а многие, кому за тридцать (так сказать, на старости лет), принимают решение покинуть их общину, чему они никак не мешают. У меня закралась мысль, что их ответы больше похожи на оправдания, чем на несгибаемую цель сохранить свои жизненные ценности, за которые их считают бродягами и пытаются изжить в другое место. На эти доводы я не высказался, только понимающе кивал головой, стараясь не показать видом ничего, что может оскорбить.
РОБИН
Также Главарь (может в шутку, может и нет) заверил, что он как некий лидер их сообщества уважает и одобряет законы и правоохранителей… Сказал он это таким тоном, словно я его в чем-то обвиняю. Это было совсем не так… мне оставалось только заулыбаться.
Главарь стал меня уверять, что их за столько месяцев никто из стражей порядка и городских служб не пытался арестовать, никто не выдавал ордер на арест или что-либо подобное. Безусловно, около фермы старика время от времени проезжают патрули, но это всего лишь плановый дежурный осмотр местности, который вполне имеет законное обоснование. Хоть вся эта ферма — частная собственность и принадлежит старику, юридически она является частью города Бруклин.
В его словах много очевидной правды… патрули и впрямь вполне могут осматривать дороги, где и когда посчитают нужным. Со слов их Главаря, обычно заезды шерифов сюда бывают крайней редкостью, словно появление машины с мигалками в этих окраинах города есть отклонение от привычного маршрута. Все местные бруклинцы воспринимали это как мелкое недоразумение. В ответ я высказал ту же мысль… шерифы — это прекрасно, они делают свое дело…
В силу своих возможностей я понимаю, что шерифство, какое было на Диком Западе, как явление никогда не исчезало; шерифские звезды просто поставили под лучший контроль: теперь не каждому дают право разгонять преступников, как мухобойка разгоняет мух. Лицензию шерифа получить не то чтобы тяжко…
Выстрелить из шестизарядника по обидчику или сделать нечто подобное и защитить себя кажется уже чем-то немыслимым; конечно, любой в силах ненароком пальнуть и сделаться убийцей без всяких намерений. Сейчас оборонительное оружие несет безопасность там, где патрули и законы бессильны; жить в таких местах никому не пожелаешь. Закрома многих домов полны стволов, готовых выстрелить, и выстрелят ли стволы в бандита или случайного зеваку — совсем другой вопрос…
Есть в этих пилигримах и странствующих людях, что живут все себе на уме, странно выглядящих и странномыслящих, нечто от львиного прайда, но больше сходств с роем саранчи… прожорливые насекомые перескакивают от поля к полю: пока никаких посевов не остается, рой переходит на новое место. Но быть сам по себе не значит быть буйным или разрушителем. В этом случае шанс остаться ни с чем возрастает стократ.
Я прохлаждался на ферме достаточно много. Могу с уверенностью сказать: в Бруклине этим поселенцам совсем нет места. Как нет применения фонарщику, что зажигает огонь посреди пустыни. Но и выгонять поселенцев без веской причины и ордера на арест никто не решится. Остается надеяться, что эти «ласточки» смогут сплести себе новое гнездо в другом городе иль же отобрать чужое гнездышко. Если язык правильной длины, остаться без крова довольно сложно. Люди они резкие, работают «наверняка» и действуют как настоящие подрывники. Из тех, кому привычно разгребать завалы с помощью динамита, а не только добрым словом… Интересно, эти люди шумят по ночам? Не мешают ли поселенцы спать? Как они смотрят за стариком?… Не все равно ли?… Все равно.
ФЕЛИКС
Робин куда-то запропастился… пожалуй, он может то же самое подумать и обо мне. Мне поднадоело ходить, колышущаяся трава выглядит довольно чистой… я приседаю на траву… теперь, когда я сижу на сырой бруклинской земле, голова снова забивается мыслями о Бруклине… меня начинает это напрягать. Мне легко понять, что слишком много моих мыслей направлены на Бруклин и Новый-Амстердам… слишком много мыслетворчества об одном и том же.
Не одним Новым-Амстердамом и Бруклином едина Америка… по левый берег реки Гудзон находится Новая Швеция и ее главный город Филадельфия. Филадельфии предначертано играть такую себе роль пастуха для мелких городских агломераций: бьет большой тростью непослушных мэров и за свое пастушье дело собирает заслуженную плату и поддержку на голосованиях.
Когда в городской ратуше Филадельфии обсуждают все, что касается политики и проблем Нового-Амстердама, мелкие города-соседи навостряют уши и брезгливо морщатся, когда приходится залезать в карманы чужому городскому бюджету. Никому не нужны «троянские кони» у ворот, но если у соседа пожар, стоит одолжить поливочный шланг, даже если сосед вам противен…
На ферме я провел всего ничего времени; но пытливые поселенцы уже несколько раз успели спросить, на кого и как я раньше работал, и мой ответ «сам на себя» сбил спрашивающих с толку. В самом деле, трудно бывает ответить людям, кем и как ты работаешь, кто ты и кем ты был раньше. Раньше мне даже доставляло некое удовольствие быть мальчиком на побегушках, только тем мальчиком, который сам выбирает, кому и что подносить.
Даже моя вольготная стажировка была ничем иным, как жестом доброй воли, попыткой заполнить свободное время, коего у меня всегда было в избытке. Вовсе не обязательно действовать во вред себе, когда не получаешь за труд оплаты. Легче всего занять удобное себе положение и пытаться зарекомендовать себя. Браться за работу со всем усердием за минимальные деньги, а лучше вовсе ничего не получать. Подобная стратегия может казаться полнейшим безумством, но кто пройдет мимо сотрудника, который просится нанять себя за просто так? Именно такой сотрудник востребован и хитрее конкурентов на вакансию и коллег по работе.
Меня устроили на теплую должность другие люди, и, пускай у меня были результаты, ни одно сделанное мной дело и ни одна награда за труд не приносили удовольствия. Сейчас я уже не способен выполнять заказы; помню, как раньше набирал слова на печатной машинке, и понимаю, насколько сильно я опустел, сейчас даже одного листа текста я не смогу напечатать…
Мои карьерные результаты работы кажутся всего лишь везением и погрешностью; я нечаянно нахожу себя в приступе самоутешения, вспоминаются все художники и творцы, прожившие в крайних горестях и нищете: каково им было переносить невзгоды и лишения, на которые их обрекла жизнь. Подобные прискорбные истории о проблемах великих личностей, которые не могут ничего сказать в свою защиту, все же не только подпитывают излишний импульс творить дальше. Подобные поводы не покладать рук пропитаны злорадством.
Опрометчиво насмехаться над кровопийцами, которых на деле не существует. Нет тех врагов, никого, кто бы меня судил за приторные мысли в утешение себя. Только подумать, какими бы абсурдными и смешными они казались для если не всех, то многих людей, будь они произнесены вслух…
РОБИН
Сам Главарь местных поселенцев строит вид, будто не считает себя за лидера… но он им являлся. Есть слабонервные, во всем несамостоятельные люди, неспособные отвечать за себя и свои поступки; лучшая доля подобных людей — найти руководителя, обонянием отделить зерна от плевел. Огромен выбор тех, кто возьмется быть предводителем, быть подчинителем, пускай и миролюбивым. Ни за что на свете не стал бы выдавать тех заданий, которые не может выполнить сам.
В Столичном регионе вся уцелевшая дикая живность так или иначе свыклась соседствовать с людьми; за исключением немногого числа живодеров и браконьеров, их никто не трогал, кроме как для веселья от охоты или пропитания. Для тех, кому тошно есть одну курицу, сейчас во всех магазинах не счесть разных видов консервов, так что уже поесть оленины и медвежатины не составляет особого труда. Разве что иметь при себе толстый бумажник.
Только откуда на этой сырой ферме взяться богачам? Разве что они появятся от сырости, как грибок. Им только и вербовать прохудившихся да потерявшихся людей… ну еще и студентов, тоже вариант. Людей, готовых поселиться хоть у черта на куличках, всегда слишком мало. Студентов, которые готовы жить только в центре всех центров, напротив, всегда слишком много. Из них ушли все, откочевали в другие места наивысшего цветения под солнцем и оставили свое место в аудитории кому-нибудь другому.
Ничто не вызывает у меня желания видеться с поселенцами чаще, чем того требуется. Но мне не впервые справляться своими силами, справлюсь и в этот раз…
Их духовные поиски, видимо, подзатянулись; видимо, этот процесс словно горный козел: легко взбирается вверх, но также может запросто пропрыгать к самому основанию горы. Может, они и просветлены, но для меня они любители развлечься на траве и вплетать цветы в растрепанные волосы.
****
Моим (необязательным) делом стало посмотреть, что хранится в картонных коробках — тех, где хранятся съестные припасы… Ножом распечатал две коробки — те самые, что простояли столько дней на солнце. Оказалось, они наполнены свиными консервами. Вынимая банки из коробок, я поочередно открываю больше дюжины банок, но из каждой открытой банки доносился гнилостный запашок. Каждая открытая банка годилась только на свалку. На удивление, срок годности не истек даже близко. При нормальном хранении свиная тушенка не стухла бы еще целый год. Видимо, оставлять банки вот так, на улице, было не лучшей идеей.
Были и другие ящики… картонные кубы, на которых нарисована дама в пышном платье и с бананами вместо волос; похоже, ящики наполнены фруктами или, по крайней мере, были когда-то. Вид этих ящиков навевает мне престранные, нещадные мысли. В руках у меня по-прежнему молоток для игры в крокет, который я от безделья взял в обе руки, словно вооружил себя булавой, и уже подумываю, на чем опробовать его прочность.
Пожалуй, владельцы этих ящиков не заметят небольшую пропажу. Я подхожу к ящикам, что оказались даже не запечатаны, и осматриваю их. Каково было мое удивление, когда я увидел не бананы, апельсины и прочие фрукты. В ящиках разложены дутые лимоны; каждый лимон размером больше моего кулака. Пожалуй, в других ящиках есть и другие фрукты, но лимоны подойдут мне как ничто другое.
Выхватываю своей лучшей рукой лимон и кладу его на пол, повторяю то же со вторым лимоном. Отхожу на пару шагов в сторону, где еще есть свободное место; одной рукой заношу молоток как можно выше над головой и со всей силы бью по лежачему лимону. От такого удара мякоть лимонов разлетелась вместе с кожурой по складу, а на месте удара уже видны потеки лимонного сока. Раздался слабый хруст, как хрустят сухие ветки в непогоду. Молот треснул у рукоятки, но не сломался.
Вид разлетающейся цедры меня повеселил, но никакой улыбки на лице у меня нет, только непонятное желание разбивать больше лимонов и сильнее. Второй лимон уже был наготове; во второй раз я ухватился за рукоять двумя руками и размахнулся с силой, словно своим ударом способен сотрясать целые континенты.
Удар пришелся точно посередине лимона; как и первый, он разлетелся как от выстрела из пушки. Молоток переломился пополам, а наконечник отлетел и затерялся в грудах ящиков и мешков. На этом мои фруктовые шалости кончились. Я остался не особо впечатлен, но пару минут ожидания это убило. Положил обломки молотка на прежнее место — к стойке с такими же молотками, которые не треснули и фруктов ими никто не разбивал.
Недостачу двух лимонов легко могут проглядеть… но на разлетевшиеся по сторонам ошметки цедры и мякоти довольно трудно не обратить внимания. Я кое-как убираю следы своей деятельности и закидываю то, что осталось от двух лимонов, в пустой рюкзак, словно и принес рюкзак специально, чтобы убирать эти остатки. Предвкушаю, как рюкзак пропахнет лимонным запахом и забьет свои мерзкие ароматы. За два года я чем только не успел пропитать рюкзак, пришла очередь лимонных остатков. День можно официально объявить оконченным.
****
ГЛАВА 14. КОНФЕРЕНЦИЯ
РОБИН
Я вовсе не стыжусь своего несколько аляповатого и нелепого наряда: сегодня не показ мод, и внешние приметы не играют роли. Я буду среди многих приглашенных стоять в кишащем людьми помещении, где все выглядят копирками соседа, никого не отличишь от другого. В этой же одежонке мне еще справлять день рождения Марии, а сейчас я так… только примеряюсь. Стоит держаться ближе к другим, попытаться удачно пристроить себя: вдруг меня пронесет, и никто не заметит моего присутствия. Мне слабо, но верится, что я могу запросто выглядеть хуже всех собравшихся зрителей. Кому, как не мне, простаивать на этой конференции? Мне просто поленились найти должную замену, только и всего. Мне не придется произносить речи. Только слушать и запоминать.
Порой я выгляжу нелепо, но внешний лоск не играет для меня роли, если приходится стоять в толпе, кишащей людьми, коих почти не отличить и не вычленить внешне друг от друга. Стоит держаться дальше от других, попытаться удачно пристроить себя в крайний угол; вдруг меня пронесет, и никто не заметит моего присутствия.
Лифт предназначен только для важных персон — ты ведь знаешь это не хуже меня. На удивление, я также удостоен чести им воспользоваться, и, пока лестницы забиты, я в гордом одиночестве поднимаюсь вверх. Лифтер снаружи вводит код на панели, двери лифта запираются, и он поднимается вместе со мной наверх. Меньше минуты прошло, как я оказался на двадцатом этаже. Переступая через открывающиеся двери, я обнаруживаю, что место вовсе не такое людное. Тут и там стоят парочки и одиночки, чего-то ожидая и болтая.
Вход в главный зал был закрыт и завешен в некотором роде защитной металлической решеткой. Запускать нас внутрь никто не планирует. Но, судя по вялой обстановке и количеству посетителей, давки не намечается. По бокам от двери снуют члены охраны, переговариваются и осматривают коридор. Мне же остается только ждать начала бесшабашных событий, встав у стены. Прождав добрых десять минут, я заметил, что обстановка вокруг мало чем переменилась.
Время начала мероприятия уже наступило. Прибывшие гости стали это замечать. Торопливые люди по привычке уже начали оглядываться и тяжело дышать. Никак иначе организаторы просчитались со временем (как просчитались с множеством других вещей). Он почему-то не захотел меня останавливать, пропустил без любого рода проверки либо вопроса. Хотя, если я каким-то образом попал в это здание, это уже можно назвать своего рода отсеивающим механизмом.
Заходя внутрь, я оставил всякую надежду услышать что-то захватывающее. Словно я пришел в театр посмотреть на трагедию, заранее зная, чем все кончится. Но никаких декораций, кроме микрофона и трибуны; актеров здесь тоже не наблюдается — только самая что ни на есть реальность. Такая недоигранная и реалистичная игра, и все без заучивания сценария, чистый экспромт. Не стоит хлопать в ладоши или смеяться на середине представления: вдруг окажется, что нужно было пустить слезу, и только ты один наблюдаешь комедию, ухахатываясь от происходящего.
Я отвожу взгляд от сцены к сидящим в передних рядах; многие из них носят очки, а кто-то даже держит в руках театральный бинокль — видимо, с биноклем лучше разглядеть такое прелестное представление. Я же, как обладатель прекрасно видящих глаз, могу только догадываться, как живется близоруким людям; по их же словам, никто особо не рад тому.
Приходится пользоваться приблудами в виде линз и очков, а уже упавшее зрение с годами садится все больше. Очертания предметов все более размываются, словно их натерли мылом. При плохом освещении вещи или людей можно принять совсем не такими, какими их видят зрячие без нажитых дефектов. Незамутненные глазные яблоки видят все в тех тонах, как видели мир еще в младшей школе.
Куртки всех цветов и размеров подвешены на настенные крюки. Мне не пришлось сдавать вещи в гардероб. Я пришел в привычном для себя наборе одежды; порой по привычке даже галстук надеваю. Даже забываю ослабить галстук перед сном, так и засыпаю с неряшливо завязанным узлом на шее.
Мне приятно думать об этой конференции неуважительно и серьезно. Представлять, что многие из делегатов оказались тут по случайности. Из личных наблюдений: большей части делегатов и вовсе не следует здесь находиться. Это легко вычитать в их насмешливых лицах, запахе перегара и всем прочем.
Приглашенные почти поголовно были вхожи в одни круги (в том числе и я), ходили в одни места и виделись с похожими лицами на собраниях и тусовках. Мне посчастливилось не глотать пыль и приставить себя к обеим тусовкам. Мне не в тягость находиться как среди людей, одетых в вечерние платья и смокинги, так и пожимать руки творческой интеллигенции. Все как один ходят в чем попало. Меня одинаково принимали за своего обе «фракции»: босяки и богатеи.
Неясно, как происходила выборка всех собравшихся вельмож, но мужчин здесь на порядок больше; женщин я насчитал только четырех, но теперь, осматриваясь, насчитываю только двух. Выходит соотношение: одна женщина на девяносто девять мужчин, если не считать организаторов, среди которых я слышал женские имена, но мне их уже не вспомнить.
Когда я проходил по коридору мимо полуоткрытой двери в туалет, слышались звуки смыва сливных бачков вперемешку с едва различимыми голосами посетителей. Кабинки туалетов стали оживленным местом, никак не меньше, чем главный зал. Я зашел внутрь, но и в туалете не было никакого уединения: в очередь зайти в кабинку выстроилось около десятка человек, вдобавок охранник наблюдает за всеми в углу около раковины и зеркал. В такой обстановке желание облегчить мочевой пузырь начисто пропало. Вышел в коридор, по которому бесцельно бродил больше получаса; все же время подходило к завершению. Многие стали сбиваться в кучи, ожидая дальнейших указаний. Туалет стал свободен от людей, но посетить его мне уже не хотелось.
****
Припудрив носик в туалете, я, уже освоившись, могу чувствовать себя как дома. Наблюдать за прочими людьми, будто все они пригнанные и сидят на зарплате, и один лишь я пришел на конференцию «по велению сердца». Прислоняюсь к стене коридора, как фламинго (опираясь одной ногой на паркет и облокачиваясь на стену). Я мог еще вдоволь пускать слюной пузыри.
В потемках я разглядел знакомую фигуру. Пусть и не усмотрел его лица как следует, только туловище и одежду, но у меня не оставалось никаких сомнений: это был именно Феликс и никто другой. Феликса выдает его фирменная походка сломанной куклы-марионетки — такая во всем городе есть только у него одного… Случайные люди то и дело принимают Феликса за ребенка, случалось это часто, и немудрено: когда мне приходится смотреть на его совсем ребяческое фаянсовое лицо, так и хочется принять его за старшеклассника, а скромная комплекция тела омолаживает вдвойне…
Впрочем, Феликсу и не придется заботиться о преждевременных старческих морщинах, ему это не грозит… Сколько лет я его знаю, все существо Феликса противилось любому проявлению насилия; он ненавидел переругивания и напряженное молчание в доме, беззвучную тишину, что угнетает и давит хуже самой громкой ссоры. Феликс — всего лишь мальчик, которого так легко растрогать и вогнать в краску, крысеныш, что стремился к спокойной жизни, не проявлял жестокости и всячески избегал конфликтов, словно именно у Феликса не живет той человеческой склонности к насилию.
Лицо Феликса всегда выглядит так, словно напрашивается быть избитым. Я понимаю, что Феликс отличнейший парень, который жалобно выглядит, не в пример остальным. Пристальные взгляды окружающих едва обращены на него; Феликс выглядит эффектно в своей каждодневной рубашке черничной расцветки, как та, что надел сегодня. Теперь среди черно-белых одежд он выделяется, совсем как радужное маслянистое пятно на озере. Сперва появление… точнее сказать, пришествие Феликса вызвало у меня вопросец, но меня это перестало волновать. Совсем скоро Конференция наберет обороты…
****
ФЕЛИКС
Повсюду стоит шум, нас всех усадили на зрительские места. Театральное представление началось без лишних прелюдий. Говорливость началась спустя пару минут, как все зрители набрали воздуха в грудь. Совсем громкие голоса заглушали своей хоральностью совсем тихие, но куда более значимые голоса. По их виду я с точностью до слова способен предугадать дальнейший тон разговора.
Когда львиная часть жизни проходит во встречах и разговорах, этот навык пробуждается сам собой. Продолжая дискуссию, попеременно передавая эстафету на право голоса, так и не пришли к принятию решения. Главный рулевой, говоривший громче остальных, привлек больше внимания, чем оппонент, хотя предложения переговорщиков мало чем отличались.
Я же не сделал ни одного из ораторов своим фаворитом. Люди, выступающие на конференции, не представляются правдивыми. В быту это те самые побирушки, самые способные говорильщики в городе… но у них есть право и шанс высказываться…
Высказываться в любом ключе и любыми словами удобно и безопасно, если слова были сказаны по правилам, пусть трезвонят отсебятину под видом истины. Главное, что их пушистые слова можно слушать без опаски. Ораторы возвели словоплюйство в культ; мне нравится лишь наблюдать за бесслюнявыми плевками букв и предложений из их открытых ртов.
Я и сам в каком-то роде оратор-запевала… Порой наступает конфузный момент, и пиши пропало: многословная манера речи уже оборачивалась против меня, собеседники ехидно переспрашивали, обезьянничали или передразнивали меня, но результат того стоил.
Даже сейчас мое пустословие — эта малая жертва, что приносит свои плоды. Многие знакомые, которых я имею сейчас, сами с радостью наврали бы всему миру, была бы возможность. Не сосчитать, сколько попыток дознаться моего прошлого и каким делом я грежу заняться, и колкостей в свой адрес мне довелось выслушать от таких же перелетных птиц по духу.
Тех соловьев, которых заставляют вить гнезда и добывать червяков на пропитание. Дикие гуси, что порхают от места до места. Я могу еще немало лет нести красивые бредни и придуриваться вечным студентом. На расспросы о работе и заработке отвечать, что якобы давно имею свой бизнес и кормлюсь с него, как латифундист кормится с какао-плантаций.
Мнения по любым событиям разделились (единого мнения по Брюсу так уж точно не было), наверняка ясно одно: равнодушных не осталось. Что до меня, я вполне хладнокровен и с холодной головой. Посему готов как принять несколько позиций, так и полностью не придерживаться какой-либо позиции. Должно быть, многие знали Брюса в разные моменты жизни под кардинально разными углами.
Методично принимали и прощали его ошибки (почем зря)… трудно принимается правда о том, что не реагировать на ошибки единожды — все равно что благословить людей на повторение ошибок в будущем… смотреть сквозь пальцы на ошибки. Я прекрасно это понимаю, все же не поправляю людей, не хочу помочь исправлять их ошибки и делать жизнь близких и знакомых как-либо лучше — они и без меня неплохо справятся. Невмешательство — лучший вид помощи, который я могу предложить кому-либо.
Что бы ни означали сказанные слова, я с точностью понимаю ход мыслей; по крайней мере, если это не так, я не один такой неправильно понимающий. Со стороны легко может казаться, что диктор намеренно усложнил задачу и подвел к тому, чтобы слушающие инвесторы лучше поняли, как на самом деле происходит продуктивная работа в компании.
Пугает лишь, что если все люди неверно поймут задание либо выполнят безупречно — оба варианта вызовут подозрения у абсолютного большинства. Впрочем, это лишь один из череды плановых тренингов перед чем-то важным. Тестовые задания давно выполняются нанятыми профессионалами своего ремесла. Легче оплатить счета с любым числом нулей, чем доверить дело нижестоящим работникам.
Я могу без труда подвергнуть сомнению данные сомнительные практики, но не я их придумывал и не мне их менять. Удачливые сотрудники, что находились на хорошем счету, имеют честь продемонстрировать все мозговые усилия в действии, когда это по-настоящему может сыграть им на руку. В такие моменты начальство особо расплывается в скрипучих улыбках и готово забыть о многом, особенно о мелких провинностях и недочетах в работе.
РОБИН
Как водится, после битвы кулаками не машут; в таком случае вполне понятна попытка с такой силой сотрясать воздух до побоища — только так можно показать своим сторонникам различия между проигрышем и тактическим отступлением. Бой был заранее подстроен в пользу одной из сторон, но пройдет время, и проигравшие один раунд возьмут реванш. Во мне нет ни капли жалости к проигравшим, которые не могут смириться со своей участью. Гораздо страшнее, что всегда находятся люди, готовые поддержать даже самых маленьких и побежденных людей.
Я изрядно наслушался слов про неравноправные договоры и нечестную конкуренцию. Крупные города или компании вылавливают весь улов, и рыбакам помельче уже ничего не достается. В таких случаях недовольные своим незавидным положением отсвечивают в попытке обратить к своим проблемам больше внимания. Сильный человек и живет на Земле только чтобы издеваться над маленькими и хилыми. Такие словесные баталии бывают самые разные, но выяснения, кто нечестно занял себе больше места под солнцем и как выправить это…
Даже самые недалекие люди примерно понимают, чему служит единение и союзничество: отчужденные города не способны сами за себя постоять. Законы джунглей усмиряются со всех сторон попытками людей усидеть на всех стульях одновременно. Никого не обделить вниманием. Пусть наиболее способные тайком решают, что со всем этим делать, а уж никак не я…
Сколько же много на этой конференции трещат о налогах, благополучии и, главное, о ДЕНЬГАХ, а меня всегда забавляло получать карманные деньги с формулировкой «на неотложные расходы», словно мне вручают специальные деньги, которые стоит тратить только в случае, когда от их траты зависит вся моя дальнейшая жизнь.
Я же только разбрасываюсь деньгами на приятные мелочи, как сеятель засевает семена на вспаханное поле. Какие деньги мне ни выпадало носить в карманах, только когда я подсчитываю деньжата в ладонях и перебираю их костяшками, деньги в моих руках обретают вес. Большие деньги помогают больше и лучше питаться, а я, будучи нестабильным ребенком, заменил всю воду на лимонад, а сочащуюся жиром еду поглощал просто немерено, словно жиры помогают лучше вырасти…
ФЕЛИКС
Хорошее время для честного бизнеса не ушло — его никогда и не наступало, я знаю это; но в полной мере не согласен с собственным мнением. Упираюсь двумя ногами в пол и уперто не верю в худшее, насколько это возможно; мне это даже удается. Сегодня я тот Феликс, который верит во всепобеждающую силу добра, а не Феликс-реалист, который здраво смотрит на вещи. Реалист во мне по обыкновению берет верх и побеждает, но не сегодня.
Слишком уж много выступающие на сцене уделяют времени теме Америки: как Америка никогда не должна сползать и опускаться до европейского уровня и не барахтаться в европейской луже, а пытаться выйти на недостижимые ранее горизонты. Как когда-то поступали сами европейцы с их купленными наемниками и их кремневыми ружьями.
Тогдашним купцам было как никогда легко подписать с туземцами любые торговые договоры. Такая вынужденная синергия труда по праву творит прометеевский рост. Торговые гильдии и мануфактуры слились воедино, переродились в торговые компании, а затем в трансконтинентальные конгломераты, которые существуют и по сей день.
Моим ровесникам кажутся просто ужасными все эти мягкие, как взбитый белок, мальчики и девочки, одетые в кардиганы из мягкой шерсти, которые читают историческую хронику. Морщат носы да потирают затылок. Ох, сколько таких я повидал в библиотеках и на лекциях. Бедняги читают или слушают мерзости, а внутри их словно корежит и просит остановиться, начать сбиваясь говорить о чем-то прекрасном и светлом. Мне понятно их затыкание ушей от правды, они и вправе от нее затыкаться.
РОБИН
Мне, в отличие от выступающих, нет никакой нужды в подготовке речей, достаточно перевести дух. Такое чувство, что я сам родился стоять на трибуне, отвечать на вопросы и доносить всем свое недовольство. Все же дебаты с профессорами дали мне способность поворачивать аргументацию оппонента против него же самого. Достаточно удачной подмены фактов, и со стороны я уже покажусь чистейшим профессионалом.
Я не терплю, когда люди читают по бумажке и долго репетируют, что и каким образом им говорить на публике. Мои речи никогда не планировались заранее: спонтанность слов дает мне преимущество.
Я периодически смотрел, даже когда просили заранее написать речь. Когда мне нужно было зачитывать с листка, я просто приносил пустой лист бумаги и стоял с ним в руках, делая вид, что на листе что-то написано и каждое слово продумано до мелочей. Даже удивляет, как люди, что десятками лет играют на публику, так и не обучились доносить мысль без всяких заготовок.
Мне бы не составило труда податься в политику и занять любую высокую должность — хоть какую-нибудь, мне неважно, главное, чтобы название было звучным и было необходимо без остановки вести заумные речи без лишней бумажной волокиты. Советник мэра вполне то, что нужно, только кто в здравом уме возьмет меня в советники?
Полагаю, этот риторический вопрос самому себе подошел к логическому концу. Лично моя постоянная болтовня придала языку гибкость змеи и таких словесных сил, что поддержать любой разговор на любые темы с натренированным языком уже не составляло никакого труда.
Если по незнанию я еще мог раздумывать над вопросами и выбирал, как лучше ответить, то со временем язык стал выпаливать слова подобно биению сердца. Мой язык прекрасно понимал, какой набор звуков от него требуется выдать. Я и не заметил, как преисполнился ораторством и во мне появился навык беглого словосложения и накрепко поселился у меня во рту. К бокалу с вином я не притрагивался уже почти третий год, потому не знаю, заглушит спиртное мою словесность или только развяжет язык еще больше.
ФЕЛИКС
Едва ли не единственный оказавшийся около трибуны. Впрочем, голос из динамиков был настолько тихий, что мне с трудом удавалось разобрать слова. От вибраций уши ближе к концу речи стали побаливать. Не знаю, чем обернулось мое присутствие. Я просидел еще час-другой. Организаторов конференции посетила по праву прекрасная идея предоставить динамики и микрофон такого… неоднозначного качества… Я слышал слова вроде «Новому-Амстердаму необходимо теснее сотрудничать и открываться всему миру» или «Нам стоит лучше доверять нашим восточным партнерам»… Доверять? И правда… Бизнесу и торговле не хватает доверия…
Все дело в доверии. Американским банкирам раз на раз не приходится полагаться на обещания восточных партнеров по бизнесу. Люди востока заняты своими особыми делами на другом конце земного шара. В свою очередь, всем не было никакого дела до того, что происходит дальше Бостона. Брокеры и недоверчивые банкиры, заключившие немало сделок, знали об этой особенности не понаслышке и никогда не вносили полную сумму за еще не выполненную работу. Порой и это не спасало от возможности мухлевать с предоплатой и скрыться с деньгами заказчика, так ничего и не сделав.
Отлавливать подобных нарушителей контрактов было себе дороже. Как правило, судебные издержки обходились в сумму большую, чем украл вертлявый жулик. Такого рода схема безнаказанного обогащения подорвала доверие к островным коллегам по бизнесу. Впрочем, добросовестных, пряморуких знатоков своего дела было несоизмеримо больше, а мошенники среди тихоокеанцев виделись как мизерная погрешность, искоренить которую не представляется возможным.
На тихоокеанских островах всегда есть способы прожить честную жизнь, убрав некоторые минусы, проблем вовсе не останется. Половина островов (на которых проживает большая часть жителей) в сезон циклонов, тайфунов и наводнений пустеет. Все жители спасаются на крупные острова по соседству; водная стихия доставляет трудности только летом, такого рода спасение жителей происходит своевременно, даже имущество эвакуируется заранее.
С правильной работой синоптиков погода становится предсказуемой, при желании ее легко предугадать. Сухопутные жители Американского материка не прячутся от тайфунов. Пока островитяне тонут и бегут от штормов, американцы о крупных затоплениях и не слыхивали. Вот американцам и мерещится, что Тихий океан населен одними увертливыми обманщиками. Вся увертливость идет в дело, иначе и эвакуироваться денег не хватит.
В родном гнезде не каждому достанется червяк, слишком уж много голодных птенчиков. Откуда бы они ни были родом, для них не нашлось места, а для тех, кому нет места быть кем-то, остается только быть ничем. Но даже если ты и правда «Никто», это еще требуется доказать, иначе не видать пособия. И по заверению их вожака, почти у половины пришедших на эту ферму, как они сами именовали себя, «настоящих художников», нет цели, есть только путь. Мне не понять, кого они считают за «настоящих художников», но такими себя они точно считают. Я и не стал утверждать обратного.
Негласный кодекс правил оказался вполне осязаемым. Нет того потока желающих приобщиться к иным городским реалиям. Ежели деятели искусств захотят обычной жизни, то без проблем смогут открыть учебник на нужной странице и приобщиться к местной бруклино-ново-амстердамской школе творчества. Поймут, соответствуют ли их творения принятым догмам или нет.
Сказанных слов оказалось недостаточно, впрочем, второй тур дебатов сможет развить мысли, сказанные в первом. По внешнему виду участников, когда наступил заветный момент антракта, все это было лишь разогревом перед настоящим действием. Вряд ли эта фраза привнесла перемены в дальнейшие пару часов. Но хотя бы организаторы смогут с уверенностью сказать, что предупреждение было сказано. Все, что вышло из ряда вон, — не их вина. Просто и удобно.
Места хватит для всех, и новые зрители лишними не будут, приведя дюжину своих подруг, было бы еще интереснее. На приглашениях и было завуалированно написано, что не стоит брать с собой кого попало; сами организаторы конференции это никак не проверяли, просто тех, кого не находили достойными войти, отсеивали еще на входе и не пускали внутрь, слабо объясняя, почему их приглашения не подходят. Стоит посмотреть на воротник или недостаточно начищенную обувь, и вот ты уже недостоин быть гостем конференции… ничего не поделаешь, все на плечах организаторов, и право пропускать и «не пущать» тоже у них.
Знаю, что сегодня на конференции не будет Джун… ее сейчас вообще никто не видит и не слышит… конференция — слишком удобное место, чтобы помнить о том, как Брюса пытались залечить. Парамедики успели довезти Брюса в реанимацию, там его откачали. Пускай Брюс и выжил, результат лечения оказался не лучшим, а постельный режим с целым арсеналом лекарств улучшений не приносил.
Да, Брюс дышал, мог есть и порой даже говорил складные вещи. Но на этом вся поправка и заканчивалась. Брюса ждала только перспектива все свои оставшиеся дни зависеть от сиделок, ходить под себя в подгузники. В таком состоянии уже никто не доверит править. Важные птицы стали подбирать преемника еще как только Брюс примерил больничную одежду.
Находиться в таком состоянии было сущим мучением, но пичкать болеутоляющими подобного пациента никто не решался, сам он не давал добро на отбой. Оставалось лишь наблюдать его последние недели. Можно отдать старику должное, он держался до последнего: если не всматриваться за его широкий костюм, не видно исхудавшего тела и болей в мышцах.
Все же лекарства ему давали ежедневно и безрезультатно. Но я не виню медиков, нисколечко не виню, просто пробил час, и час этот не убавить, не прибавить… Такого рода прекоматозное состояние Брюса продолжалось достаточно долго: пациент дышал, изредка безнадежный пациент издавал незатейливые гортанные звуки, но ничего похожего на поправку врачи не видели. Все сведущие люди о бедственном положении Брюса понимали, к чему все идет.
Именно те люди, что как один приходят к консенсусу, кто достоин стать новым мэром города, и поддерживают городской порядок: стоит отдать городским властям должное, им это удается, но у всех конгломератов, компаний, корпораций нет четкого ответа, что стоит делать дальше, кроме как временные полумеры. Все идет ко дну, но настолько медленными темпами, что никто не замечает погружения, вот кораблекрушение и готово. Ни один затонувший корабль не строился специально быть затонувшим, лежать веками на дне; их топят капитаны-самодуры и морская сверхприродная стихия в придачу. Все как по рецепту «Идеальное потопление».
Последняя воля покойного Брюса обсуждается только за закрытыми дверями. Но и без всяких доказательств понятно, что навряд ли решатся исполнять в жизни хоть что-то, что было написано в завещании. Его смерть позволила дать ускорение…
Я оставил всевозможные вопросы при себе, мне и без ответов было все предельно ясно, а любые слова могут только нарушить мое понимание. Законникам нет до меня дела, пока не творю глупостей, поэтому я большее время помалкивал и вслушивался. Есть чем заняться, кроме подобного. Сидящим в зале зрителям пообещали короткое выступление наподобие послесловия, но места на него ограничены.
Выход из кризисной ситуации, стороны преследуют разношерстные требования по большей степени с умеренным пылом. Шлейф компромиссов между Бруклином и Новым-Амстердамом тянется довольно давно, остается странным, как одна из сторон терпеливо выслушивает то, что говорит вторая. Сейчас всем только и мозолит глаза «вопрос о новом мэре».
Дабы снизить ажиотаж насчет назначения следующего мэра, фракции всего города получали компромиссную фигуру в качестве того наследника, что был подобран усопшим мэром. За месяц до смерти Брюс по настоятельной просьбе рассмотрел перспективу передать бразды правления, свесить с себя корону. Его корона достанется никому не известному молодому человеку, Оскару, тридцати лет от роду.
Человеку, который даже никогда не занимался политической деятельностью, но, что важнее, не замешан в любого рода подковерных играх. Оскар четыре года как в отъезде. Отправился в далекое плавание. После известия, что без его ведома был избран мэром прекраснейшего из городов, намерен вернуться в Новый-Амстердам… Оскар избран новым мэром? Оскар — наш новый мэр Нового-Амстердама? Похоже, что да. Никогда о нем раньше не слышал, по крайней мере, моя память пуста… но лучше Оскар, чем никого.
По итогу было наугад выбрано меньше ста человек, и я попал в число одобренных одним из первых. По виду это было ничем не примечательное помещение, больше похожее на ряды сидений и небольшого размера сцену со столом и проектором на ней. Выбрав свободное место, все остальные участники поступили так же. Пять минут ничего не происходило, и была тишина.
Только снаружи двери, которую закрыли, доносились какие-то цокающие звуки, словно бы десяток человек суматошно топотят каблуками туфель. Все же на сцену начали выходить люди и расставлять экран для проектора, и вставлять бобину пленки… уровень организационных моментов как всегда поражает воображение… слишком много пафоса и скуки как для простого показа слайдов…
Суета на сцене прекратилась, из-за кулис вышел человек в черных очках и еще более черном костюме. Этого человека я мог рассматривать сколько сам того хотел, но мне не было охоты на него засматриваться; похоже, он считает себя «крутышем» с этим стилем «брокера-байкера». Этот мужчина в очках вскидывает руки и выставляет пальцами «козу», будто он впрямь звезда эстрады и именно сейчас настало его время.
Свет внезапно погас, пару десятков секунд темноты мне хватило, чтобы внезапно включившиеся прожекторы по бокам на долю секунды ослепили меня. Один прожектор навели на сцену, а второй навели к потолку. Что им пришло в голову на этот раз? Ничто не указывало на серьезность происходящего, и почему нельзя проектор установить в том же помещении, где все начиналось? Сколько вопросов… одни вопросы…
Спешка в совещательных вопросах, как и любая спешка, всегда только вредит, посему кулуарные разговоры и совещания приняли позицию неторопливого выжидания, присущую только хищникам. Пожалуй, это то, что Новому-Амстердаму не раз давало выйти из безвыходных ситуаций. Настойчивость и устрашение — именно с этого начинается любой неравный разговор, это дало массу возможностей. Сейчас же в угрозах не было необходимости. Пожалуй, эта сговорчивость продлится достаточно долго, все вопросы будут решены при первой возможности.
РОБИН
Обратить на себя внимание помогает многое, но быть по-настоящему услышанным — задача почти непосильная даже тем самым людям, кому поддается язык и кого выслушивает податливая аудитория, что готова сама заглядывать в рот сладкоголосому оратору. Язвительные слова в адрес чего угодно уже кажутся нормой вещей, когда до этого с трибуны слышались речи, полные вразумительных доводов.
Готов подсунуть публике темы, не поднимаемые вслух, но так популярные среди людей. Вклинивая свои идеи, которые обыватели ошибочно принимают за сострадание, осведомленным подобное видится как причудливая форма ораторского мастерства. Так всегда бывает: единичные слова, сказанные не к месту, портят о человеке любое, даже лучшее впечатление, а в тяжелых случаях наносят непоправимый ущерб имиджу на всю оставшуюся жизнь. Одного слова вполне достаточно, чтобы лишиться всего, так же просто, как получить все, зная правильные слова — вот что по-настоящему важно. Впрочем, многие идеи и высказывания скользкие, как ползучая гадюка…
Все, что можно было украсть и придумать из идей и концепций, уже было придумано и украдено до нас, остается только распределять и управлять награбленным с умом. Все в госфинансировании есть умелое перераспределение средств, все равно что стоять со счетами и калькулировать, кому и сколько достанется. Каждому послушному сынишке достанется свой леденец, и чем больше этот леденец, тем послушнее был его получатель… тут уже ничего не сыщешь.
Что и говорить, многие чиновники готовы идти на компромиссы с, мягко скажем, «противоречивыми желаниями» додать и доложить тем, кому недодали и не доложили. Я же не намерен соглашаться с, как они выражаются, «обоюдовыгодным предложением» и не особо жалую голодранцев. Это люди из тех ненасытных, кто хочет все больше уступок. Пойти на попятную — глупейшее, что бюрократы могли тогда предпринять, но именно так они и поступили.
Выкупить еще неоперившуюся птицу и не давать ей опериться легче, чем строить золотую голубятню, когда птенец начнет порхать. Несколько парадоксальные мысли от такого, как я… Мне, как человеку, привыкшему терпеть и принимать чужие выходки и странности, казалось, получать поддакивания в ответ — само собой разумеющееся.
За прошедшие шесть лет прибыльность и частая выручка только ухудшились, теперь их полные лучших прогнозов слова кажутся на фронтире здравости. Почти переступая все границы абсурда. Конечно, они и сами отдают себе отчет, что обещают невозможное, но то, как уверенно они это говорят и с каким красноречием, прощает всю несостоятельность их слов. Мне только и остается умиляться и помалкивать… Придется решать вопросы, как усидеть на одном месте, даже если не хочется, по-взрослому. В данном случае это означает стиснуть зубы, не обращать внимания на то, что происходит вокруг.
Отсутствующий вид окружающих подсказывает: свою энергию на этом «празднике важных речей» выступающие и смотрящие выступление уже потеряли интерес. Только и ждут, когда наступит антракт. Мне понятен их усталый вид. Я провел здесь пару часов в раздумьях, сидя в полудреме, и только и делаю, что ничего не делаю, но вся энергия потухла, как перегоревшая лампочка… такое чувство. В это сложно верится, но быть внимательным наблюдателем и слушателем изматывает куда больше любого жима лежа.
В какой-то момент я запамятовал, что это за конференция, что я здесь забыл и зачем вообще пришел? Вдруг все речи выступающих на сцене слились в единый неразличимый белый шум, будто говорящие тараторят термины, выдуманные самими выступающими звуки. Остается только дотерпеть до нужного момента, как порой приходится вытерпеть особо мерзких людей, от общения с которыми нельзя по желанию избавиться. Я явно не гожусь быть массовкой на всех видах общественных мероприятий. Надеюсь, когда-нибудь все, кто меня так хочет на них пригласить, увидят это и оставят меня наконец в покое.
Очередь на «поговорить» дошла до морщинистого вида мужчины с галстуком, свисающим до пояса; он говорит что-то про доверие к будущему города, его скорейшем процветании, которое еще не настало. Рано или поздно наступит, а каждому скептику следует больше доверять городским властям и верить в благостный исход.
После окончания такой трогательной речи первые ряды зауракали и вяло хлопали в ладоши. Заведомо никчемного оратора стыдливо спровадили со сцены, последующие за ним такого же престарелого вида чиновники как один вычитывали по бумажке одни и те же слова и также покинули трибуну без намека на овации… но и без освистываний. Неясно, кто пишет им такого паршивого качества речи, но от него давно пора избавиться.
Уродство и харизма несовместимы, скажем, при удачном сочетании красноречия, выглаженной одежды и проработанной мимики подавляющее большинство зрителей будет смотреть в рот оратору еще до первых сказанных слов. Люди, что на портретах предстают крепко сложенными графами, кажутся такими до проступающих в голове вопросов. У кого из позировавших портретисту при жизни имел писклявый голос и насколько умело живописец скрыл их оспины и прочие дефекты внешности по требованию заказчика.
Еще до того, да и позже его речей, многим хотелось огреть его ближайшим тяжелым предметом по голове. Когда до него доходили признаки подобного желания публики, его речи прекращались, выступающий считал это неловким. Поблагодарил за внимание, покинул сцену неосвистанным и посему имел право вернуться в качестве гостя как-нибудь в другой раз. Все выступления проходили по одной схеме, оттого в мыслях ничего не откладывалось.
Переговорщики совсем будто сошли с колеи и совершенно отошли от начальной поднятой темы. Я уже успел позабыть, с чего все началось. Многие стояли с микрофоном на трибуне и говорили: о всяком, о бытовом, обо всем и ни о чем, словно хотят разрядить обстановку. Сколько ручек в канцелярии.
Сладкие нереалистичные грезы так никогда и не сбудутся, но это не ложь… не стоит путать преувеличение с ложью, пускай многие обещания так никогда и не воплощаются на практике, но на ораторские россказни никто всерьез не рассчитывает, достаточно просто дать людям понять и обозначить, какие цели ты ставишь: вопрос их выполнения уже дело второстепенное. Все несбывшиеся обещания еще отзовутся в учебниках истории и на страницах газет, стоит купить на рассвете пару номеров, когда приглянется такая возможность.
Речь, несмотря на свое вовсе не веселое содержание: эта мелочь подняла мне настроение. Не знаю, кто был автором текста, который зачитывают, но он постарался на славу. Текст речи вовсе не забавен и не призван вызывать смех, но то, с каким видом и манерой такие слова произносятся…
У меня не оставалось никаких сомнений, что сами чтецы на сцене еле сдерживают смех и не верят ни единому слову. Теперь своим нечарующим, понурым видом я уже никак не показывал вовлеченность и интерес. Когда люди приходят на концерт комика, им позволено смеяться во весь голос. Здесь я могу ограничиваться улыбками и держать рот на замке. Впрочем, я выбрал самое непроглядное место, куда оборотистые выступающие не смотрят, фокусируя все внимание и взгляд на передних и средних рядах. Усмотреть туда, где в креслах сидят главные гости…
Помнится, нам как зрителям обещали перерыв, когда первые десять человек договорят, или после первого часа. Я оглядываюсь, пытаюсь заприметить часы, но часов нигде не видно. Я замечаю белую точку на стене почти у самого верха (должно быть, часы), мне ее почти не разглядеть, но отчего-то она напоминает видом часы.
Мне не приходится жаловаться на плохое зрение, но разглядеть стрелки на еле заметных часах на другой стороне помещения выше моих сил. Но мне и без толку знать время… навряд ли я смогу пропустить перерыв: его сообщат, как только наступит нужное время; все сидящие встанут и пойдут к выходу, а я пойду вместе с ними.
Мне уже невтерпеж просиживать время до блаженного антракта. Я останавливаю себя… пытаюсь сфокусировать внимание на сцене и произносимых словах, но у меня ничего не выходит. Мысли заняты чем угодно, но для слов выступающих в голове уже места нет. Хотелось все бросить, и руки чесались подняться и никогда больше не возвращаться в это здание. Ничто не мешает сделать это, уйти во время перерыва, надеюсь, сразу могу покинуть эту конференцию: со всей ее невыносимой скукой и невыносимо скучными людьми вокруг.
Эта наболевшая мысль усыпляла негодование; минуты спустя меня и правда стало клонить в сон от мысли. Я нашел метод, как избежать еще два часа выносить скуку и зачитываемые речи, которые ничего не говорят о моей жизни. Я облокотился на кресло, запрокинул голову на подголовник. Шея не затекает, не болит, но голова становится все более тяжеловесной…
Стало быть, антракт — это некий жест доброй воли? Пожалуй, что да, иначе не поймешь, к чему такая пауза посреди самого интересного. Неудивительно, что подобные дебаты согласовываются годами, и зрительский зал наполовину пустой. На совещаниях должны происходить словесные баталии, но никак не тихое обдумывание слов, как это происходит сегодня. Быть может, из вежливости, но представители Бруклина отложили этот вопрос рассмотрения до лучших времен. Это значит только одно: маятник удачи качнулся в обе стороны. Но у выступающих на подобных конференциях и не должны стекать пена изо рта, кидаться руганью, перебивать и топотать ногами… в общем, всего, чего хочет от дебатеров видеть публика.
АНТРАКТ. ФЕЛИКС
Порой так тяжко уходить от ответа на самые неприемлемые в обществе вопросы, не дать каверзными вопросами выудить настоящее мнение, которое все с радостью запомнят, а забыть не забудут. Пожертвовав частью правды и чистосердечием как подношением перед тотемом, это помогает мне облегчить и заживить старые шрамы в мозгу, шрамы, которые мне никто до конца не будет в силах излечить.
Стойкое ощущение впустую потраченного времени не скрашивали даже закуски. Я не провел время понапрасну, настолько сборища из различных мнений давно не встречал. Если бы высшая инстанция провела закрытую встречу, где решили все насущные проблемы, это принесло бы куда больше пользы. Я не имел никакого отношения к дебатерам и как приглашенный зритель был не нужен.
Выступления меня не усыпляют, слабость в теле так и не наступила, пусть именно сейчас я и хотел усыпиться. Напротив, весь день во мне пузырится неотступное ощущение, словно вместо органов ниже легких у меня увесистая груда прогретых булыжников. Даже когда я видел еду во время фуршета, я едва мог думать о пище, не то что ее есть. Это чувство скоро пройдет, скорее поздно, чем рано, но немая тяжесть живота всегда спадает. Тогда уже меня отпустит после подобных праздников. Теперь остались только мысли, как побыстрее вернуться домой и скорее заснуть. Во время перерыва я выскользнул из виду и пошел к выходу. Не сказать наверняка, видел ли кто-нибудь мой уход, это будет беспокоить меня, когда я окажусь дома, но никак не сейчас.
АНТРАКТ. РОБИН
И вот проходит время, темы для разговоров у всех будто кончились, все вспомнили, ради чего пришли на эти выступления, все болтали про общие смежные темы, связанные с выступлением; меня это утомляло. Подносы с едой и выпивкой проносились у меня перед глазами только так, у гостей были свои подносы, куда набирали закуски и бокалы вина. Гости ели закуски, грызли десерты и посмеивались над происходящим. Словно они и сами знали, что нарочно приехали на это мероприятие: посмотреть цирк с конями, а теперь пришло время перекусить. Если мои предположения правы, то гости, чертовки, не прогадали.
Лично моя главная цель моего пришествия сюда уже съедена и уже переваривается в желудке, так вот почему все болтают? Мало-мальски поболтать после трапезы разгоняет аппетит и пищеварение. Стою с полупустой тарелкой в руках, в которую наложил еды, названия которой не знаю. Не торопясь закидываю в рот этот магарыч; конечно, все закуски размером с маслину, и одного укуса хватит съесть целую жменю, но то, как я давлюсь едой, будет плохо смотреться со стороны. Старички-чистоплюи по обе стороны от меня вкушают вино маленькими глотками и гордо хмурят брови, даже через двадцать минут мало кто допил свой бокал до дна; я же к вину даже не притрагиваюсь, мне следовало налить в бокал ради приличия красноватый виноградный сок, который по виду тоже вино, только без перегонки, брожения и убивающей меня горечи спирта.
Шампанского, которое все так любят открывать в дни праздников, на удивление, никто не пил. Похоже, организаторы поняли, что речи и представление на трибуне — это не совсем праздник, посему и шампанского решили не подавать. Подают только бесшипучее красное вино, которое все глоточками потягивают, пока мельтешащие официанты наливают гостям все новые и новые бокалы.
Я же стоял посреди них в полном молчании, похоже, на меня не хватило партнера по разговорам; за почти час такого стояния на месте мне и слова не сказали, но на меня глядели, их взгляды то и дело намекали, что я попал в местный список молчунов, а я только рад этому: молчаливым людям куда проще сохранить свою ораторскую честь и достоинство. Моя черепушка так и наполнена концентратом решимости: решимости покинуть все и пойти в другое место, желательно подальше, притом мое сердце стучит все так же медленно. Пусть и просиживать здесь штаны мне весьма выгодно, но я все же покину эту конференцию, и дело с концом… это уж точно…
ГЛАВА 15. РОБИН
Дни мало-помалу сменялись, ночи длились все меньше, а рассветы восходят все раньше… а я все не мыслил, к чему ведет мое прозябание в Новом-Амстердаме. Мои мысли все нашептывали самые бестактные, но правдивые ответы и советы умчаться поскорее обратно на «Большую землю». Но вся недобитая рациональность во мне и не думает успокаиваться.
В такие неспокойные моменты я вспоминаю, как сильно Новый-Амстердам подходит для ночных прогулок: незачем изнашивать обувь при свете дня… я всегда любил пешие прогулки как проверенный способ успокоения, но всегда плевался от яркого солнца. Ночные прогулки стали моим компромиссом: легким позарез нужна вечерняя прохлада. Дать глазам отдых от сияющего солнца. Не стану же я в самом деле гулять при свете дня с черным зонтом, лишь бы до меня не добрались лучи солнца.
Ночная ходьба всегда помогала мне отоспаться, прийти в чувство. Я не упускал повода повременить с этой привычкой в любой день, если не чувствовал нужды в ночных прогулках. Многие бы сочли такую привычку безобидной и даже полезной. В ночных прогулках нет ничего полезного, как и вредного: просто один из действенных способов полуночникам проснуться и попутно скоротать время.
Спорт, атлетика и таскание тяжестей мне чужды. Прогулки на свежем воздухе позволяют держать тело в тонусе. Сколько себя помню, само естество мое противится спорту и разного рода упражнениям.
Сейчас меня ничего не останавливает исходить своими ночными прогулками все уголки города: мне нет никакого дела до опасности улиц и неоправданного риска пострадать от ночных вылазок. В потемках так безлюдно, что любая груда хлама в темноте напоминает лежащего человека, впрочем, по старой привычке я не разделяю мусор и спящих на тротуаре людей и переступаю все, что встречается на пути. Слегка неудобно, но пока мокрые улицы Бруклина полны мусорными мешками и прочей рухлядью. Если не смотреть под ноги, легко споткнуться о мусор.
Если повезет, еще и упасть в другой мусор или найти на тротуаре четвертак, который еще из прохожих никто не поднял. В этом квартале увидеть выпавшие деньги вот так на дороге — уже небывалая удача. Пока я топал по дороге, краем глаза несколько раз замечал что-то с металлическим блеском, какой есть у монеток, но сейчас мне незачем поднимать эту мелочь. Даже если это впрямь четвертак, оставлю его лежать на дороге. Пусть другие бродяги поднимут.
Полно тех, кому нет нужды образовываться, знать всю ту информацию, которую мир им готов предоставить. Библиотеки открыты круглые сутки, но при этом простаивают, еле заполненные. В моем личном случае домашняя переполненная библиотека утолила всю мою нужду обзаводиться читательским билетом.
Книжный червь внутри меня только радуется от перелистывания старых книг, но одними книгами сыт не будешь, и, как говорится, испробовать этот мир на вкус, который с каждым днем становится все более пресным, можно и другими способами. Многие классические авторы имели нужду передавать вкусы и запахи городов, где обитали сами. Запахи быстрорастущего Лондона задокументированы почти досконально и в подробностях.
Ясное дело, во мне не осталось памяти о том, какой вкус Мир имел раньше моего рождения, посему приходится верить авторам прошлого на слово. Мне вполне достаточно поминать добрыми словами свои воспоминания, как ел ту или иную пищу, вдыхал те или иные запахи. На языке появляется тот самый вкус, будто я только что ел продукты, что со времен моего детства больше в магазинах не продают.
В истории все было и будет связано с совсем немногими личностями, которых мне легко вспомнить и назвать поименно, но главное — не забывать, что конечный высококачественный продукт их трудов и выгодополучатель — каждый человек, даже не семья, не домочадцы и не обезличенная масса, которой дали название «народ».
Эгоизм в крайней стадии — думать, что Сократ или Ньютон жили, чтобы именно мне было легче жить на Земле, но эта мысль настолько странная, что вполне может сойти за правду. Есть в людях это чувство: творить добро даже для людей, которых никогда не увидишь и увидеть бы не хотел. Но я не таков… и Дядя не таков, и Джун не такая… Дядя даже ничем не управляет, кроме своего бизнеса, ассоциируется с Новым-Амстердамом, но, как и все авантюристы, остался своего рода настоящим гражданином мира.
В отличие от своего братца Брюса, Дядя даже не пытался говорить правильно. Большинство тех, кто не знал его имени и судил только по говору, приписывали ему низкое происхождение, основываясь на его поведении, шаркающей походке и уличной манере речи. Будучи в изрядно выпившем состоянии, на удивление, он выговаривал слова на порядок лучше, чем на трезвую голову. Бренди развязывал ему язык прямейшим образом.
Весь его лексикон, как и мой, состоял из мешанины самых разных диалектов великоанглийского языка. Будучи в его компании, я то и дело удивлялся его умению высокопарно говорить словами, которые от бруклинцев и ново-амстердамцев никогда не слышал. Еще до всех словарей, что стали для меня настольными книгами. Мне приходилось выслушивать тонны самобытных слов, которые сам Дядя почти что коллекционировал по опыту путешествий. В какой-то момент мне стало интересно подражать его умению говорить, и с ранних лет я перестал понимать, к чему ограничиваться местными говорами или даже стандартами речи?
Донельзя упрощенный и равномерно размазанный по всему миру английский слишком узок даже в самой своей правильной форме. Как человек, что провел за словарем больше времени, чем за любой другой книгой, я знаю слова, которые использовали во всех краях давно почившей метрополии. Конечно, странно использовать слова, значения которых знают только аккадийцы и островные шотландцы.
Мой мультифруктовый акцент никто не может понять в полной мере, он в равной степени непонятен всем, кроме таких же коверкающих родную речь, как я. Есть в этом нечто бостонское… пытаться излагать и делать все по-британски и не терпеть все британское. Но какое значение Бостон имеет сейчас, что от него осталось?
Все, что делало Бостон Бостоном, было попрано или оставлено без изменений. В Бостоне и поныне действует «брючный закон», по которому только мужчины могут носить штаны, а дамам стоит не пытаться носить «мужскую одежду» и не стоит носить юбки выше колена. Жандармы могли заметить не прикрытые колени, отвести нарушительницу порядка к мужу (если таковой имеется) и стрясти с него штраф.
Сейчас этому закону не следуют, женщины забыли, каково это — носить платья с подолом до самых пяток, поголовно носят штаны и брюки любых форм назло закону. Отменять нелепые, застарелые законы себе дороже. Каждая свободомыслящая собака Бостона обратит внимание на всеми забытый и неисполняемый закон, задастся вопросом, почему его отменили только сейчас с таким запозданием?
Быть может, пока я вот так брожу по Бруклину и думаю о Бруклине, неравнодушный прохожий вряд ли заметит мои полуночные гулянки и запомнит мой маршрут ходьбы. Все ночные прогульщики малость подозрительны. Думаю, что, если я буду ходить под луной в одно время, по одному маршруту достаточно долго, это вызовет у местных жителей справедливые подозрения…
Прогулки и жизнь в Бруклине всегда вызывают странные мысли и споры в голове. Споры, которые не могут существовать вообще нигде, кроме как в домах бруклинцев: им так легко извернуть обсуждения любых городов, кроме Бруклина, обратно к обсуждению Бруклина.
Похоже, никто так сильно не ненавидит Бруклин, как его уверенные в себе жители, и, критикуя другие города, всегда найдется приезжий, доказывающий, что в том городе все образуется. Как это ни странно, коренные бруклинцы разносят туристам идею о том, насколько Бруклин пропащий город и его уже не спасти.
Эти несносные люди неплохи как для нетитульного положения: отстаивают свою вотчину, как прирожденные дворяне со шпагами, то ли чтобы столичные дельцы ее не сгубили окончательно, то ли сказать всему миру, что бруклинцы могут справиться с этим и сами…
Несколько выбивает из колеи видеть все эти бруклинские попытки обустроить город. Всегда негорящие фонари — те самые фонари (света которых как раз не хватает во время вечерних прогулок), что только уродуют вид Бруклина. С тех пор как во время разгульной эпохи кризиса ярких огней города заметно поубавилось, настает время, когда стоит выкрутить вентиль до предела в обратную сторону.
Мысли о том, что какой-нибудь не самый большой город, как Новый Лондон с населением в четверть Бруклина, сумеет пошатнуть столичный постамент, кажутся нелепой шуткой. Возможно, и во мне теплилась сладкая мысль, что каждый захудалый городишко станет новым мегаполисом.
Но взаправду я ожидаю чего угодно, только не этого. Даже если правила игры крупных городов переменятся и все пешки возвысятся до королей, пока старые фигуры доживают свой век, мне вряд ли суждено увидеть всю палитру таких изменений и заново почувствовать знакомые пейзажи: либо я стану слишком немощным, либо дряхлым, чтобы предаваться подобным раздумьям.
Мало-помалу я дошагиваю к дому Германа. Дело за малым: захватить с собой оставленную посылку да закинуть эту посылку уже в дом Генри. Почтальонская ноша, но Генри будет у меня в долгу… к тому же дом Генри мне мил и без всяких поручений. Время разведать обстановку…
Убранство дома радует глаз и выглядит как эталон неприметного жилья, в котором мог жить кто угодно, но по какой-то причине живет именно Герман. В окнах дома горит свет, но в доме никого. Окна, залитые светом, — отработанная обманка. Герман никогда его не гасит, даже когда не наведывается в свой дом неделями; свет ламп отпугивает нежеланных гостей — незатейливый, но действенный метод. Если электрический свет в роли пугала, тогда и воры — вместо ворон.
Ключ, который я все это время держал в кармане, оказался неподложным, подошел к замку. Плавно отперев дверь, я уже было потянулся к ручке, но дверь сама мне открылась. Распахнулась, оголив коридор, залитый невыключенным светом. Взглянув в пустой, полный света коридор, я пошаркал ботинками о придверный коврик в прихожей и зашел внутрь уже с чищеной подошвой. Как мне и думалось, в доме никого нет. Все же я перестраховался, кликнул клич, окликнул возможных жильцов вопросом: «Здесь кто-то есть?», но ответа я так и не дождался.
Войдя, я не стал выключать все лампы, что светили буквально с каждого угла, готовился искать злополучную посылку, но стоило мне осмотреться, как я увидел связанную бечевкой коробку размером с мою голову. Похоже, мне действительно не придется рыться по квартире и разыскивать нужный сверток. Берусь пальцами за веревку и выхожу обратно на улицу, закрываю дверь, словно никогда в нее и не заходил, и возвращаюсь туда, откуда пришел, но уже с коробкой в руках. Однако легкое мне поручение попалось, и я этому рад. Пришел час жилища Генри.
****
Вокруг жилища Генри все монументальные на вид здания были всего лишь кладовыми: они вмещали вещательное оборудование любых размеров. Многострадальное здание сперва было престижным отелем, затем упало до обычной ночлежки, а теперь стало площадкой под аренду мелкому бизнесу с несколькими этажами для жильцов. Всю вещательную утварь уже приволокли.
Нужный мне кабинет находится на четвертом этаже. Я поднимаюсь по лестнице, не дожидаясь лифта. Даже не верится, что Генри живет в таком хлеву. Пройдя дальше, мне открывается осознание, что нигде, кроме как в хлеву, Генри обжиться и не мог: слишком много вычурной жизни сваливается ему на голову. Пока в жизни слишком мало безобразного, уже приходится своими руками грязнить место, где живешь и засыпаешь. Пожалуй, мне больше не придется гостить у Генри.
****
ГЛАВА 16. ФЕЛИКС
Если стоять и оглядываться по сторонам на людных городских площадях, можно воочию оценить, насколько хорошо зарекомендовало себя следование этим идеалам. Никакой идеальности нет и в помине, но никаких площадей и городов бы тоже не было. Девственные леса так и остались бы нетронутыми. Можно допустить обратное, только никаких аргументов этому нет, а раз аргументов нет, тогда и бессмыслен спор о том, как оно могло быть по-другому.
В мире полно однобоких истин, которые можно оспаривать сколько угодно, но никто всерьез не скажет, что лучше хряпнуть формалин вместо воды, а дышать парами ртути лучше, чем лесным воздухом. Конечно, в мире есть ртутные любители, но они быстро заканчиваются…
Люди — глубоко не идеальные существа, посему любые идеалы имеют свободную трактовку и адаптируются от случая к случаю. При желании я могу искренне сказать любому человеку, что уже живу в идеальном мире, если мне удастся себя в этом убедить, а главное — поверить в это. Но мне не следует бросаться в такие крайности. Просто продолжать выживать в этом бесконечно враждебном мире, в котором я успешно живу вот уже двадцать четыре года подряд.
Когда на нечто новое приходит человек и обустраивает все вокруг, дикости приходится отступать, и ничего с этим не поделаешь. Не могу даже сказать, остались ли на Земле белые пятна на карте, где еще сохранились дикарские обычаи, — разве что льды Антарктиды до сих пор остались неприступными.
Сейчас остается только сидеть и безразмерно радоваться, что всю грязную работу предки взяли на себя. Им удалось не загнуться, и посему они достойны почитания как прародители и основатели всего, а нам, как неблагодарным потомкам, следует лучше следить за своим поведением и ненароком не загадить все окончательно. Такой культ основателей меня нисколько не удивляет: в самом деле, людям нужна надежда и вера во что-то.
Тогда чем хуже верить в своего прапрадеда, без которого не было бы Нового-Амстердама, да и я бы никогда не родился? Буквально почитать и возвеличивать предков как образец всего самого лучшего: да, их не заставляют молиться как идолам и не наделяют сверхсилой, но буквально намекают на это.
Все, кого я знаю, не кланяются картинам, полотнищам или скульптурам, где изображены знатные мужи. Каждый дворянин выглядит величественно и здорово. Немудрено: художники рисуют автопортрет, как заказчик сам того пожелает. Я не жалую все это «целование следов», но пусть люди верят в то, что хотят; культ разума и предков — еще не самое худшее, что мог придумать больной человеческий разум.
Впрочем, именно природная стихия и занесла людей в Америку; ни для кого не секрет, что именно шторм и сильные ветра прибили Лейфа Эриксона в канадскую глушь. Эриксон высадился на новооткрытой земле, которую он назвал Винланд; у него едва ли было понимание, что стоит делать, чем сперва заняться на американской земле, кроме как рыбачить и собирать ягоды с кустов.
Уж точно голова не шла кругом и не было никаких передержанных высоких идей — только жажда приспособить новые земли для пропитания и новой земли для поселения его соплеменников, а теперь в Америке скандинавов в разы больше, чем на родных фьордах. В американцах всегда было что-то от викингов… что-то средневековое и неизжитое, что нас по-прежнему терзает. Пускай погода уже давно не так несчастна, не так холодна, но по-прежнему живо брыкается, как мустанг, не приученный к седлу.
А ведь в суровые морозы средневековым европейцам приходилось жертвовать частью простых удобств и в стужу закутываться в одежды, не открывать лишний раз двери, дабы сохранить тепло в своих пропускающих ветер хибарах до мартовской оттепели. Когда же несчастья людей не позволяют пережить непогоду, на ум приходит задобрить стихию, выразить почтение к высшим силам через бескровные мистерии.
Достаточно танца или разложить пищу правильным образом, тогда и наступит ранняя, не календарная весна. Весь снег за день растает. Готов поспорить, у защитников лесов жертвенные подношения, будь то маис или табак, всегда найдутся; конечно, во мне нет веры в подобную ворожбу. Танец во имя солнца я спляшу в самую последнюю очередь.
Время близится к рассвету, но во всех заведениях… Бьюсь об заклад, в этих рыгаловках и клубах есть полно тех тусовщиков, кто приходит веселиться в подобные заведения совсем на мели, а когда дела доходят до денег, найдется щедрый человек, который угостит чем угодно. Только для этого стоит быть достаточно красивым или по натуре везучим.
Я признаю, что и мне хотелось также столкнуться с возможностью не платить за выпивку, а присесть в одно из многих заведений по обе стороны улицы (выбора больше чем хватает, стоит лишь выбирать глазами то, что приглянется), но выпивка и гулянки мне не интересны, а больше там делать нечего. Начинает светать, впрочем, многие заведения все еще работают. Выходящих из домов людей не видно, слишком предрассветная пора, хороший знак: самое время ускорить шаг.
ГЛАВА 17. РОБИН
Предки Манчини до сих пор уверены, что он усердно ведет мелкую кофейню, которую по случаю двадцатилетия подарил отец, но Манчини вот уже года как два ее продал или, точнее сказать, расплатился ею по карточному долгу. Несомненно, для такого, как Манчини, отсутствие золотого парашюта не беда… припасена приличная доля акций в их материнской компании, но это уже совсем другой разговор.
Манчини бесконечно везет с безучастьем предков к его личному пространству, чему Манчини неприкрыто рад. Рад, что папуля с матерью никогда не навещают и не интересуются жизнью старшего сына. Теперь у осеменителя-отца Манчини своих новых детей в избытке, чтобы еще даром тратить силы на бывшую семью. Мать также занята: только ей приходится не вынашивать новых детей, а воспитывать парочку чужих в новом браке.
Но Манчини не унывает и говорит это с надменной иронией, словно Цезарь рассуждает, каким образом сумел одолеть всех своих противников. Не было сказано ни слова, куда Манчини копит все эти богатства и на что они пойдут. Я не стал задавать, по-видимому, интимный вопрос. Как ни крути, но раскрытие доходов и цифр на счету, деньги и их количество — одна из самых интимных вещей, что друг может о себе поведать.
Мне никогда не доводилось распространяться о том, сколько же цифр хранится на моем балансе. Порой я проверяю и предельно занижаю все свои деньги, пытаясь казаться почти что банкротом в глазах спрашивающего, или вру. Я все деньги держу только наличными и не пересчитываю, поэтому даже не помню, даже примерно, сколько же их у меня.
Но Глории удавалось улизнуть от любых мужских ухаживаний, удалиться от воздыхателей, когда в них не было никакого проку, не пойманной скрываться от желающих ее вернуть. И теперь, когда Глория и Манчини пересеклись, скитания Глории нацелены на нечто большее. Сейчас ее бруклинская жизнь — лишь передышка. Привал, какой бывает у скрывающихся особ: сколько ни бегай, а бесцельная походка прогульщика убережет лучше.
По словам самого Манчини, Глория уговорила его отправиться вместе с ней в Южную Америку. Глория так убедительно говорила о тамошних местах, что не покинуть Бруклин было для нее смертеподобно. Манчини же досталась миссия ее сопровождать (но это уже мои догадки). Все к этому и сводится. Уже через несколько недель они планируют вдвоем засесть со всеми пожитками в незаметной местности подальше от крупных городов.
Для него это мечта — побыть в тишине от шума городов, для нее — обезопасить себя и при удачных стечениях никогда не поплатиться за аферы и махинации. Если верить его словам, он еще никому не говорил об этом. Конечно, семья, которой нет до него дела, продолжит присылать деньги и, пожалуй, даже обрадуется, что сын с чего-то вдруг переехал в тропики, никого не предупредив… Мне путешествий хватило, а сейчас калифорнийцы все въедливее снуют в Новом-Амстердаме.
Пускай по нутру я и бродяжка, но предложение отправиться на Калифорнийское побережье всегда вызывало у меня только смех… Насколько мне известно, сейчас, напротив, именно у жителей Калифорнии есть резон приезжать к нам, в Новый-Амстердам.
О спецах по защите от природы, специалистах, о которых я никогда не слыхал и не имею ни малейшего понятия (может, они и известны как никто другой на Западном побережье), калифорнийские попытки привнести свой опыт, уберечь нас от ошибок кажутся простой игрой мускулами.
Люди, помнящие годы неурожаев и пылевые бури, которые подтолкнули миллионы переселиться к Золотому заливу… Все эти несчастья дали грымзам повод считать себя ветеранами борьбы с природными ненастьями. По тону их голоса и подбору слов совершенно неприкрыто дают понять, кто бывалые профессора, а кто необучаемые жители Нового-Амстердама, которых ежегодно терзают волны и наводнения. Каждый год экспертам приходится растолковывать инструкции по водозащитным сооружениям.
От подобных учений дети Атлантики только морщатся, зевают и ждут, когда же присланные укротители штормов соберут вещи и отправятся поучать кого-нибудь еще. Остается ждать, пока стрелка повернется в их сторону. Уже мы, дети Атлантики, будем отчитывать калифорнийцев. Хулить за города, ходящие ходуном, когда приходит время землетрясений, за гуляющие вихри, что приносят пожары. Стыдить калифорнийцев за все, на что хватит фантазии…
Настанут времена (за час до отъезда), когда Манчини на пару с Глорией уплывут. Манчини выскажет все, что хотел сказать, за целую жизнь. Мне останется только осмыслить все сказанное Глорией и Манчини и добавлять комментарии. Манчини, может, и охмурен любовью, мне же с первой минуты знакомства было понятно, кто есть его избранница. Очевидно, Манчини не питал никаких иллюзий насчет всего, что прокурор мог обличить о ней присяжным.
По словам самого Манчини, они как пара почти сразу признались во многих постыдных связях, постыдных делах и какие непотребства планируют совершить дальше, но подобная откровенность не помешала их отношениям. Мутность Глории только помогла их скрепить. Признания в бывших отношениях от тридцатилетней Глории никого не удивят.
Тех, кто всерьез рассчитывает встретить женщину в таком возрасте и не бывшую замужем. Оказывается, Глория уже родила сына, но, как только родила, отдала сынишку на воспитание. Теперь Глория не имеет малейшего представления, где ее сын, а его имя она вслух так и не произнесла; так сын Глории и останется для меня безымянным.
Может, мне, как усыновленному, и стоит сердиться за то, как Глория поступила с чадом, но нет… только проникся уважением. Желание откровенничать достигло своего пика. Я только вслушивался и не собирался никоим образом его останавливать. И даже если все сказанное — всего лишь выдумка, я готов принять ее на веру, да и к чему клеветать на свою же девушку?
Манчини говорил, что Глория вовсе не та, за кого себя выдает, ее бы хотели видеть за решеткой или в земле многие, кого она в свое время обдурила, и именно это в ней и привлекло. Она с шестнадцати лет вот уже полжизни жила на попечении у богатых дельцов, которыми нещадно пользовалась, а использовав, просто уходила к другому мужчине. Все намекало на то, что Глория понятия не имела, кто биологический отец ее мальчика.
Но подобные признания в рождении подкидышей и полном начхательстве, колючем безразличии к детям — это иной уровень даже для Манчини. По смешливому тону его голоса я вполне мог понять, что его никоим образом не волнует прошлое своей пассии. Манчини готов смириться; скорее, Манчини и вправду удалось за такую непродолжительную жизнь натворить множество ужасных вещей, на фоне которых развод и истории о нежеланных беременностях кажутся пустяками.
Я принял этот рассказ за правду и никак не реагировал, но и не осуждал, только приглушенный неловкий смех выдавал. Я на стороне Манчини. Множество раз, невообразимое множество разных людей доверяли мне свои секреты, многие из которых были совсем ужасны. В сравнении с ними эта кажется чем-то обычным. К тому же она далеко не девочка и вправе сама отвечать за свою жизнь и, как выяснилось, за младенцев тоже.
Следы Глории уже остыли, ей удалось ускользнуть от руки правосудия. Законники, похоже, без понятия, где искать Глорию. Ей уж не привыкать сливаться с толпой. Нет сомнений, что Глория могла уйти в тень где угодно.
Глория может и без Манчини спокойно набивать себе цену, познать толк в радостях жизни, утратить часть рассудка и наконец справиться со всеми проблемами путем плотного гедонизма. Так и вижу, как судебные приставы обходят их общий дом за милю. Законники извинятся перед Глорией, скажут, что никто по-настоящему не собирался ее арестовывать. Слишком богатая и насыщенная событиями жизнь как для обожженной нуждой женщины, но подобных ей тысячи, и нет им конца…
В этот раз Манчини вызвался оплатить наш счет и великодушно оплатил все счета в кафе, хотя я легко мог заплатить за себя. Мне не привыкать чувствовать себя дамой, чьи заказы в кафе оплачивает щедрый джентльмен. Смею считать, потому что все время трапезы я был достойным собеседником.
Мне знакомо это кафе, поименно знаю его посетителей и даже замечаю, как официанты обхаживают Манчини, как обслуживали и его отца, и деда. Как продолжатель таких германских традиций, как и участь наследовать дело отца, Манчини весьма неплох, но брататься руками и иметь с ним дело я бы решился только в плену. Не говоря уже о перспективе назначать Манчини своим прямым наследником.
В публичных местах Манчини с Глорией ведут себя довольно вызывающе, при этом оставаясь в рамках приличия; когда многие делают так же, в этом вовсе перестает видеться проблема, разве что в недостатке новых ощущений и пресыщении старыми. Удивляться до онемения конечностей все труднее, безостановочное изматывание добралось до многих, но только не до этой сладкой парочки.
Мы все прогуливались по прямой дорожке… Думая о Глории и Манчини, я в самом деле осознаю, насколько их бытовые и любовные проблемы от меня опосредованы; конечно, я не ненавистник отношений, но встречаться с Глорией и ей подобными дамами? Да никогда в жизни.
Когда дело доходит до того уровня отношений, приходится подвирать, дополнять факты своей биографии, придумывать, чем заполнить пробелы в житейских вещах. Выдумывать отношения, которые у меня якобы были.
В один момент я понял, насколько умело я привираю. Подмечал за собой, как далеко продвинулся в ткачестве паутины из лжи. У собеседников не возникнет ко мне недоверия. Раскрывают секреты, а порой и слезно каются. Плачутся о проблемах со сварливыми женами или ворчат на своих ворчливых предков. Мне остается только слушать и запоминать.
Пройдя еще минут пять, мы свернули именно на ту улицу, которую сегодня облюбовали школьники, особенно много их было в магазинах. Проходя мимо витрин, это было сразу видно: школьники просто расхаживали в компании ровесников, просматривали товары и ничего не покупали. Все продавцы и владельцы быстро подстроились под их нужды. Теперь вместо колоритных музыкальных магазинов, где можно было по дешевке купить массу редких пластинок, по всей улице открылись дешевые кафетерии, где собирался контингент тех, кто сэкономил карманные деньги на школьных обедах.
Наша малая компания хотела было зайти в одну из таких забегаловок, но вход в нее обступил целый рой худоватых подрастающих девочек; нас никогда не интересовала такая компания — все еще пышущих смешками и улыбками юных дам. Да и если столько людей толпится у входа, можно только представить, что творится внутри.
А ведь многие эти четырнадцатилетние-семнадцатилетние и правда думают обо мне как о старике, как я думаю о них как о молокососах. Конечно, я с каждым днем все больше отстаю от понимания их юношества, и мне приходится только догадываться, о чем мыслят сегодняшние школьники, но я без труда отличу подростков, которых пускают за красивые глаза, от всамделишных совершеннолетних.
ГЛАВА 18. РОБИН
****
Становится не по себе. Лучше бы он продолжил щебетать о всем подряд, лишь бы заглушить звуки падающих из расщелин на крыше капель воды.
На этих складах система безопасности все больше похожа на вариацию открытой тюрьмы, где решетки никогда не запирают или стен вовсе никогда не было, а все остается только на совести преступника: осознать свою провинность и дожидаться положенной даты освобождения. А когда узника из обычной тюрьмы переводят сюда, новичок просто не может поверить, что тюремная администрация просто так взяла и по доброй воле решила снести все стены и преграды на пути к воле, — такой подарок судьбы, поэтому и не решается на побег.
Вот и я сижу в этой дыре, жду Егеря, хотя могу подняться в любую минуту; мне лучше перепоручить такую настойчивость соседям по обе стороны от меня. И впрямь, когда я подумал об этом, часть людей синхронно поднялась с мест, словно услышала неслышимый мною сигнал свистка или будильника. Остается только гадать, куда они пойдут теперь и что остается делать мне.
****
Сразу видно, что человек попал в свою стихию, где нутро натуралиста чувствует свободу, словно он и был рожден зажигать костры да охотиться на крупную дичь. Егерь разжигал костры сотни раз, и этот не станет неудачей.
Егерь опустился на колени перед костровищем, все пытался разжечь валежник, что собрал по округе, одной спичкой подпалил сухую ветку. Горящей веткой Егерь разжег охапку сучьев и принялся раздувать огонь. Да настолько увлекся раздуванием пламени, что совсем позабыл о том, как бы не запачкать одежду.
Если валяться, как Егерь, возле костра, словно тюлень на берегу, легко навсегда запятнать любую одежду, благо для таких грязных дел люди придумали черную одежду. Встав в полный рост, Егерь стряхнул всю грязь и стал словно чище прежнего. Такое абсолютное загляденье скрасит настоящее уродство вокруг. Картина слишком жива, чтобы быть искусством, быть «всего лишь искусством».
Похоже, Егерю стоит получше присмотреться к возможности рисовать эскизы с натурщиц. Егерь еще в силах привлекать новых претенденток на женитьбу. Сам Егерь выглядит раздосадованным и даже несколько напряженным. Страшно представить, если бы компания была поменьше, он точно раскраснелся бы от гнева.
Егерь достает из сумки блокнот, стал водить карандашом по бумаге. Сперва показалось, что рисует, но, присмотревшись получше, замечаю, как Егерь выводит непонятные слова, больше похожие на руны. Между словами нет промежутка, вместо интервалов и пробелов стоят цифры. От скуки выводить на бумаге белиберду — довольно необычный способ убивать время.
Сделав дело, он складывает свой пишущий набор обратно в сумку. Принялся поправлять волосы и потирать лицо, приоткрыл рот, будто готовится завыть на Луну. Но вместо этого закрывает ладонями лицо на десяток-другой секунд, фырчит, перебирает пальцами по лицу, а когда открывает — все приятное напряжение на лице как ветром сдуло. Никто, кроме меня, не замечает всего этого; я отворачиваю взгляд, словно только что наблюдал нечто непристойное. Егерю полегчало…
ГЛАВА 19. ФЕЛИКС
Нестерпимая жара за окном уже дает немало поводов оставаться дома, где еще есть место холоду. Сегодня я не мог себе этого позволить — прятаться от жары, благо в кафе «Сильвания» даже холоднее, чем в моей постели. Сдается мне, что один я ощущаю эту жару: за соседними столиками сидят люди в костюмах и даже в жилетках. На лбах прохожих ни капли пота, словно они ходят при своей собственной температуре.
Работа в офисе, как и любая, где на кону стоят крупные суммы денег, обязывает даже летом не снимать надлежащей одежды. Разве что снять пиджак при особых случаях. Это не про меня: да, мне идут костюмы, но я не собираюсь получать солнечный удар по своей воле.
Кафе «Сильвания» — поистине приятное место; пускай еда здесь и впрямь бывает по-настоящему паршивая (вместо нормальной еды все эти морепродукты, которые я не переношу), но посуда всегда вымыта до дыр. Об этом заведении можно сказать что угодно, кроме грязной посуды и кухни. После одного мало приятного случая я могу с апломбом утверждать, где именно находится заведение как пример чистоты.
По внешнему виду фасада и облупившейся наружной рекламе думать о примерной чистоте кухни довольно трудно, а желающие остаться подольше могут не покидать пределов особняка неделями. Добираться до этого места приходится, пробираясь через убитые дороги, не меньше часа, но бодрящие напитки и сносные предметы быта позволяют по-настоящему подумать, что желающие проживать здесь нашли дикое протяженное место под боком у многомиллионного города, где яблоку негде упасть.
Особенность Бруклина — оставлять нетронутые места без любого признака жизни людей — по-настоящему может поражать тех, кто не выбирается из бетонных коробок и загазованных проспектов. Мне никогда не надоест городская жизнь с ее ритмом и хлопотами, но временами выбираться подальше от мерцающих огней большого города видится мне стоящей идеей.
Разумеется, я не намерен неделями обустраиваться в этом особняке, хватит и пары часов побродить по нему и собраться с силами… Официант предлагает ознакомиться с винной картой, но именно сегодня я заказываю и пью только перно. Мне не было смысла напиваться до поросячьего визга, я сумел вовремя остановиться, и мой четвертый бокал перно стал последним на сегодня.
Мне с трудом удается представить регулярных глотателей этого пойла, а ведь именно перно наливают повсюду чаще пива, как наливают чай в китайских закусочных. Запредельная горечь напитка еще не скоро меня покинет, она идет изнутри пищевода, и язык тут вовсе ни при чем. При таких условиях обилие еды и закусок на столах уже не кажется излишеством, но необходимостью.
Ни я, ни кто-либо другой не мог без бесконечных проволочек получить разрешение на проведение концерта. По словам бюрократов, мне придется в лучшем случае неделями дожидаться подтверждения. Не сказать, что удобно, но терпимо. Подгонять процесс своим личным появлением нет никакого желания, дело того не стоит. В лучшем случае так можно сэкономить пару дней. Выдавать разрешение на концерт — явно не приоритетная задача у городских служб. Разве что дорогая бабуля Джун поможет ускорить этот процесс, если ее как следует попросить.
Ясное небо поутру не помешало нашей компании на всякий случай взять зонты, кто-то даже поверх одежды накинул дождевик. В свою очередь, мне придется проделать весь путь даже без зонта. Здоровяк, идущий по правую сторону от меня, поднял зонт ближе к моей голове. Теперь мы оба укрыты под одним зонтом. Он ничего не ответил на это, даже слова не сказал, но мокнуть под струями дождя теперь можно куда меньше.
По прогнозам погоды, приморские ливни прекратятся, и следующая неделя подарит безоблачную жару. Быть может, мне не следовало компанействовать, но промедление может только все ухудшить. Впрочем, и в такой проливной день можно остаться сухим под дождевиком, а еще лучше не выходить в непогоду. При любом дожде оставаться в сухом доме. Но сегодня мне перепало топтать бруклинское месиво и переступать лужи в и без того промокших ботинках.
Прогнозов погоды я не читал, но и без того знаю, когда ждать бури. Любые прогнозы погоды — всего лишь игра в кости: еще ни один метеоролог не сумел понять переменчивую погоду Бруклина. Всего пару часов назад над головами прохожих нависало ясное небо без всяких намеков на непогоду. Теперь небосвод заволокли дымчатые, темные тучи, сквозь которые еле пробивается дневной свет.
Пока ливень с журчанием льется и затапливает грунтовые дороги, стоит отложить возвращение в город. Если громыхающие ливни не стихнут к заре, придется ехать на свой страх и риск. Все остальные согласились переждать непогоду, к тому же здесь было чем заняться. Большая часть людей заблаговременно уехала, как только концерт закончился и дождь только начал идти…
Пускай дождь продолжает решетить все своей влагой. Каким бы слабым и сахарным я ни казался, навряд ли мне удастся растаять под дождем, даже такой силы он не был. Все же оборудование для музыки никто не несет на руках: у нашего сборища есть грузовик. Дождевые осадки стали некого рода передышкой после веселья.
Все идут несколько невпопад, словно каждый пытается обойти все лужи и грязь каким-то своим особым образом, поэтому часть людей отстает, а часть, наоборот, только ускоряет шаг. Мне теперь следует идти с той же скоростью, что этот парень, держащий зонт над моей головой.
Мы все подходим ближе к обочине дороги, где один гравий и вода почти не размыла дорогу. Так продолжаться могло достаточно долго, по моим подсчетам, не меньше двадцати минут. Путь прошелся мимо моих глаз. Все прочие компаньоны пришли почти синхронно. У кого-то штаны были без единой капли влаги. Другие были по колено в подтеках, но никто не обращал на это внимания, словно замарать штаны в таких походных условиях — само собой разумеющееся дело.
Протягивают каждому из пришедших по стакану мутной настойки, я приложил руки к этому и выпил несколько стаканов; это огненное пойло даже близко не такого качества, как любит говорить о нем Егерь. За неимением другого пива сгодится, но не более того.
Продолжив путь, Егерь достает все новые и новые банки, которые он скопил для себя. Выпитых им банок становилось все больше: пустые банки разлетались по округе, когда он их кидал в разные стороны. За сегодняшний день именно он стал главным выпивальщиком спиртного, повод в виде «праздника» как-никак для этого действительно имеется.
Виток мировой дикости протянулся куда дальше. Кто-то даже оставил все свое нажитое в Океании, а вернулся домой, только чтобы подписать новый контракт. Сплошные перебежчики; уже не знаю, чем Батавия или Формоза им приглянулись. Догадываюсь, что когда новизна спадет, американские работники получат все, чего им так не хватало до отплытия.
Драйвером для дальних командировок стали многие желающие — те, кто откликнулся на приглашение и подоспел занять самые теплые места. Теперь многие, кто был выброшен за борт за нежелание драить палубу, получили спасательный круг, а за хорошую службу — еще и возможность выбиться в люди. Теперь этим вчерашним отщепенцам больше не придется ишачить, дабы наконец расплатиться со всеми долгами, а не просто покрывать старые задолженности новыми займами. Только время покажет, стоило ли вообще спасать утопающих.
С другой стороны, это даже закономерно: сдать себя в аренду как рабочего для тех, кто готов вдоволь платить, а когда деньги кончатся, собрать второпях вещи и уехать к нанимателю побогаче. Искать нанимателей — дело не хлопотное и недолгое. Стоит только надеяться, что восточные партнеры будут и дальше их оплачивать и баловать, отпуская работников обратно уже с заметным загаром и новыми силами для работы. Все компании, к счастью или сожалению, то и дело отправляют сотрудников доучиваться, даже если они вовсе того не хотят.
Так что же мешает просто разменивать эфемерные трудовые ресурсы на настоящие блага? Такая мировая биржа труда существует со старых времен колониальных новаторов, что одарили Землю паровыми машинами и мизерной рождаемостью. Теперь человек как вид не производит ресурс — человек сам в него удачно превратился. Каждый из рода людского стал в неком роде хрустальной вазой. Хрусталем, который так легко разбить вдребезги. В таком случае ценить по достоинству всех хрупких от чуждого климата рабочих само собой разумеется, иначе без госпиталей, сытной пищи и развлечений люди становятся слишком хрупкими.
Миролюбивые жители многое скрывают в закромах. Если именно в этих местах живут почти что одни бюрократы, можно только позавидовать умению местных жителей хранить секреты. Каждого из живущих по соседству штатских можно легко счесть за лазутчиков или неких внештатных агентов на зарплате. Мне приятнее думать, что им просто не повезло обзавестись таким, мягко сказать, необычным соседством. Теперь каждый считает долгом думать о соседях. Даже не до конца понятно, чем эти людишки такие особенные и подозрительные: разве что укрывают у себя в доме опальных людей или придерживают у себя что-то ценное.
Но как мне ни приходилось проезжать мимо нецентральных магистралей Бруклина, где обитают только местные, от скуки я вглядывался через тонированные стекла машины на этих людей, что проехали по дороге без верхней одежды и почти что в шортах в ноябре. Ничего отличительного, кроме манеры одеваться не по погоде, я в них не заметил. При всем этом молва о них как о почти хранителях знаний Лонг-Айленда и не думает стихать, а причислять себя к ним — один из признаков хорошего тона и родословной. Если коренной народ острова и впрямь сплошь волшебные феи или любые другие волшебные создания, что только прикидываются людьми, сумели сохранить свой секрет и десятками лет дурят обывателей — это бы многое объясняло, и я бы легко принял такое соседство как должное.
Среди обезлюдевших малых городов попадались и те отдельные «детородные» городки, что до момента плача детей тут и там напоминали скорее немые спящие кварталы. Все эти поселения для новобрачных были выстроены однажды как оберег против хаотично разросшихся жилых самостроев: во время кризиса вчерашние любители джаза сооружали хибары из вагонки и подручных материалов, жилья на всех не хватало, и отчаявшиеся люди брали дело в свои руки. Тогда власти поспешно переняли эстафету и сами стали решать жилищный вопрос молодоженов. Может показаться, что такие превентивные меры — не более чем попытка улучшить имидж. На деле власти получали куда больше выгод от возведения массивов доступных зданий: пустующие пространства обросли строительными лесами. После завершения работ семьи охотно обжили свои новые дома. К тому же первоочередные получатели стали куда более благодарны своим спасителям во плоти и полвека спустя превратились в рупор поддержки городской ратуши.
Мне известна масса людей, имена которых следует писать с маленькой буквы или перестать записывать их инициалы вовсе; может, тогда их дурная слава быстрее забудется и наступит своего рода доведенное до ума стирание из памяти. Осталось только выбрать людей, кто будет решать, чьи фамилии и имена достойны больших букв, а чьи нет.
Лучшие из людей, из населения любого города, не показываются на людях, не находятся на виду, и про них еще не знают. Мало что можно сказать о том, когда они выйдут из тени. До этого они отовариваются в магазинах, проходят мимо зевак. Людей, что ждут на перроне свои опаздывающие поезда, тех, что неприметным видом возвращаются домой. На удивление, с подобным контингентом мне приходилось и приходится встречаться регулярно. Хотя от числа городских масс умнейших людей — самая малость населения…
Меня не радует вид всех этих дорожных указателей, на которые местные жители и внимания не обращают, пока не ткнешь пальцем в сторону очередного покосившегося дорожного знака или старых билбордов, рисунки на которых давно выцвели. Сейчас уже трудно разобрать, что они значили, но в свое время они стоили недешево.
Транспорт несет все дальше и дальше. На обочинах дороги уже нигде не торчит никаких дорожных знаков; была неясна судьба этих знаков: часть дорожных обозначений повалились и их убрали намеренно, а к оставшимся очередь не дошла, или же здесь отроду не выставляли никаких дорожных знаков. Машину трясло на ухабах, заплатки на дороге позволяли проехать без кювета. Растительности больше, округа как чаша с местом для людей, покрытым щебнем.
Команда техников принялась расставлять оборудование. Светотехники и звуковики — еще те ловкачи. Умеют подсоединять технику, как макаки снимают кожуру бананов. Ловко закрепляют жгуты, подключают аппаратуру к перекрученным проводкам, а проводки через переходник к электрогенератору. Через сорок минут готово, но пустырь пуст. Кроме доморощенных мастеров — никого, первые машины будут через час.
Просидел час на раскладном стуле, люди заглядывали в часы. Первые машины появились, их встретили как желанных гостей, рассказывали о дороге, шутили про далекое место. Большинство опоздали, начало перенесли на час. Осмелившихся ждет повторение старого, новой программы нет — свободный микрофон.
Ничего не оставалось, как ждать, но, приехав мы позже, рисковали задержать публику. Кто-то разминал ноги после долгой поездки, ведутся проверки динамиков и микрофона на работоспособность. Звук восхитительный, настолько отдается небольшим эхом и мелкими помехами. На фоне пустого пространства звук стал звучать хуже и глуше, чем я слышал его в крытых складах около пристани.
На раскладном стуле, который мне выдали скоротать время, я просидел около часа. Люди, сидевшие неподалеку от меня на таких же выданных стульях… взглянув на них краем глаза, я подметил, как они то и дело закатывали рукава, заглядывают в наручные часы, сверяются со временем и с недовольным видом задвигают рукав обратно. Стало нетрудно понять, что первые посетители прибудут с минуты на минуту. По прошествии недолгого времени первые машины стали появляться. Их встретили как желанных гостей, а те в свою очередь рассказывали о том, как им пришлось добираться до этого глухого места, и подшучивали, что лучше было найти более далекое и недоступное место. Все же большая часть прилично опоздали, из-за этого начало пришлось перенести на час, когда все уже были в сборе.
В этой глуши музыка любой громкости не способна помешать жителям, которых в получасе езды практически что и нет. Еще мало времени прошло с урагана, который снес добрую часть домов и построек; остались отдельные потрепанные уцелевшие дома, не более того. Когда все дома восстановят, сыщется другое место для несогласованных концертов, если таковые еще останутся.
Музыка звучала громковато, но барабанным перепонкам ничего не угрожает. Наконец все привезенное оборудование начинает работать, световые и дымовые машины дребезжат… Искры от пиротехники разносило ветром по всей округе. Следующие часы вся эта подножная земля в полной власти организаторов. К тому же поблизости нет ничего того, что могло подвергнуться вандализму от наших рук. Все эти огни и танцы стали напоминать почти что племенные пляски у костра на пляже и многие другие сомнительного качества увлечения в компании людей, где всех все устраивало.
Негодование постигло всех любимых и опьяненных людей гораздо позже. Того самого первого успеха никто не повторит и в общем-то не допустит, пока они продолжат у всех на глазах вытворять подобные вылазки. Донести всем до сведения, что их еще рано списывать со счетов, довольно проблематично, если это вообще выполнимо. Да, это не лучшее шоу мира, но кто приехал сюда ради “малого праздника”, приедут еще не раз и не два…
Кто знает, что будет дальше; в процессе сбора старой компании приглашенные однажды гости также получили новые пропуска уже на другое место проведения. Бывавшие на подобных сходках не раз прекрасно знают о подобных методах предосторожности. Вечеринки никогда не проходят в одном месте два раза подряд. Долго выбирать новые варианты не приходилось. Организаторам выбрать подходящее место уже было удачей. Затраты на проведение покрывались гостями, благодаря чему возможных проблем с окупаемостью не возникало…
Встречаться было принято где попало и где позволяли владельцы, но не было домов, готовых вместить больше нескольких десятков человек за раз. Приходилось располагаться на открытом воздухе. Казалось, в любой момент наведаются патрули и сгонят с места. Поднапрячь извилины — за все время этих собраний никому не было дела, кроме недовольных шумом соседей.
Вспоминаю то злосчастное завещание Брюса, что мне пытались подсунуть. Пытались упросить, чтобы я его подписал; на моей памяти, это завещание — самый ценный договор, под которым я ни за что не хотел бы оставить свои инициалы. Проволочки с наследством меня утомляли… какими законными ни были мои претензии и основания, это не приносило большой спасительной ясности. Суды и адвокаты казались самой крайней мерой, прибегать к которой ни при каких условиях не хотелось. Не могу вспомнить, говаривал ли я о подобных темах, но никогда не придавал вопросу дележа наследства значимости. Если и думал всерьез, то неосознанно и со злости. Скорее, я и вправду думал, что затейливый Брюс проживет столько же, сколько прожила его неприлично старая супруга.
Остается только ждать, когда его накопленные сокровища станут делить на части; без моего участия этот процесс явно не начнется. Без спора отдам свою долю тому, кто первый попросит или кто даст мне более убедительные обоснования, почему именно ему эти деньги нужнее всего. Я не собираюсь цепляться за наследство, пусть и знаю, что треть от всего их совместно нажитого имущества должна перейти мне. Я не стану отстаивать это законное право ни в суде, ни еще каким-либо способом. Я с легкостью могу набраться глупости и отказать себе в этой весомой возможности, чем охотно и пользовался. Возможно, и настанет тот день, когда я пожалею о том, что отказался, но это будет так нескоро, что кажется, никогда не наступит. Мне неизвестно, кто как принял предложение, все не могли согласиться, это уж точно.
ГЛАВА 20. РОБИН
Я полон удачи, как пугало набито соломой, словно все происходящее складывается в мою пользу. Фортуна на пару с Фемидой благоволят мне, и мир подстраивается под мои нужды. Я слишком рад остаться в одиночестве или, по крайней мере, думаю, что это неоспоримо: последние пару дней меня не потревожат. Убеждаю себя, что именно так все и есть. Я усаживаюсь на потертого вида диван. Если есть список тех людей, кому уготована судьба на счастливую долгую жизнь, мое имя несомненно выведено в нем невидимыми глазу чернилами. Пускай в этом кроется немалое самомнение, но я слишком хорош, чтобы не быть первым среди горевателей.
Если я умудрился дожить до двадцати четырех лет, то уж точно смогу пережить всех своих недоброжелателей, приятелей и вообще всех ныне живущих людей на Земле. Сейчас я улыбаюсь с видом меченого чемпиона и понимаю, насколько мне по нраву эта улыбка…
Такие неоправданные и смехотворные самоубеждения в собственном бессмертии могли бы кого-нибудь повеселить, мне же они только придают сил. Теперь я могу наконец отдать академии эти бумаги и получить продление академ. отпуска, словно новую дозировку свободы на следующие месяцы. Четыре скоротечных года подряд этот трюк срабатывает. Я же доношу начальству, насколько работа емкая и требует долгого труда, который я размазываю по дням. Что я не в силах выполнить работу за один присест, и мне необходимо продлить крайний срок сдачи результата.
Мне думается, что все догадываются о моей безотказной тактике. Давно выведали о том, что я пытаюсь их обдурить, провести, и нет у меня никакой написанной рукописи. Либо с самого начала знали, чем я занимаюсь, и, чтобы не видеть меня подольше, закрывали глаза. Но мне нет разницы, по какой конкретной причине академия содержит меня все это время разъездов по Америке, лишь бы это спонсорство не прекращалось.
Вековым ориентиром для меня может служить только дорога. Вся в своем уединении одиноких приключений, она извивается зигзагами, не дает мне скучать, и неизменным правилом будет не приглашать пройтись со мной под руку. Все свои скитания по Америке с самого первого дня я мотивировал вдохновением и серьезной работой (ради написания которой мне и позволили не посещать занятий в академии).
Я пытался, и мне по-настоящему удавалось сделать убедительный вид: я работаю над рукописью ради удовольствия, а не ради академии, не ради денег или признания. Получать достойную зарплату за труды — это удел корыстных людей, и меня это более чем устраивает.
Для путешествий достаточно только иметь изначальный капитал, дабы все люди, как я, нанимались внештатными работниками. За первые два года я получил известность как «тот парень, который не берет денег за работу, да еще сам предлагает свою кандидатуру».
Когда-то я записывал в бухгалтерскую тетрадь, сколько клиентов таким образом прибыло по моей схеме; тысячи новых контрактов были подписаны при моем участии, но потом я охладел к этой идее и перестал записывать. Когда я уже стал достаточно известен, меня самого стали находить; и хотя у меня никогда не было личного агента, заинтересованным мною личностям всегда удавалось добиться моей аудиенции разными способами. Бегали за мной в попытках произвести впечатление, дабы я начирикал Брюсу пару лестных слов об их бизнесе и какие они замечательные люди.
Порой именно это я и делал, но обычно я на трезвую голову обдумывал все «за» и «против». Моя позиция не в том, чтобы давать свет всякому отребью или жуликам, а находить достойных кандидатов на взаимовыгодное сотрудничество. Менеджеров по поиску новых талантов масса, но лишь единицы приблизились к моим показателям. В столичном регионе я знаком со многими из них лично и знаю, о чем говорю. Глупые деловые предложения продолжали меня утомлять.
Конечно, я знал, на что иду. Но это было своего рода хобби и ни к чему меня не обязывало. В один день я все бросил, отменил запланированные встречи и уплыл в свободное плаванье. Отдохнуть, и мне это в коем-то смысле удалось; разумная порция безделья принесла свою пользу. Обратно в Новый-Амстердам я вернулся с заплатками в черепной коробке, которых никто не разглядел…
Мое мельтешение по Новому-Амстердаму — всего лишь предваряющее событие, преддверие времени, когда моя неоценимая краеведческая работа будет распродаваться на ура (А ОНА ДОЛЖНА И БУДЕТ РАСПРОДАВАТЬСЯ).
Сейчас же у моей рукописи даже нет обложки и переплета. Бумажные листы — вещь деликатная; в идеале я должен сейчас присматривать за итогами всех своих трудов, на худой конец, если не приглядывать, то держать рукопись на видном месте, делать все, чтобы работа не пошла прахом. На поверку я отдал всю свою писанину храниться под ключ со всем остальным своим багажом и понятия не имею, в каком она сейчас состоянии.
В первый день прибытия сохранность написанной работы была мне абсолютно безразлична, словно я смогу по памяти переписать все заново. Набросок книги, что, как казалось, писал допоздна и без продыха больше двух лет… прошло три месяца. Теперь мое сердце прихватывает от одной мысли, что моя груда бумаги может вот так просто сгинуть в никуда. Еще больше прихватывает сердце от понимания, что все труды (мой первоисточник) хранятся в единственном экземпляре.
Мне хватило мозгов заплатить за дубликат рукописи в одной из типографий Филадельфии перед продлением академического отпуска и возвращением в Новый-Амстердам, но то всего лишь дубликат, в нем нет никаких накопленных историй. На оригинальных листах бумаги уже видна желтизна страниц, а некоторые листы так и вовсе потрепаны и изменились, но, насколько могу вспомнить, слова на них еще можно считать.
Обмозговав это волнение, оно тут же пропало, исчезло прежде, чем мне удалось разглядеть в боязни за сохранность рукописей нечто стоящее. Если не передо мной, то перед другими я вынужден оберегать свою же рукопись, и лучшее, что я мог сделать, — запереть ее в надежном месте и даже пальцем не касаться. Только я могу навредить своим творениям, и только мне удастся донести их с собой до конца — стоит надеяться, не до плачевного.
Но как бы хороша ни была моя книга, настоящая книга, не имеющая аналогов, — это словарь. К счастью, эту мудрость я понял довольно рано, но в дошкольном возрасте и не подумал, насколько эта книга может собой заменить все прочие. За годы прочтения сотен книг прозы я только пуще в этом убедился, впрочем, как основное читательское блюдо словарь не годится. Никто не поймет, увидев человека, сидящего на скамье в парке и читающего словарь. Вычитав когда-то все страницы, я убедился, как одного прочтения бывает достаточно. Годами позже даже корешок словаря не трепал в руках.
Предок Егеря сейчас возвеличивается в ранг классиков… Его еще помнили как жизнерадостного начинающего писателя и недоумевали, почему он так резко переменился. Впрочем, самого автора их мнения волновали меньше всего. Теперь на него ссылаются в разговорах и воспринимают как своего человека от либералов до самых закостенелых консерваторов. Каждый был в чем-то прав. Сложился стихийный культ личности, но лица своего он стыдился и всем запрещал под угрозой суда печатать свои портреты.
Издательства прислушались к его угрозам, и его лицо нигде не печатали. Быть может, и правильно поступал, пусть и глупо. Всячески прикрывал и скрывал свою поэтическую мордочку. Многие поклонники были в недоумении от такой стеснительности. Каждый представлял этакого «своего» писателя-затворника, как самому того хотелось, «по своему лекалу». Я же представлял любимого писателя и вовсе без головы: только руки, туловище в строгом костюме, ноги и больше ничего… больше ничего.
Благо я не совсем хлюпик, худощавый, но крепок телом, и те многие разы, как меня поджидала опасность получить серьезную рану или заражение… Я так ни разу и не покалечился. Ранки и порезы успевают зажить еще до того, как я успеваю их заметить и почувствовать. Словно бы я конь, которого подковывают: вбивают в копыта гвозди, стачивают их рашпилем, а мне хоть бы что, как ногти подстричь.
Ко всему прочему, вспоминая весь свой рабочий опыт, трудоголиком я себя не считаю. Если и есть на свете трудоголики, Брюс был из них. Из тех, кто пожертвует чем и кем угодно, принимая судьбоносные решения, несмотря на жертвенное убиение личной жизни ради карьерного благополучия. Семейная идиллия в этом случае почти что далекая мечта. Брюса почти невозможно было выцепить дома, кроме как спящим или измученным работой.
Если мне хотелось поговорить с Брюсом, единственным верным решением было заявиться к нему на работу; предлог обсуждения финансовых вопросов был одной из немногих возможностей обратиться к Брюсу напрямую. Обыденных рабочих переговоров Брюсу было достаточно, чтобы отнять все силы и отбить желание простых семейных бесед, продолжалось это круглогодично, даже без праздничных отгулов.
Мало есть вещей, которые меня пугают, «бросают в испуг» в полном смысле этой фразы. Но смотреть, как Брюс тает и растворяется в своей должности, как мыло в кипящей воде, было по-настоящему жутко. Но быть мэром и значит быть «незаменимым человеком». Задерживаться сверхурочно на работе — новая норма, а успеть к семейному ужину — уже большая удача. Да и его соправительница Джун никак не облегчала его работу, а только решала вопросы иного толка, и ей задерживаться за делами было непривычно: Джун не стирала со лба семь потов, всегда приходила домой раньше вечера и ни дня в жизни не переработала.
Что же до городских жителей, на глазах подданных города быстротечность проносится все быстрее. Впрочем, я безошибочно знал, что в Новом-Амстердаме под многими из фундаментов домов протекают скрытые реки, что стараниями людей запечатаны и спрятаны под землю; вот уже сотни лет они все так же держат свой путь, но уже вне поля зрения. Если поддать силы этим рекам, они могли бы принести много хлопот, но нет, они приручены и обезврежены. Впрочем, когда город затапливает и приходит пора ураганов, подземные реки словно оживают, и я слышу их так же точно, как и проезжающие грузовики по улицам.
Не припомню, сколько именно месяцев я провел на дороге, в то время как интеллигенты с их наивными представлениями о нерешаемых проблемах разрабатывали действенные проекты и изводили себя наивными мыслями и попытками вернуть всех бродяг в общество.
Перешить людей, словно они порванные мягкие игрушки, у которых вылез весь наполнитель, и от такой порванности в их прелестных головках живут всякие мерзости и жестокости. Стоит правильно протянуть руку помощи… но нет, с новым наполнителем очеловечивание почему-то не для всех подходит. Как по мне, сорванцам и босякам следует остаться зверями, отдавать себе отчет в действиях, но не носить костюмы и галстуки, а тихо обитать где-то вдали…
Профессора редко задают учащимся каверзные вопросы об их профориентации и о том, как они собираются устраиваться на работу. Повезло тем, кто в аудитории сталкивался с подобными расспросами, чтобы не блеять при приеме на работу: перед собеседованием легко заучить придуманную, но правдоподобно звучащую летопись своей жизни.
Найти грань между восхвалением и в меру правдивой критикой, которую уместно знать остальным. Сомнительно, как человеку, чья работа заключается в здравой оценке претендентов на работу, в один день выслушать множество людей, по словам которых их место вовсе не на собеседовании, а занятие места главы фирмы — всего лишь вопрос пары лет в компании, когда каждый сотрудник оценит их работу по достоинству.
Люди на большой дороге нашептывали мне, что в последнее время на бирже труда необычайно мало вакансий, и на удивление в эти последние месяцы претендентов было непривычно мало, будто все вдруг нашли себе рабочее место. Но это оказалось полуправдой: просто нашим восточным партнерам почудилось прекрасной идеей позаимствовать у американцев, так сказать, часть их свободного от труда генофонда.
Мне не узнать, что стало этому причиной, впрочем, как я не единожды мог наблюдать: стоящих работников, как и стоящих вакансий, много никогда не бывает. Но никто и не запрещает просто отбросить перспективы найти захудалую работу и просто пойти на ту, что более дрянная, да похуже, невесть зачем. Ох уж эти проблемы только выпустившихся студентов, которым кровь из носу нужно производить впечатление и месяцами строить из себя хороших работников: все то, чего я никогда не умел, а точнее, не хотел делать.
Все-таки за прошедшие годы все осталось неизменным: все та же текучка кадров, начальство отсеивает самых неспособных, остальные, кто удержался на плаву, выполняют свой рабочий долг со всей отдачей, пока на то позволяет здоровье и людская воля к жизни.
Если с широко раскрытыми глазами неспешно прогуливаться в глухое время по знакомому годами комплексу офисных зданий, с годами на штукатуренных стенах и лепнине малозаметные отметины времени становятся все заметнее: облупившаяся краска тут, там — истоптанные ногами тысяч людей бетонные плиты, куски каменной кладки уже ветшают и просят реставрации. Настоящее архитектурное изваяние, пускай что материалы ветшающие, вид старости даже скрасил, придал вида зданиям. То, что годы назад мог смело называть безвкусицей. Если бы здания оставили взаимную память обо мне в ответ, в Бруклине мне уже ничего не могло угрожать…
В различных школах (коих я немало сменил) мне тоже ничего не угрожало… В школах я сдруживался и вел общение только с теми детьми, кто мог подставить плечо, заслонить меня своей тушей. В разных школах кулаки одноклассников, возможных обидчиков и учеников из параллельных классов до меня не доходили. Я не пытался шантажом вымогать деньги, только обеспечить себе прикрытие и защиту. Мне ничего в реальности не угрожало, но всегда казалось, что любой готов напасть в любую секунду, стоит мне только дать слабину и расслабиться. Вспоминая, какими травоядными бывают ученики моего класса, по существу, пожалуй, только я и мог агрессировать на других детей.
В самом деле, я окружил себя лояльными людьми. Мария сделала тот же трюк. Мария обвешалась своими подчиненными, словно бусами. Стала им мамонькой, а как водится: детьми всегда легче помыкать, нежели состоявшимися людьми… скоро слишком пластилиноподобные дети станут тверже, как комки податливой глины. Необожженные, обжигаются и черствеют. Теперь обретут стержень и станут начальниками, начальниками своих ровесников, все по-прежнему мягких, как сливочный сыр. Школярские трудности ограничивают, оканчивают и придают окончательную форму вчерашним школьникам. Еще один безымянный ученик проживает свой обжиг.
Я прошел свой обжиг и много раз обжигался. Бездельничая, никто не станет лучше, не убережется; для тех, кто лежит пластом и бездельно смотрит в потолок, спасению просто неоткуда взяться. Неспасенным людям только и остается, что по возможности спасать себя своими силами (по большей мере от себя самих), обнимать себя чуть ли не до боли в мышцах, в меру защищаться кулаками от назойливых себе подобных. Подобная самооборона и самолюбивость может быть вещью действительно глупой, но что поделаешь? Пусть и глупая, да рабочая… рабочая даже в самых мелких и безнадежных городах…
Последнюю сотню лет малые города пустеют, специально под переселяющихся людей. Все близко посаженные города объединили, сплели из отдельных нитей агломерации. Многие безнадежные пустеющие городки полностью простились со своим населением; мэры «шевелились», все пытались вернуть перебежчиков домой, но все впустую. Большая часть выводов о регионах основывается на непрактичной статистике без реального применения. Местные жители — все равно что ходячие справочники этих мест. Если мне потребуются точные данные, придется стать навязчивым и подходить с расспросами, как любой затерявшийся турист.
Встает вопрос: стоит ли писать хоть строчку заметок о здешних местах? У меня нет никакой обязанности делать заметки о таких укромных местах; я в предвкушении возвращался в Новый-Амстердам с целью положить конец постоянным переездам и перестать пачкать бумагу своими каждодневными записями обо всем, что сочту интересным. Те из бродяг на дороге, кто засмотрелся на подобное зрелище впервые, могут испытать мгновенный и нисходящий восторг от увиденного; порой услышать их впечатлительное обывательское мнение бывает полезно. Чем больше возможностей сдвигается из рук жителей маленьких городков за океан, тем жарче их застольные споры. Раньше у них отнимали приличную работу и надежды на будущее, теперь почти не остается людей, верящих в чудо…
Провести столько часов в дороге — столько времени провел, а я так и не уверен, сумел ли я наследить своим присутствием там, где бывал все это время. Несомненно, есть люди, которым я запомнился, но по большей части я вел себя неприметно. Позабыв о природной замкнутости, мог собрать толстый список знакомств, но в реальности я насобирал не более двухсот тех, кто назвался по имени; дружбой я разжился еще меньше. Не стоит расставаться с излишней свободой даже за комфорт и безопасность, хотя свобода ровным счетом не приносит ничего стоящего. Подобные осознания без доли самообмана нагоняют. Вольная жизнь при умелом пользовании становится сродни жизненной необходимости.
Конечно, мое положение сейчас в сотни раз лучше того, что могло поджидать, останься бы я с биологической потерянной семьей. Казалось, они и пропали по моей воле и желанию, чтобы не осталось никаких шансов возвратить своего подкидыша, в итоге это свершилось. Я стал слишком старым, чтобы меня можно было так просто без спроса пристроить к другой семье, кроме как через брак по расчету. Несравненная удача преследует меня всю жизнь, и мне остается только ей наслаждаться…
Авантюристам приходится гибнуть где попало и по любой причине, разве тогда не лучше умереть за что-нибудь прекрасное? Так руководствовались миллионы умерших каким угодно образом, кроме старости. Сейчас люди загибаются и умирают несоразмерно больше, чем сто лет назад, но абсолютное большинство — в постелях… Но есть люди, которым только радостно встревать в неприятности и подстраивать их… Удивительно, как голландским путешественникам удалось воздвигнуть город, где каждый житель грезит попасть в неприятности. Пострадавшие от нападения только возрадуются попасть в беду. Лишь бы страховщики выдали страховые выплаты. Но если страховщикам это терпимо, то терпимо и мне. Новый-Амстердам — город обманчивый, с обманчивыми людьми в нем.
Самолюбие и внутренний самообман в холодную пору согревают лучше всего, лучше любой печи и камина. Пускай в бостонском жилье гуляют холода, но в Бруклине и Новом-Амстердаме всегда найдутся способы, как прожить даже мизерным достатком. Новый-Амстердам как близкий приятель подкинет денег «на опохмелиться».
Кто был моложе сорока, презирают застойную стабильность и бежали, как я бежал. Был бы повод и возможность… Не все мои знакомые пошли моим «бродячим» путем, далеко не все… С шестнадцати лет мне ни разу не довелось встретить старых одноклассников, все готовятся к экзаменам либо готовятся не готовиться, чтоб успешно провалить экзамены. Проверить догадку у меня нет никакой возможности. Возможно, все, кого я встречал хоть раз, уже устроились в жизни, нашли работу мечты и забыли про все проблемы мира, а я в сравнении с ними — самый неудачливый, никто не захотел бы оказаться на моем месте. В это так легко поверить, что эта всасывающая-червоточащая пустота даже пугает меня.
Я вспоминаю все сводки из газет, где постоянно в рубрике несчастных случаев и некрологах видел знакомые инициалы. Бедные… были так молоды, а уже нет в живых. Теперь я все еще хожу по земле уже вместо них, но одним днем и я составлю компанию всем умершим и давно пролежавшим в земле. Что до женатиков, они по полной обросли семейными хлопотами… Ах, сколько людей не сдерживают себя от венчания, подписанты брачного договора приходят с завидной регулярностью. Брачные юристы только и успевают, что стряхивать пот с лица. Как по мне, тяжбы и ссоры молодых пар всегда веселое зрелище: они тратят все, от нервов до времени. Весь бенефит получают смотрящие на их перепалки со стороны.
Родители в брачных делах главные смотрители и надзиратели, слишком много средств тратится на свадьбу, убытки скрашивает только приданое и гора свадебных подарков. При большой удаче даже жилье сполна окупается. Прочими атрибутами удачного брака можно назвать уживчивое сожительство во благо семьи, родителям осталось только вдоволь проследить, чтобы различные скрытые инвестиции воплотились во внуков. По существу, это то же, что и покупать карапузов, только вполне легально, да еще и похвалят. Если посмотреть на программы по поддержке семей, что родили умилительных карапузов. У каждого мэра крупных мегаполисов ручка в руке по-настоящему превращается в животворящий артефакт. Ручкой подписывается распоряжение о пособиях для еще неплатежеспособных детей. Пособия призваны подсобить тем подросткам, которым не повезло в свои юные года иметь своих детей.
Окружающие не спешат окучивать опекой, лишь по соображениям совести новоявленные бабушка с дедушкой помогают погорельцам. Брюс трезвой рукой подписал немало таких денежных указов, каждый из которых дал миру пары тысяч пухлых карапузов и сотен матерей-одиночек. Не все женатые мужчины бросают жен и не все милы как на подбор… Манчини уж никогда не будет из тех мужей, к которому жена может довериться. У усредненных семейных пар в почете только слепая верность и надежда, что партнер не из тех, кто находит «отношения на стороне». К слепой вере так легко пристраститься и едва можно от нее избавиться без остатков.
Со страшным удовольствием наблюдаю, как верность не пропадает даже после постоянных измен своей зазнобы-жены, но тому, кто верит, вовсе не нужна ответная реакция, он готов восхищаться любой, кто только позволяет себя любить. В один момент их женам такое положение дел надоедает. Мужу остается только воротиться к житию совершенного холостяка, пока не найдет новый объект обожания, и это прекрасно, иначе не бывает. Хорошая маскировка не позволяет точно посчитать таких мужей, остается даже неясным, много ли таких в природе, но по моим наблюдениям, тысячи и тысячи тысяч.
Порой мое желание стать седым старцем-отшельником настолько искренне, насколько и надуманное. Уже в младших классах я грезил о кресле-качалке с котами, но подростковая аскеза показала, что старческие хвори не для меня, самокритика не делает чести. В нас самих есть силы все изменить, стоит только податься на все четыре стороны; сперва вся жизнь становится сложнее, затем мозг свыкается. Во всех городах приходится ходить чужаком, но от этого становится только лучше. Хвала дешевым билетам и недорогим ночлежкам, в которых не зажиточные постояльцы занимают и разбирают дешевые номера.
Как далеко могут зайти мои дела? Смею предположить, дальше мой паровоз еще сильнее раскочегарится и поедет на всех парах дальше. Нет предела совершенству и человеческой жажде. Есть те люди, кто утоляют свою жажду знаниями… В моем случае настоящая учеба (к моему везению) началась только после школы. В себе я сочетал и сочетаю ученика и учителя, причем учителя-самодура без всякого учебного плана. Слишком много я насмотрелся на учителей элитных школ. Каждый из учителей считал важным нести отсебятину. Сравнивать свое знание предмета с другими учителями: насколько они более компетентны, обучались в таких же закрытых элитных школах, как мы, и поэтому заслуживают должного уважения к себе.
Мое неприятие учебных заведений как ненужности оправдало себя. Досрочное завершение образования стало моим подростковым триумфом: пускай я проучился всего ничего, суммарно четыре неполных года с небольшим. Этих четырех лет хватило испить жизни сполна. Я никогда не был прилежным учеником, но и плохим учеником я бы себя никогда не обозвал… К счастью, мне никогда по-настоящему не быть учителем. Просто наступит тот день, когда мой разжиревший от знаний мозг перестанет быть губчатой тряпкой для информации, но еще и начнет выдавать все накопленное наружу.
Ничего подобного со мной не повторялось. У меня не найдется объяснений часовому озарению и доказательств просветления, не удастся и передать личные ощущения человеку, не испытывающему в жизни ничего подобного. Потом, когда все разрешилось благополучно, никто не поинтересовался, где я был и что это было. Такое волевое решение случилось совершенно внезапно. Слишком неожиданно мне позвонил Манчини. Манчини передал новость, и неприметное утро стало «весомым». Я узнал о смерти Брюса дома, в одиночестве, без свидетелей. Ровным счетом это ничего не меняло, не тасовало мои карты. Новый-Амстердам — словно слоеный цукатный торт: я стартовал пеший ход с нижнего слоя, пропитанного машинным маслом и конденсатом выхлопов, а затем взобрался повыше к Бруклину.
ГЛАВА 21. РОБИН
С опозданием, но ко мне пришло понимание, чем они занимаются и чем целыми днями заняты их мысли; но чем меньше я задумываюсь о нюансах, как эти красавицы проводят досуг, тем больше они вызывают мое доверие. Умом они не блещут, а посему не представляют для меня реальной угрозы; пускай на радость себе и всем остальным вдохновляют воздыхателей своим видом и красотой, будучи живыми мраморными статуями, и не стыдятся этого.
На ум все больше приходят мысли о Джун… Думая о Джун, я понимаю, насколько сильно многие люди по доброй памяти видят в ней ту самую Джун — всего лишь образ человека, которого на самом деле давно нет. Больше полувека прошло, как она растеряла все человеческое; сейчас остался только облик женщины в летах, доживающей последние дни, со своим здоровьем, что все никак не поддается тяжбам времени.
Меня не устраивает подобный неравный бой со старостью и временем, я на него не соглашался: битва хороша, только если ее итог победы не предопределен заранее. Сейчас я уже готов поверить, что Джун не составит труда пережить всех своих ровесников, а быть может, сумеет пережить даже меня. Живот начинает урчать… мне лучше спуститься в кафетерий, пока я так удачно оказался поблизости…
Все посетители кафетерия, помимо меня, выглядят спросонья вялыми, зевающими и безжизненными; даже кладут еду на подносы несколько заторможенно, словно никакой сон их уже не бодрит по утрам.
По мне, так сны — бодрящая и весомая часть жизни любого человека. Даже диким зверям приходится искать место, где лучше всего вздремнуть, но зло никогда не спит, проделывает свои дела в любое время суток. В то время как добряки и стражи правопорядка дрыхнут в своих постелях.
Мне знакомо немало людей, которые не спят по нескольку дней и не чувствуют этого. Когда им удается заснуть, просыпаются на следующее утро без всяких жалоб. По личным наблюдениям: все порядочные люди не высыпаются, сколько бы ни спали (пускай толком ничем себя не утруждали).
Наливаю себе щедрую порцию карибского бодрящего напитка и тут же чувствую позывы удалиться в уборную как можно скорее. Облегчаюсь, выхожу из туалета уже готовый ко всему, возвращаюсь к пустому подносу (который мог и не брать), отношу его куда-то в сторону к остальным пустым подносам.
Все остальные едоки столпились возле места, где можно набирать сладости, насколько совесть позволяет, а повара все приносят новую и новую выпечку, которую даже испекли сами. Но я уже поел, хотя, точнее сказать, нахлебался, и съел горсть печенья (прикуски мне вполне достаточно).
Подкрепившись, я поднимаюсь обратно к себе, присаживаюсь на постель и не припомню, что за дела мне уготованы на сегодня, если они вообще были. Минут пять просидел, ожидая чего-то, пока совсем рядом не зазвонил телефон; я тут же поднес трубку к уху — это оказалась Мария.
Вначале я услышал извинения Марии, слова о том, насколько она сожалеет, что окончательно решила ограничиться сугубо женской компанией на дне рождения. В свою очередь, я одобрил это решение, но так и высказал, что мне самому неохота приходить на ее праздник. Я даже не успел попрощаться, как звонок прервался. Будто Мария в спешке положила трубку. Пару секунд я держал телефонную трубку у виска и обдумывал, что мое приглашение на праздник, можно сказать, аннулировали. Положил трубку и вернулся к обыденным делам.
И получаса не прошло, как снова послышался звон телефона. Я по-новому поднял трубку, поднес к уху и вновь услышал звонкий голос Марии, только звучал он совсем не как при первом звонке. Ее голос сделался тише и рассудительнее, словно она тщательно подбирает слова, боясь оговориться и сказать лишнее.
Весь короткий разговор был о том, что несколько ее подружек предупредили, что не придут, а значит, для меня освободилось место, и теперь я снова приглашен. Я не выражал особой радости, но принял такой поворот событий; скорее, я даже ожидал подобный поворот.
Неожиданно для себя я обрел место проведения досуга на неполный день. День рождения Марии, где мужчины допускаются, но не приветствуются, — намечен на завтра. Большая часть моей одежды, в частности одежда для «выхода в люди», как любил это называть Брюс, осталась в чемоданах, которые я сдал в хранилище. Мне не сообщили, какую одежду следует надеть или в каком виде ожидают видеть, — обычное явление для закрытых праздников только для своих.
Если от меня не требуют определенно выглядеть, то я могу себе позволить нарядиться, как считаю нужным. Конечно, в моих мыслях нет цели удивить или выделиться среди остальных гостей, напротив, именно на этом празднике я хотел выглядеть ничем не примечательным, а лучше и вовсе серым пятном среди ярких красок. Не следует по привычке ставить дам в неловкое положение своим присутствием. Если кто из подружек именинницы и оскорбится от меня, то лишь из-за случайности и ненамеренно.
С пеленок я сотни, если не тысячи раз справлял дни рождения незнакомцев, и этот раз не станет венцом или заключительным аккордом дней рождения, мне не привыкать. Не было никакого желания любоваться своим лицом перед зеркалом или даже просто смотреть на свое отражение, сколь хорошо я бы ни выглядел. Недели проходили, а я так и не знал, как выгляжу, и был этому рад.
Порой замечал свое отражение в лужах, металле или витринах магазинов, глаза тут же закрывались сами собой. Сегодня же я впервые по-настоящему взял в руки складное зеркало, чтобы разглядеть редкие волоски на подбородке; успел увидеть только взъерошенную бороду, захлопнул зеркало и отложил его, так и не посмотрев на лицо. Я не привык прихорашиваться и доводить внешность до блеска; этот раз не станет исключением.
Люди, достойные и неуважения, и презрения, нередко используют собственную неопрятность как своеобразную броню и «обивку», отталкивающую нежелательных собеседников. Годами не лечат угри и моются дай силы раз в неделю — примерно так же, как пасечники облачаются в защитные костюмы вовсе не из-за ненависти к пчелам. Следует всего слегка привести себя в порядок. Смотрюсь в карманное зеркало и не вижу ничего, что хотел бы привести в порядок, словно я всегда готов пойти на праздник в любую минуту — разве что причесать растрепанные волосы, и можно выходить.
Мне неохота изображать из себя павлина, наносить на одежду ленты или на тело украшательства как опознавательные знаки. Обывателям будет невдомек, что означают рисунки и узоры; непосвященные попросту не поймут значения знаков. Но знающий язык символов найдет побратима по интересам. Каждый, кто отличается, выделяет что-то на себе.
Один лишь я монохромный, без фенечек, бус, ожерелий или подведенных карандашом глаз. Да мне неохота и нечего подчеркивать, нет уродства, которое стоит маскировать или замазывать тональником, и этого не оспорить. Я рад себе, своему виду, как не рада себя видеть в зеркале самая красивая из женщин, а косметикой я только испорчу свою красоту.
Из-за моей утомленности или моего нежелания видеть за день еще одно унылое лицо, на этот раз сестринское. Через минуты я уже совсем забыл, что она сидит со мной по соседству, смотрю прямо на подлокотник водительского кресла и не отрываю взгляд.
Мне хотелось закрыть веки да посильнее, чему я не сопротивлялся, и тут же уснул. Проспал с десяток минут, пока не пришел в себя, когда машина остановилась. Даяна постукивала ладонью мне по плечу, я вышел за ней следом, как сиамский близнец, через ту же дверцу, а захлопнув дверцу, мы с пару секунд неподвижно стояли на месте, словно обдумывали, что делать дальше.
В этом кружевном белом платье Даяна и вовсе выглядит как невинная малолетка; мне кажется, это платье я уже видел не раз надетым на женщинах в момент, когда следует показать все свое умиление, а что может умилять в людях больше, чем молодость?
Глядя на худобу Даяны, мне не приходит и малой мысли о ее лишнем весе и полноте. Впрочем, в момент восседания Даяны на моих плечах ее туша довлеет надо мной, словно лакированный рояль. И хоть мне вовсе не жалко разделить шею с близкими… Все было хорошо, бояться нечего… только вот пекусь, чтобы Даяна в самом деле не переломала мне позвонки, не надавила своим весом куда не следует. Мои хрупкие плечи подсказывали, что это шоу не могло продолжаться долго.
Мне и не вспомнить, когда в последний раз я нес на спине столь ценный груз. Подзабылось, каково это — нести хрупкости. Соглашение сторон подсказывало: представление не продлится дольше пары минут… Даяна в своей манере сообщила мне, что мы с ней должны подыграть желаниям Марии…
Марии позарез надобно увидеть, как Даяна сидит на моей шее, а усадившись, Даяне стоит бросаться лепестками, сбрасывать их повыше прямо на головы. Все, что мне понадобится, это пара рук, пара ног и корзина с лепестками тюльпанов, которые мне велено повсюду разбрасывать свободной рукой. Даяне на моей шее остается только не свалиться с меня.
Через пару минут дверь кладовой, разделяющая меня и прихожан праздника, откроется. Похоже, Мария действительно желала увидеть, как Даяна горстями рассыпает лепестки роз. Что ж, пусть будет так… Я сделал все, что от меня требовалось… Даяна неуклюже вскочила мне на плечи, устроилась поудобнее на шее, свесив ноги. Так и сидела у меня на шее, пока разбрасывала из корзины лепестки роз. Все это сопровождалось удивленными вздохами и улюлюканьем подружек Марии. Даяна спустилась с меня на пол. Ощущаю немалое облегчение: Даяна весила словно ящик консервов.
По рассказам, половина приглашенных подруг осталась разочарована: мало гостей, мало ярких моментов, не то что раньше. Пожалуй, все правы, и правы в равной степени. Я не участвовал в прошлых праздниках и вряд ли буду приглашен в следующий раз. Странно. Но, сидя здесь на дне рождения, я в шутку вспоминаю весь абсурд моего приглашения. Почему Генри или Манчини не был приглашен вместо меня? Может, Мария хотела послать конверт с приглашением на день рождения, написала, но так и не отослала, так и оставила письмо храниться на одной из полок среди других неотправленных писем?
Мария прогадала: мной просто разнообразили чисто женскую компанию, как повар всыпал щепотку соли в тесто для пирога. Манчини, в свою очередь, рожден бывать на подобных девичниках. Есть еще один прекрасный претендент быть приглашенным на любой день рождения… Ирвин… Ирвин сумел стать мэром Нового-Лондона… как по инструкции, начало у Ирвина прошло без происшествий. Еще такой молодой и обаятельный, а уже самая ценная пешка на шахматной доске: эталонный человек Возрождения.
В нашу эпоху, когда каждый бухгалтер может приглянуться начальству, полюбился как достойный кандидат на пост мэра и, в общем-то, стал таковым. Избранного бухгалтера (коим и был Ирвин) Ирвину не грозит застопорить на месте, в вечном застое, или, чего хуже, опустить в иерархии. Ирвина продвигают по службе, и вот теперь он подсчитывает те же цифры, но уже за высоким столом из красного дерева и с большим количеством нулей.
Я вспомнил, что меня с Ирвином роднило посещение одного университета; по слухам, ему приглянулся факультет английской филологии. Я знал, где его искать, но мне так никогда не довелось увидеть Ирвина за партой. Слишком уж быстро Ирвина отчислили за «прогулы и злостную непосещаемость». Тогда он был совсем никем, не в меру больше «никем» и «ничем», чем даже я. Ирвин, как и я, — «притворно-ненадежный студент», студент, с головой ушедший в литературу и пристрастившийся к ней. Уже после отчисления Ирвин стал как заводной писать все новые черновые варианты будущих продаваемых повсюду романов. При таких условиях на прочтение учебников никаких сил уже не оставалось. Теперь книжные развалы завалены его работами, и все под разными псевдонимами.
Похоже, моя Alma mater как магнит притягивает к себе отборнейшие, лучшие умы, но совершенно не способна их удержать: студенты просто приходят, учатся от силы пару семестров и уходят перед экзаменами; кто навсегда забирают документы, а кто понаглее выбирают бессрочный академический отпуск, как это сделал я. Ирвин был таким милым и безамбициозным студентом, и вот вдруг неожиданно возомнил себя лучшим мэром; это чрезвычайно идет вразрез с понятиями, об амбициях такого уровня стоит предупреждать заранее.
Разговоры о важном продолжались… Все же этот день от начала до конца похож на мой день рождения, и праздник подобный празднику Марии. Будь тут слуги и официанты, они могли бы без особых догадок подумать, что все эти леди собрались по моей вине. Возможно, мне даже льстит это; из всех приглашенных я не назову по имени и половины…
На праздничном столе подают одни сладости, словно Мария намеренно убрала из меню все мясное и «обычное». Помню сходки веганов, на чьих столах тоже вряд ли найдется мясо. Их писклявые голоса как «маркер» всех идейных активистов: сыроедов, людей, готовящих мясозаменяющие продукты, дарителей цветочных венков, вызволителей зверей из вольеров зоопарков… Вся их эксцентричность не шибко помогает воспринимать их борьбу с агропромышленностью и прочую деятельность всерьез; у них хватает своих противников. Тех, кто любители обжарить ломтики бекона на гриле, а овощи обходят стороной.
Сам я далеко не веган и глубоко убежден, что сажать дубы и сосны — не есть спасительная соломинка для природы. Безусловно, смышленые «дети леса» насобирают еще не одну папку, а целые стопки доказательств, которые несомненно убедят всех в правоте, тогда-то они возьмутся за дело, за весь мир. Вся планета позеленеет. Только я в это не верю, и, как ни печально сознавать, они тоже. Их послужной список невелик, но они непременно могут еще пригодиться, а не просто ходить по домам сочувствующих их идеям людей с протянутой рукой и новой порцией обещаний.
Находясь в ущемленном положении, многие природозащитники не допускают мысли забыть о вырубленных под пашню и пастбища сосновых, кленовых, каштановых рощах; могу представить, как для «травоядных» тревожно видеть корчевание зарослей под пастбища. Что своими грустными взглядами они не смогут ничего переменить, а все негодование — не более чем самобичевание.
Я не стану это останавливать, раз уж им так хочется. На их месте у меня пошла бы пена изо рта от такого постоянного потока бессилия и несправедливости. Правозащитникам попросту нечем себя занять, оттого они отчаянно скучали, подпирали подбородки кулаками у всех на виду. Теперь же они бастуют против выхлопов автомобилей и заводов по сжижению угля, что питают их канистры и вечно требующие заливки бензобаки машин.
Протестные природолюбы — как представители проблем вечных пешеходов. Пешеходам привычно недолюбливать водителей и смеяться над их проблемами: плевать на парковки, дороги, развязки, заправки. Кому это интересно, когда у самого не имеется автомобиля? Многие, даже большинство проблем водящих вовсе не касаются неводящих людей. Печально, но факт.
Благодаря прелестям «доступного междугороднего транспорта» руль мне доводилось держать в руках только в незаведенной машине. Прокручивал руль, еще сидя на коленях Брюса, когда мне и больше десяти лет не было. Уже тогда я не был в восторге от перспективы развозить себя или пассажиров по пунктам назначения. Управлять личным транспортом — вещь мерзопакостная и опасная…
Вспоминая этих природолюбцев, мне вспоминается, как Джун то и дело во весь голос говорила со своей собакой и так продолжила с ней вести беседы, словно спрашивая у псины жизненного совета. Ей подобные в целом предпочтут говорить только со зверями. Хуже, когда они еще и понимают их ответы: так круг общения замыкается, а такса превращается в довольно знающего собеседника на все времена.
Может, Джун и любит гладить мордочки собакам и слушать щебетание птиц, но я знаю, как ее превосходительство Джун обращается с замученной прислугой: всегда любила думать, что ее персонал только и делает, что ворует или разбивает дорогие вещи, если за ними не приглядывать.
Тут нужен глаз да глаз или надежный глазастый охранник. Почти все горничные с дворецкими просто не выдерживают такого обращения от Дяди или Джун (в этом их необычайная схожесть); как приходится инструктировать новых лакеев, они все никак не могут разуметь, что от них требуется, и так по новой. Честное слово, легче собаку научить прыгать сальто, чем двадцатилетним лбам донести, что ты должен всецело привязаться к работе, словно Джун и есть вся твоя жизнь и твоя вечно зловредная мамочка.
Меня уже тянет на зевоту. Прикрываю рот рукой, словно при чихании, но никакого зевка не выходит. Я кое-как бодрюсь, подбадриваю себя и понимаю, что не каждый день приходится пересекаться с дамой, у которой (как выяснилось из разговора) не счесть планов на будущее. Мария в ее будущем нашла место и применение каждому из списка друзей. И вот Мария перестает мурчать о себе и неожиданно спрашивает мое мнение насчет дня рождения: нравится ли мне тут находиться и все такое…
Я не теряюсь, даже бормочу мнение, говорю о том, что «мне выпала великая честь быть единственным парнем в настолько женской компании», над чем она посмеивается и на пустом месте заходится смехом. Похоже, она и правда видит во мне забавную и безопасную вариацию бродяги, который даже не просит денег на еду, не воняет и которому можно истолковать, как тяжко живется на свете юным барышням. От ее смешков я не оскорбляюсь, ко всему прочему, мне непривычно праздновать девичьи дни рождения, но разве такие разговоры заводят на именинах?
Звук моря, словно боевой рог, трубит мне в ушные раковины свою триумфальную морскую мелодию, напоминая мне, откуда я родом… Тихоокеанцы не прощают, полинезийцы не прощают вдвойне, а я и то и другое… Если Америка — мировой кормчий, то Новый-Амстердам — прозорливый штурман… но штурман подвыпивший, с повязкой на глазу и слабо понимающий, куда выруливать и куда дует ветер.
Казалось бы, мне, как любителю взаимовыгодных отношений и свободного обмена, должно быть очевидно, насколько средства производства подарили людям не столько отдаленность от всего дикого, сколько обоюдные возможности и сплочение вокруг торговых путей и вельмож, ими владеющих. После того как эта проклятая конференция кончилась, дни принесли гораздо больше словесного хлама и тревоги, чем радостных вестей.
Новый-Амстердам как город пережил за историю все мыслимые и немыслимые катастрофы, чего нельзя сказать о населяющих его жителях. Хрупкие новоамстердамцы висят на соломинке и падают при малейшем дуновении ветра. Подрастает новое поколение упитанных карапузов, бьюсь об заклад, они станут еще слабее и хуже своих и без того слабых отцов, которых уже сейчас ни во что не ставят.
Я ловлю себя на мысли, насколько правдоподобен эдакий сценарий грядущего вырождения в будущем. Пока что я не стану голословить и говорить за всех. Даже самые покрасневшие и глубокие ушибы лечатся. К тому же преждевременно говорить за всех и каждого, стоит просто дожидаться. Пока те, кого сейчас укачивают в колясках, вырастут и впишут себя и свои имена в анналы истории (так же, как сделали в свое время их отцы и отцы их отцов).
Как же я счастлив думать о всей этой чепухе, о незначимых малостях, из которых складывается жизнь именно сейчас… пока все девчонки гогочут и ведут себя как настоящие принцессы. Принцессы, которым злая мачеха все же разрешила праздновать день рождения подруги.
Как же мне хорошо от мысли, что этот день рождения Марии обходится без завихрений блесток. Как-то раз один чудаковатый владелец модного клуба (который по глупости считал меня своим приятелем) счел, что блистать — это хорошая идея. Все блистало вовсе не в переносном смысле.
Буквально заставлял весь персонал обливаться серебряной краской, разбрасывать блестки и вообще все, что может сверкать, использовать блестки в таких объемах, какие только можно себе представить. Его заведение стало известно именно из-за блесток, а не музыкальной аппаратурой и декором помещений. Пока поток блесток продолжает сыпаться на головы, уже нет мыслей ни о чем, кроме блесток. Меня пропускали на склады, где хранились все эти ящики с блестками…
Видя своими глазами немереные запасы картонных ящиков, запасов, чем швыряться в толпу, владелец закупился так, чтобы запасов хватало на дни напролет. Я тоже испытал на себе, каково это, когда прилипающий ко всему глиттер мешает двигаться и даже моргать. Не в моем вкусе утопать в прожекторах, танцевать до восхода солнца и покидать вечеринки последним. К счастью, мне не придется каждый день присутствовать на подобных сходках любителей шума и яркости.
Засевший в голове едкий запах женских духов не дает мне покоя: кто-то явно перебрал с духами, все провоняло запахом лаванды; повсюду слишком много дам, чтобы определить, от кого исходит запах. Вокруг одни субтильные парни моего возраста или старше.
По виду — со свежеподстриженными волосами и видом, словно сейчас готовятся дефилировать по подиуму. Сдается мне, что от каждого из них исходят ароматы цветочной клумбы, один я не испускаю запахов, а только впитываю их. Вспоминая, что сейчас нахожусь в эпицентре квартала самой модной молодежи, я нисколько не удивляюсь подобным благоуханиям…
Сидя на этом празднике, мне все явственнее становится понятно: зачем и к чему мне уезжать из Нового-Амстердама? Впереди намечается праздник куда больший по масштабам — 4 июля, главный день любого новоамстердамца и по совместительству день города…
К чему торопить отбытие, если праздничные дни города не начнутся до начала июля? Это означает лишь, что мое время пребывания в этом городе придется растянуть. Похоже, мне подвернулся подходящий повод задержать пребывание в городе, повод, который я не планировал получить.
В моменты долгожданного праздничного безделья, как сейчас, лучший выход из легкой тоски — присмотреться к окружению. И вокруг я могу хорошо разглядеть только симметричное лицо Даяны, лишенное явных недостатков. Все ее недостатки скопились на тех уголках тела, что скрыты под одеждой. Среди прочих приглашенных Даяна выглядела далеко не хуже всех; практически все время, что я ее видел, Даяна носит одежду, закрывающую большую часть тела, даже шею можно разглядеть с трудом через расстегнутый воротник рубашки. Насколько мне помнится, с малых лет я заметил у Даяны коричневое родимое пятно чуть выше колена; я уже начал забывать, на которой из ног пятно находится. Сейчас пятна не рассмотреть, спрятано за брюками так, как говорится, от посторонних глаз.
Теперь компанию ей составляет Мария, подружка, которая с ног до головы покрыта темными родинками; конечно, подобное тянется к подобному, похоже, это распространяется и на такие мелочи, как пигментные пятна. Раз уж я стал обращать внимание на такие значимые мелочи, как внешность, с полминуты окидываю взглядом и оцениваю прочих гостей помимо себя, и становится абсолютно ясно, что среди приглашенных дам нет ни одной, кого прохожий мужчина с улицы не назвал бы красивой или, на худой конец, миловидной. Я было стал оценивать самых красивых из них, но меня никто не привлекает. Попутно отгоняю от себя мысль, что сам могу кого-то привлекать из присутствующих; пожалуй, это даже можно счесть справедливым.
На дне рождения моя роль так и осталась чисто декоративной; никто даже не попытался нарушить мой шаткий покой, только окружающий меня шум напоминал, к чему мы все здесь собрались. Удачная находка милой безделушки, по-видимому, порадовала именинницу: когда подарки сами валятся под ноги, легко повременить с выбором. В отличие от моего браслета, все остальные подарки были завернуты в непрозрачную подарочную упаковку, и за ними не угадывалось содержимое. Многие из них были размером с половину моего роста. На их фоне мой подарок казался совсем невесомым.
Мне никогда не узнать, считают ли все эти люди меня достойным быть с ними рядом и не боязно ли гостям находиться в моей компании. Мне не дать себе здравой оценки того, насколько я могу быть безопасен для окружающих. Красивая шкура тигра и заглядные узоры на ней вовсе не означают, что дикий зверь не может напасть.
Временами (частыми временами) меня посещают мысли о том, насколько далеко я могу зайти, если дело дойдет до самообороны? Мне не верится, что обороняющийся человек будет аккуратен к обидчикам: у любой жертвы древние чувства «бей или беги» полностью контролируют тело. Кто-то всегда должен зайти слишком далеко, за грань всякой человечности и всего человеческого. Делать любые поступки только себе на радость, словно мир и создан только ради меня. Так почему этим зашедшим далеко человеком не стать именно мне?…
Да, во мне сидит многоголовый ядоносный зверь; вопреки ядовитости зверь весьма травоядный, ручной, но вовсе не пугливый. От меня не требуется доказывать безобидность: достаточно не вытворять глупостей и не реагировать как горный валун. За жизнь меня ни разу не называли «безобидным» вслух, только я сам так думаю. Люди не хотят просчитаться: вдруг в понедельник скажут, что я вовсе не бродячий пес, а пудель, а в четверг обвинят в ограблении банка. Но я сейчас сижу на мягком диване, полный мыслей о грабеже банков и самообороне, а на лице та же легкая улыбка… порой какие только глупые, но занятные мысли не приходят в голову…
Музыка стихает, и вечеринка близится к концу. Сидя на диване, время все стремительнее теряет всякий вес; смотрю по углам помещения. В мыслях я как ненадежный секундомер подсчитываю минуты, что сливаются в часы. Я пробыл здесь без малого четыре часа, приличное время для дня рождения, а передо мной на тарелке по-прежнему лежит нетронутый торт. Отстранившись в мыслях, я совсем забыл про еду. Съев весь кусок за минуту, я откидываюсь на спинку дивана и почти ложусь, завалившись набок. Так я и лежал с минуту времени, пока не почуял, что именно сейчас мне и пора уходить…
Вскакивая с дивана, я стряхиваю крошки и направляюсь к выходу. Чувствую чей-то взгляд. Даяны? Осмотревшись, не вижу ни Даяны, ни ее взгляда: с ней или без нее, но мне пора возвращаться домой. Оказавшись у входа, мы окончательно охладели друг к другу. Стоим молча на расстоянии вытянутой руки. Вижу пары у таксофона, шоферов у машин. Я с нетерпением жду машину, которую вызвала Даяна, но молчу: пусть она первая нарушит тишину.
Мне с трудом удалось втиснуться с правого края дивана и принять удобное положение тела. Мне нечего было возразить на этот счет. Скрипучая дверь открылась, из нее показалась Даяна в сопровождении пары женщин. Они о чем-то шушукались да перешептывались. Прошмыгнули дальше в зал, пройдя мимо меня, но со мной не заговорили. Теперь, когда Даяна пришла, из всей компании незнакомок появился хотя бы один человек, которого я знаю. Похоже, именно на этом диване я и проведу весь день рождения (и то с большой натяжкой).
Знаю я людей, которым страшно начинать общение первыми и кто по-настоящему не понимает, кто этот незнакомец, что подходит знакомиться, и какие намерения он несет в себе. В свою очередь, я научился безошибочно определять подобных мне людей, стоит только быть повнимательнее. Нечто вроде профдеформации, когда люди одного дела чувствуют своих.
Мой внутренний локатор определяет похожих по моей природе людей, подобных мне искателей дороги. Ненадолго вернувшихся подышать привычными испарениями Нового-Амстердама и Бруклина. Такие люди сразу чувствуются, а в ответ они взаимно чувствуют меня изнутри; я вижу эти доли секунд страха в их глазах от боязни видеть единокровца по разуму. Кивок головой или неловкая улыбка снимает всю их тревогу.
Вспомнив о подобной особенности организма, я возвращаюсь домой и не нахожу ответа, к кому я принадлежу: к скрываемым от других, слишком похожим на меня, или скрытым для тех, кому я кажусь ужасным? Лучше не стану изменять своим убеждениям и продолжу думать: я не принадлежу ни к одной группе, да и не могу принадлежать; во мне есть та невидимая сила, что ни разу не принесла мне горя, и я не намерен от нее избавляться.
Даже в искренней похвале есть свои минусы: вскоре не замечать фальши в словах одобрения становится все сложнее, и вместо обещанного облегчения наступает только нежеланное принятие. За принятием скрывается большой ступор. Всеобщим любимцам довольно сложно обуздать поток всеобщей любви и обожания, а не захлебнуться в ее водах.
Мне с этим не пришлось столкнуться, как тому же Брюсу, да и не придется, разве что перед смертью все близкие бывают особо учтивы и развязны. Пожалуй, медленно умирающие и отходящие из жизни хлыщи прекрасно понимают, что все слова в их адрес, сказанные после восьмидесяти лет, — ничто иное, как успокоение и лесть…
День рождения нагрянул как падающая с неба благодать. Словно сам город все продолжает подбрасывать мне новые поводы вставать с дивана. На часах полдень, значит, все, кто спросонья запаздывал, уже давно разбежались по своим делам, уже вдавили педаль газа в пол и носятся по улицам. Если я останусь лежать и отдыхать, то неким непонятным даже мне образом приму на себя их усталость; по крайней мере, мне приятно думать, что именно этим я сейчас и занят. В своем безделье проглядывается некий смысл: мое бездельное лежание может продолжаться достаточно долго; когда в дверь начнут заходить дамы, меня дома уже не найдут.
Быть может, Мария и не заслужила той дурной репутации, что обрела не по своей воле. Мои наблюдения подсказывают: лучшее, что я сейчас могу сделать, — это не вмешиваться. Ей не нужны мои советы, они только нарушат ход ее мыслей, чего мне вовсе не хотелось. Подытожив мнения, я так и не понял, кому стоит отправляться, а кому нет. Те, к кому обращался голос с трибуны, подхватили мысль; мне же не дано, или еще не тот час и не то место. По дороге к дому я разложу эти слова уже в нечто осмысленное. Задав себе нелегкую задачу, я продолжаю находиться у входа, из которого только вышел.
Мои спутники оглянулись по сторонам, я проделал то же движение — так мы показались друг другу. Я вклинился в свободное место, где рядом стояла Мария, держа в одной из рук нечто похожее на еду; люди вокруг нее ели за обе щеки и жевали в такт с Марией. Ощутив легкие тычки в спину, я развернулся. Один из парней протянул мне горсть округлых кусков клейкой вязкой жижи, больше походившую на одну большую растаявшую конфету. Не задаваясь вопросом, что мне протянули, я манерно принял это подношение и, не моргнув глазом, сунул в рот.
Я и до того догадывался, что это лакрица, а теперь и попробовал на зуб. Я никогда не был любителем лакрицы, но за компанию с удовольствием подкреплюсь. Мне не из чего выбирать; да и неясно, когда в следующий раз мне повезет поесть. Насчет продолжения вечера я мог положиться только на остальных, ведь не будем мы стоять здесь всю ночь до рассвета, жуя сладости…
Часть протеже Марии машут руками; крупные парни, что и без движения руками видны всем водителям. Мария, не двигаясь, молча смотрит на попытки привлечь внимание такси. Самый крупный из них, набычившись, подошел ближе к Марии, заверил, что транспорт вызван и прибудет с минуты на минуту. Автопарк находится совсем недалеко. Одной машиной на всю компанию точно не обойтись; если не приедет пара машин, придется части дожидаться следующего рейса, но в любом из вариантов это не займет много времени…
Еду в машине, по соседству сидит Даяна. Ее понурый вид вызывает во мне только раздражение: из-за моей усталости или моего нежелания видеть за день еще одно унылое лицо, на этот раз сестринское. Через минуты я уже совсем забыл, что она сидит со мной по соседству. Смотрю прямо на подлокотник водительского кресла и не отрываю взгляд, но тут мне захотелось закрыть веки да посильнее, чему я не сопротивлялся, и тут же уснул.
Проспал с десяток минут, пока не пришел в себя, когда машина остановилась. Даяна стала постукивать меня ладонью по плечу, я вышел за ней следом через ту же дверцу, как сиамский близнец. Захлопнув дверцу, мы с Даяной пару секунд неподвижно стояли на месте, словно обдумывали, что делать дальше. Не ручаюсь за остальных, но я иду спать.
ГЛАВА 22. РОБИН
Мне придется справлять день рождения здесь, в Новом-Амстердаме или же в Бруклине. Для меня любые празднования не имеют особого значения, и, в отличие от Марии, я желаю провести праздник без шума и поздравлений. К счастью, мне привычно не распространяться о настоящей дате рождения, и каждому, кому было интересно, какого числа я родился, я называл разные четные даты.
В свою очередь, мне до августовских дней не понадобится никого поздравлять с днем рождения. Забавно вспоминать и понимать правду жизни, что практически вся родня и знакомые мне люди рождены либо в августе, либо в декабре. Только в эти два месяца и только… все, от Брюса и Джун до Даяны и Генри, родились в эти два месяца, и только мне словно специально довелось родиться в июне.
За прошедшие два года меня никто не поздравлял и не приглашал справить праздник, а мне только и оставалось делать вид, что проходит обычный июньский день. Во время дня рождения мне стоит развеяться и отлучиться до конца дня к Ирвину, как давно и планировал: навещу старого приятеля и заодно обойду стороной возможные поздравления. Только подумать… мне уже двадцать четыре года, всего одним годом меньше, чем четверть века. Впрочем, цифра двадцать четыре звучит гордо… ради такой красивой цифры не стыдно и постареть.
В былое время именно в Новом-Лондоне располагалось кафе-бар «Сильвания», пока не наступил день переезда… владелец «Сильвании» по секрету нашептал мне на ухо, что в Новом-Лондоне прибыли было побольше, но ему подвернулась удача с жильем в центре Нового-Амстердама, и «Сильвания» упорхнула вслед за ним…
Утомленные развлекающиеся путники (из которых, как мне всегда казалось, и состоит большая часть населения Нового-Лондона) раз за разом приходили отстоять свою многочасовую очередь, лишь бы попытать удачу и попасть внутрь, а охранники со списками приглашенных гостей (будь они неладны) все так же почти никого не пропускали.
Те не пущенные внутрь люди осыпали вышибал всеми возможными оскорблениями и угрозами, которые могли вспомнить. Охранники только выслушивали и посмеивались над пустыми угрозами. До дела так и не доходило, никто не решался довести свои угрозы до исполнения, а вышибалы продолжали честно выполнять свою работу.
Внутрь и впрямь пускали только избранных, и никто наверняка не знал, как нужно выглядеть и кем нужно быть, чтобы тебя пропустили… Во избежание мужских скандалов и попыток показать силу, красоток и молодых женщин сразу разворачивали еще при входе. Женщин не пускали настолько часто, что в те года заведение закономерно приобрело репутацию «сугубо мужского места».
Больше всего недовольными были молодые посетительницы, которых не пускали без объяснения причин. Не пускали и тех, которые не держали язык за зубами, думая, что их никто не ударит. Им дозволено говорить все, что вздумается. Сейчас ситуация совсем иная, и для женской клиентуры двери «Сильвании» всегда открыты…
Раньше Новый-Лондон был известен миру своей ворванью, и пускай китобойный промысел Нового-Лондона сто лет как загнулся, дары моря все еще в почете как главное блюдо. Полное истребление китов в неволе когда-то загнало всю отрасль морской ловли на грань полного вымирания; разделка и продажа всех частей этих синих гигантов приносила баснословную прибыль, и переключить промысел китобоев на ловлю трески даже звучит нелепо.
Теперь, когда рыбные фермы стали такой же нормой, как пастбища для овец, разводят столько рыбы, сколько люди сумеют проглотить. Рыба не стоит ровным счетом ничего, но мне видится, что многие люди едят мясо парнокопытных. На крытых рынках, где фермеры выставляют свежую вырезку овец и быков, можно и вправду счесть говядину праздничной едой на сочельник, в другие дни остается довольствоваться солоноватым филе морских гадов.
А ведь раньше я был занят делом, всегда находил чем себя развлечь, да еще и зарабатывал на розыгрышах — розыгрышах, которые принимали за чистую монету… Тебя не смогут разоблачить, если разоблачишь себя первым; в таком случае у остальных пропадет мотив выводить на чистую воду, быть почетным первопроходцем. К тому же человек разоблачающий сам прекрасно знает о своих недочетах; скрыть часть их по надобности — привычное дело.
Для меня было главное — не увлечься с этим и разослать под вымышленным именем письма с инсайдерской информацией всем изданиям. Скрываясь под видом человека, чьим словам точно можно доверять. Для шестнадцатилетнего меня это был один из способов эмоциональной разрядки, к тому же это приносило деньги от приходящих по почте конвертов с сургучным оттиском и подписанными чеками внутри (за ценную информацию).
Никогда не откажусь зарабатывать деньги путем сплетен, отправленных по почте под псевдонимом; меня вполне устраивает. Ни у кого из получателей моих писем не возникало сомнений. Журналисты бездоказательно преподносили мои накарябанные ручкой вымыслы как инсайдерские вбросы информации.
Так продолжалось почти два года, пока одним днем мне все это не надоело. Я встал с утра с твердым убеждением прекратить этот цирк, и больше ни в одно издательство моих едких писем не поступало. Должно быть, в редакциях ломали голову над тем, куда исчез тот поставщик уникальной информации.
Все тот же привычный пустой вид будничных улиц. Сам Новый-Лондон — достаточно далеко, чтобы не видеть миллионы людей по соседству, но все еще близко, дабы жить словно в сердцевине цивилизации. Новый-Лондон — многообещающее место и тот город, который, как ни пытайся, будет тяжело превратить в плохое место для жизни.
Помню, как читал из новостной прессы хвалебные вздохи журналистов. В газетах излагались мысли о том, «насколько Новый-Лондон стал безопаснее, а его дороги настолько вылизаны, что на тротуаре не найти и соринки». Опасаться улиц больше не приходится, впрочем, улицы Нового-Лондона и до этого не были опасными. Пожалуй, пригородным неженкам пора взглянуть на по-настоящему опасные места, тогда будет не до того, чтобы бояться воров дамских сумок.
«Морские врата» сперва так же строили не как главный сухой порт, а всего лишь как пристань для бочек с солониной и ворванью. Теперь это едва ли не экономический двигатель всего Нового-Лондона. Строительная техника изрыла акваторию, позволив швартоваться в порту самым крупным судам. Получить безопасность, стать безопаснее, притом делиться безопасностью с другими: чем больше людей удастся объять сетью безопасности, тем лучше это будет работать в будущем.
Всего лишь разминка перед долгой борьбой с опасностями. Новый-Лондон не останется в стороне; пока прочие города все больше уделяют внимание личной безопасности, пора раздвинуть границы прямиком под новых жителей и даже проезжающих транзитом людей. Еще никогда Новый-Лондон не был таким спокойным, и все граждане знают, кого за это стоит благодарить, кого осыпать благодарностями.
Стоя в конце очереди, со стороны я мог наблюдать парня, переходящего от одного стола к другому, что разминает руки, сжимает и разжимает пальцы, словно своей пятерней показывает распальцовки. Странного вида мистер не находит себе места, пошатывается. Незнакомец в начале казался мне почти братом-близнецом Егеря… скорее некой пародией; теперь я невольно на него засмотрелся. Незнакомец в очереди все больше напоминает мне длинноватую и не находящую себе места копию Егеря. Мне не следует на него глазеть, как и на каждого, кто находится во всей этой очереди; глазение на незнакомцев не сулит мне ничего хорошего.
Чувствую, как очередь неспешно продвигается; никакой толкучки, одна лишь медлительность. Через двери только и заходят люди, но никто не выходит. Наверняка я могу сказать лишь: если меня за пару часов так и не пустили внутрь, меня определили явно не в первую категорию посетителей. Стоит думать, меня пропустят, и я не просто так отстоял очередь к Ирвину.
У меня в избытке мыслей, призвание которых — отвлекать внимание от ожидания. Я перебираю все возможные варианты развития дальнейших событий дня, они проносятся в голове так быстро, что каждая из них кажется на мгновение весомой, но их так много, что раздумья слипаются в один серый ком, с которым я уже не в силах вынести ничего определенного.
Вдруг очередь стала двигаться на порядок быстрее, Ирвин становится все ближе… Мужчина в форме закивал головой, и я заметил, как рука одного из охранников указывает на меня и сгибается в жесте поторапливаться и быстрее заходить внутрь, что я и сделал. Пройдя в дверь, меня обдают струи прохладного воздуха; нет той июньской жары, которую я вытерпел весь день сегодня…
Из всех открытых дверей кабинетов доносятся женские голоса, звуки печатных машинок и приглушенные смешки; на какой-то момент мне всерьез казалось, что они посмеиваются надо мной. Конечно, они меня даже не видели, а если бы и видели, не было причин вот так смеяться.
Их смех понятен: если бы мне пришлось возиться с бухгалтерией, печатать до мозолей на пальцах, у меня временами исходил бы невольный смех. Здание городской ратуши снаружи вполне отдает теплотой, то, что выглядит и чувствуется внутри, — словно только вчера все стены облили холодной водой, а сегодня пришла пора высыхать, отсюда в воздухе стоит прелый запах болота. Сколько бы за жизнь я ни посещал подобных мест, почти все они отдают запахом тины и болот прямо в мой насупившийся нос. Настенные вентиляторы продолжают вращаться, но запах лучше не становится; пожалуй, это особый запах, который чуют все, кроме самих работников.
Где-то здесь, в одном из кабинетов, должен работать и протеже Ирвина — курчавый загорелый блондин, имя которого я запамятовал (готовый ко всем указаниям, как мальчик на побегушках), что вечно плелся как хвост за Ирвином еще в академии и, как я понимаю, теперь прислуживает ему как советник мэра, пока старость окончательно не выведет тело из строя. Систематически он попадал в драки, но из каждой выходил победителем.
По его словам, только в детские годы его могли избивать в подворотне и темных закоулках квартала, куда его оттаскивали, мордовали и отбирали вещи. Сейчас уже и он сам мог заняться подобным вымогательством, но никогда не прибегал к нему. Сейчас силы его мышц хватит, чтобы справиться с целой разношерстной толпой, но на него давно не решались нападать. Конечно, от ножа или пули накачанность не убережет. На что он постоянно отвечал: «Ни ножи, ни пули мне уже не страшны, и нарываться на опасности не собираюсь».
Он был единственным, но никак не одиноким. Недавно закончил с отличием курсы в одном из бруклинских университетов и планирует примерить роль помощника отца на одном из его предприятий. Впрочем, его мускулы вряд ли помогут перебирать бумаги. Когда-то давно мы обменялись телефонными номерами, и если он мне понадобится, я могу не стесняться и звать его на помощь.
Ораторские качества явно идут в копилку Ирвина как нового харизматичного управленца, впрочем, харизма — пока единственное, что он может предложить. Ничем за полгода нахождения на посту он запомниться не успел. Если его градостроительная программа воплотится по задумке, это будет прорыв, в ином случае больше пары лет он не удержится, каким бы миловидным Ирвин ни казался для публики.
Ирвин достоин личной передвижной трибуны, которую следует освещать прожекторами и днем, и ночью, трибуны с лучшей акустикой; занятие не из простых, исполнить такую задачу, но только так можно быть услышанным и докричаться до публики. Человек он красноречивый, хотя и в меру; противоречивый, двусмысленный и подколодный — все те качества, присущие любому оратору с выслугой лет.
Как для человека, который в прежнее время ни дня не пробыл чиновником, его отставка не стоила бы сил: щелчок пальцами, и все готово. Разве что он не пойдет на опережение и не отправит старожилов на заслуженный отдых под разными предлогами. Продержится на посту мэра достаточно долго — тогда и сможет диктовать свои условия кому угодно, предлагать то, что другие и слушать посчитали бы за оскорбление.
Для Ирвина язык — орган и метод прокорма — перемещается во время выступлений (которых за день может накопиться больше десяти) только на транспорте. Когда не приходится напрягать нижние конечности, все силы можно отдать непосредственно речевому аппарату и его сомнительным способностям влиять на умы.
Новый-Лондон, который до недавнего времени выглядел совсем глухой дырой. Дырой, которая привлекала многих. Удовольствие это было сомнительное, но на дорогах машин с ново-амстердамскими номерами и правда прибавилось, и Новый-Лондон рад был приютить усталых жителей мегаполиса…
Сидя и выслушивая лепет Ирвина, мне невольно вспоминается образ его отца… мужчина статный на лицо и фигуру, одетый в лабораторный халат, — сразу видно, что УЧЕНЫЙ, а не лесничим работает… Множество раз я воочию наблюдал, как люди с учеными степенями и широким послужным списком не способны избавиться от угревой сыпи на лице, да только и умеют что скрывать, замазывать изъяны. Неумело размазывают тональник по лицу да одеваются в уродскую одежду, словно специально хотят подчеркнуть свою непривлекательность.
Но никакой (даже самый мерзотный как внутри, так и снаружи) научный работник не пойдет на неуживчивость и конфликт со своими коллегами по общему делу, пока над ним витает протекция спонсоров его проектов. Так трудно получить гранты, что беднягам приходится сжимать зубы, но работать над проектом сообща.
Отец Ирвина — совсем другой случай, как говорится, «сделан из другого теста». Не просто красив собой, но производит не самое приятное впечатление как человек, а как научный работник — вполне востребованный… мне выпадала честь говорить с ним о всяком-разном. Мозгов у него и правда хоть отбавляй, смею предположить, что в вопросах эрудиции даже именитым профессорам приходится пасть ниц и признать поражение перед ним. Для академиков умственные склоки с равными по знаниям противниками — уже слишком неравный бой.
Докторанты наук — натуры с ранимым складом ума. Пусть академик сколько влезет без расстановки бубнит слова себе под нос, и даже когда его просят повторить погромче, он говорит с тем же мямлящим голосом. Третий раз уже никто из сидящих не просил говорить громче и не переспрашивал, и довольствовался теми словами, что смогли разобрать. Меня нисколько не растрогает момент, когда ученому миру придется очистить ту некомпетентность, что не на шутку настраивает людей против университетов.
Уже пару десятков лет исследовательские институты конкурируют, переманивают всех ученых, попавшихся под руку, всем чем могут. Конечно, и за отца Ирвина тоже боролись, дабы он проводил свои лабораторные работы именно у них. Конечно, тысячи ученых, завистливых и менее удачливых, считают его выскочкой, всего лишь очередным подающим надежды умом, которых и без того хватает. Проплачивают редакторам журналов, лишь бы подмочить его репутацию… а воз и ныне там.
Сейчас отца Ирвина заполучил «Университет Нового-Лондона», где он, по всей видимости, неплохо так обжился. Пожалуй, Ирвин может гордиться, что его старик-отец работает в научной сфере, публикуется в научных журналах, тратит выделяемые деньги… проще говоря, рождает новые теории…
Пусть я и не любитель разного рода наук, не стану спорить, что науки и теорий в мире меньше не стало, напротив, плюрализм идей только усиливал свое влияние. Мне (как мало кому) знакома статистика, как много средств выделяется на исследования, но каких-то знаковых инноваций за последние лет сорок так и не прибавилось, кроме прототипов, что выставляют на обозрение грантодателям. Меня вполне устраивает такая малоподвижность в науке, лично мне не требуются никакие весомые новшества прогресса в личную жизнь, достаточно всего лишь знать. Потуги ученых могут сыграть людям на руку, сделать жизнь пусть и малость, но лучше.
Бедные старики надеются на развитие медицины; наверное, и они, когда были детьми, думали и обманывались, что прогресс, как герой Ясон из аргонавтов, идет только вперед, а не выплясывает круги, как циркуль. Было бы зелье, что без вреда и последствий способно погрузить выпившего в бальзамический сон. Тот смелец, кто решился бы уснуть таким сном, успел бы належаться, пролежать десятками лет в забвенной коме, а после пробуждения очутиться во все том же мире.
Где все меняется с ничтожной, никем не замеченной скоростью. Излишне говорить, какой мандраж это производит на тех, кто рискнул напиться непонятного отвара. Ожидая проснуться в будущем с порхающими, как пташки, машинами, летящими над крышами, а получив все те же угловатые, дребезжащие машины, что дымят выхлопами, клубами жидко-угольного топлива…
Слишком многие болезни медицина не в силах вылечить, из этого простой народ приходит к простой мысли, что и излечить людей никто и не планировал. Правительство не преследует фармпредставителей, что с уверенным видом подсовывают вовсе не лекарства врачам, в свою очередь, ничего не мешает без огласки подсовывать пустышки под видом лечения.
Если людям дают возможность пить пилюли на свой страх и риск, это всего лишь форма личной свободы и никакого обмана. Кто-то ведь действительно излечивается от всего необъяснимым для себя образом. Подобные истории всегда ходят среди скептиков, тех, кому каждая из микстур видится наглым шарлатанством. Доказательств заговору врачей нет, но и опровержений, доказывающих обратное, мне читать не доводилось.
Пока что все деньги, что вкладываются в институты, выглядят как подношения жрецам, успокаивающим злых духов, — на этом все их полномочия заканчиваются. Но я не унываю и все жду, пока мифотворцы-ученые корпеют днями напролет, дабы в мире каждый человек стал жить лучше. Впрочем, от науки не требуется скрашивать жизни людей, и наука не существует для цели сделать жизни людей лучше. Сам себе повторяю, насколько незрелыми выглядят подобные незамутненные мысли, но они веселят не хуже бродячего цирка.
Поразительно, как старые мэры уходят и им находят замену вроде Ирвина и иже с ним… где только наниматели находят целыми табунами новых управленцев? Это сравнимо лишь с тем, как каждая громоздкая трансконтинентальная компания еще не пала в конкурентной гонке под весом своей неповоротливости…
Каждый управляющий действует по указке уже от своего начальства, но, конечно, больше всего руководство сперва действует по своему усмотрению, лавирует промеж риском и выгодой исходя из обстоятельств и надобности. Самоуправство на рабочем месте — это ни разу не полная свобода, но гораздо больше, чем связанные с миром мегакомпании могут предполагать о понятиях иерархии и корпоративной этике.
Когда филиалов полно во всех уголках мира, такое рассредоточение управленцев на местах в немалой степени помогает; если назначенцы не перечат центру в основных вопросах фирмы, такие полезные наместники остаются у руля до последнего. Самые лучшие меняют деловые портфели на мэрские и получают под управление самые перспективные города, а тех, кого не жаль, назначают в Новый-Лондон или даже город хуже.
Никто даже не заметит отколовшихся от континента самовластных клочков земли, очерченных границами городов. Должно быть, полисам полегчает от такого предоставления самим себе. Всегда бывает с людьми, чья карьера неожиданно лишается всего внимания к своей персоне, чтобы затем вернуться на прежнюю должность уже с видом триумфатора, который залег на дно.
В уединении разработать проработанный сценарий до малейших деталей для стратегии успеха. Наглядный пример подобных людей — Ирвин, что заведует Новым-Лондоном и неровно дышит к политическим амбициям больших величин, и по совместительству Ирвин — один из немногих студентов, с кем мне довелось приятельски общаться в университете, кроме профессоров.
После воплощения необходимых перестановок во власти мне остается только мечтать, что «мой человек» станет руководить агломерацией на пятьдесят миллионов человек. В истории это станет уникальным случаем, когда только недавно назначенный мэр миллионного городка разогнался и перепрыгнул все ступени политической иерархии и сразу приземлился в кресло мэра Нового-Амстердама.
Все в Ирвине кричит об опрятности: одежда выглажена, и на брюках ни единого пятнышка, не то что на моих. Конечно, у него есть прислуга, которая стоит на страже его опрятности, но тем не менее. Мы уже четыре раза пересекались взглядами, но так и не поболтали о важном и обо всем, что обсуждают старые знакомые по университету.
Как я и предполагал, наше общение не началось с поздравлений именинника (меня), как бы сказала придирчивая и досточтимая Джун, главным моим праздником в году. Я поздравляю Ирвина так же, как Ирвин никогда не поздравляет меня, — все взаимно. Слишком большая разница в днях рождения… родились мы совсем не в один день: Ирвин не дитя Юноны, как я, а родился под Янусом.
Разговор, смазанный воспоминаниями, о прочих рассказах прошел изящнее некуда; из самого важного был вопрос о том, что меня привело в Новый-Лондон и насколько долго останусь в его прекрасном городе. На это я ответил емко, но про главную причину повидаться с ним я умолчал, иначе слишком странно будет говорить: я приехал в этот город на день удалиться, уйти от поздравителей и своего праздника да увидеться с Ирвином. Как-никак мы уже почти три года не виделись.
Написано рукой человека, знающего свое дело, поскольку достаточно только росписи на страницах. Макулатура, которую печатают машинистки дальше по коридору. Потом они же заносят готовые листы в кабинет, а ему только и остается, что целыми днями их подписывать. Такой диковинный дар — управлять двумя руками сразу — только и может пригодиться управленцам; как ни крути, амбидекстры более везучи. При нашем разговоре он не стал демонстрировать на практике, какими ловкими могут быть его ручонки.
Слово за слово он поведал мне о неполадках в городе; оказывается, город как-никак живет за счет удачного соседства и выполняет некую роль метрдотеля и официанта в одном лице. Все мосты и туннели в городе уже порядком износились, и с них буквально осыпается ржавчина и куски облицовки. Я не мог не согласиться с этим. Приехал в Новый-Лондон по, мягко сказать, мостам, что видели и лучшие дни.
Ирвин добавил, что в городе нет мостов и любой другой инфраструктуры младше пятидесяти лет. Большая часть городского устройства скоро встретит свой столетний юбилей. Я снова согласился и добавил, что в те незапамятные кризисные времена строительство было нарасхват, поскольку заставить потерявших работы прокладывать туннели и класть асфальт — самое простое решение безработицы. Строительные работы — то же, что подстрелить одним выстрелом целую стаю птиц. Поистине асфальтирование — самый простой способ дать работящим людям все блага и достойную работу, а промышленникам — логистику.
Смею предположить, Ирвин норовит запомниться как строитель мостов? Судя по его акценту именно на проблемах мостов и туннелей города, у меня возникло невольное впечатление, что никаких проблем в Новом-Лондоне больше-то и нет.
Он ненадолго притих; воспользовавшись его помалкиванием, я нарушил молчание и все же задал вопрос: какое число мостов он планирует реконструировать или построить новых? На что он уверенно и взмахнув руками над головой выпалил: «ВСЕ!». Сказав это, посмотрел на меня так, словно это был самый очевидный вопрос в истории. Но его ответ не утолил мое любопытство; сказал, что совершенно очевидно, что ВСЕ, но… какое конкретное число?
Тут Ирвин растерялся, скрючился в кресле. На несколько секунд задумчиво смотрел куда-то в сводчатый потолок. Надумав ответ, еле слышно ответил: «Сорок». Такое заявление звучит двояко, с большой долей фальши, но именно это и наталкивает на мысль, что эта информация вполне правдива. Сорок — вполне солидное число (не десять и не двадцать).
Я поднял брови и одобрительно покивал головой, и вопрошающим, почти удивленным голосом ответил: «Не в каждом городе вообще найдется сорок мостов». На что он уже зарумянился и одобрительно покивал в мою сторону, но ничего не сказал, иначе весь разговор превратится в одну большую подпитку его Мэрского Величества.
Если Ирвин и вправду воображает себя получившим должность мэра абсолютно справедливо и заслуженно и никак иначе, он имеет полное право видеть себя таковым. Притворство в людях отвращает и злит многих, но меня людское притворство только забавляет: пускай уличные незнакомцы притворяются и кажутся другими людьми с лучшей, выдуманной стороны. Если шестилеткам позволено притворяться пиратами и принцессами, то такая безобидная ложь, как льстивость и роптание перед незнакомцами, — почти что хобби.
Ирвин из тех людей, кто без нужды, только веселья ради, выучил пару вымирающих кельтских языков, а его разговоры об изучении гэльского спасли от скуки не один пропойный вечер. Когда половину студенческого городка составляют шотландцы, травить шотландские шутки на родном языке скоттов приносит свою пользу. Такие моменты единения шотландских горцев были подобием кружка по лингвистике.
Кельтские почти никто языки не изучал, только говорили отдельные заученные фразы и вспоминали семейное древо: как каждый из сынов Шотландии имеет немало голубых кровей, а посему радостно вспоминают время рыцарской славы предков, так словно сами совершали все эти подвиги. По коже бегают мурашки, когда на лекциях по истории доходят до истории шотландских переселений в Северной Америке.
Выпивохи были готовы подписаться под любым их словом, если они угощали бокалом эля. Приходя на подобные сходки кельтских парней, и мне заодно наливали. Я пил за стойкой «как следовало», не то что сейчас. Теперь Ирвин, тот самый парень, который подшучивал над южными соседями шотландцев, по иронии управляет городом Новый-Лондон, жители которого имеют все же больше шотландской крови, несмотря на название. Несмотря на все достижения и сладкоголосое ораторство.
Что называется: был отчислен за злостное непосещение и нарушения правил заведения. До заселения в ратушу Нового-Лондона жив ли Ирвин, оставалось для меня загадкой. Ирвин скакал по крайностям и доскакался до Нового-Лондона.
Если Бруклин — это праздничный больной человек Америки, лежащий под капельницей, то Новый-Лондон — всего лишь бедовый город. Бедовые милашки-подростки нередко нагуляются, а вырастают уже в людей с большой буквы. У меня есть все основания полагать, что отдаляться от Ирвина глупо.
Но и втираться в доверие к человеку, что знает меня лучше, чем всякий родитель знает своих детей, глупо вдвойне. С моей стороны слишком неосторожно приходить к старому приятелю вот так, без всякого предупреждения. Но по его ничего не выражавшему лицу совсем было не просчитать, что у него на уме. Мне же было понятно, что ждал он меня куда раньше.
Еще не скоро мне доведется обговорить насущные вопросы с Ирвином наедине. Нет уверенности, что наш разговор вовсе не интимный и его не подслушивают, будь то жучок или одна из секретарш. Полагаю, быть подслушанным в моем случае — условие аудиенции. Ирвин пожал мне руку по-дружески и без всякой манерности распрощался со мной, даже проводил меня к выходу. С его стороны могло показаться, что я ушел по своим делам, но на самом деле дела были у него.
Все мои дела только планируются. Не таким образом я представлял себе сегодняшний день рождения, но, как и ожидалось, Ирвин про мой праздник и слова не сказал, ведь и сам свой новый возраст не праздновал. Вместо этого проводил день рождения на природе. Продолжает ли Ирвин при этом носить тот килт поверх брюк, как в студенческие годы, мне неизвестно.
Закономерно, в отдельно взятых случаях это работало как нельзя лучше; довольно трудно определить, кто прав, а кто виноват, когда нечем винить и не с чем сравнивать. Я могу констатировать, что Новый-Лондон не погряз в безвластии, даже скорее благоухает. К моей радости, Новый-Лондон не имеет ко мне отношения, я не при делах, не мне отчитываться о проделанной градоначальницкой работе и не мне испытывать проделанную работу на зуб.
Мне как любителю неотмытых городских пейзажей любые архитектурные изыски уже стоят поперек горла. Однотипное жилье не столько душит людей, как отсутствие жилья… На самой оживленной улице Нового-Лондона, как и на самой усредненной узкой улочке Батавии, можно не разглядеть разницы в архитектуре, настолько ныне много типового жилья. Но что будет, если убрать из города остатки исторической застройки? Ответ предельно прост — ничего существенного. Городской вид станет блеклее и скучнее, но от того и функциональнее.
В мегаполисах строительные леса могут не так бросаться в глаза или же, наоборот, быть всегда на виду; как, например, в Новом-Лондоне и в Океании, новые здания возводятся постоянно: строятся за короткие сроки, не разваливаются, и на том спасибо.
Кавардак и беспорядок тут же испарился; не правда ли, так удачно сложилось, но только для него. Похоже, у зубной феи появился помощник — фея-покровитель везучих ублюдков, которому интересны не только выпавшие зубы, а и кое-что поинтереснее… Если так, то это все объясняет; другую теорию я даже не приму на рассмотрение. Уж не знаю, что Ирвин использует в качестве подношения, но следует лучше присматривать за пропавшими детьми. Я же с точностью до наоборот и совсем по другой части. Тяготел к чему-то подобному, более прикладному и менее кабинетному.
Такая несказанная правда имеет для всего большую роль, но только пока она скрыта от людей; дальше, когда последние печати вскроют, будет понятно, насколько такая маленькая жизнь со своей правдой сыграла такую огромную роль для всего человечества.
ГЛАВА 23. ФЕЛИКС
Изо дня в день июнь становится все жарче, так будет продолжаться долгое время. Находясь в крупной компании, я не могу ни облить себя из ведра, ни применить более дикие, но действенные способы охладиться. Такая жара парализовала и лишала сил; сегодня первый из настолько жарких дней: позавчера еще казалось, что на дворе ранняя осень, но никак не начало лета. Сейчас без должной предосторожности получить солнечный удар более чем возможно. От лета только и дождешься, что солнечных ударов и обгоревшей кожи. Порой мне охота понять тех людей, которым нравится лето, но лето не за что любить, не то что зиму.
В такие жаркие дни я прогуливался по паркам, где повсюду встречал хороших, добрых людей, которые бы и помогли мне, только вот я никакой помощи не просил. Впрочем, репутация — вещь изменчивая и может легко разголяться, размениваться; меняться от квартала и даже от стороны улицы каждый расценивает по-разному.
Умный человек не станет выносить на всеобщее обозрение худшее; без этого не видать полной картины событий и не узнать правдивой биографии. Апофеоз этого: жажда остаться не оцененным по достоинству, но остаться в памяти поклонников как «хороший человек», выходит за все разумные рамки. Когда на кону стоит репутация, лучший выход — выставлять только лучшее: репутация — слишком уязвимая вещь, чтобы помогать другим портить ее своими же руками.
Моя одежда не изменилась, и все тело плотно окутано грубой тканью. Впрочем, какие бы меры я ни был готов предпринять, носить шорты и футболки выше моих сил. Мне повезло с предками, которые не потеют и передали мне столь необычную особенность; и даже в самый палящий солнцепек с меня не стекает ни капли пота.
В душевой я поочередно до предела выкручиваю горячую и холодную воду. Стоя под намертво вкрученной в стену лейкой душа, ощущаю, как меня обдают кипяток и ледяная вода. Скрипя зубами, я терплю контрастную водную процедуру по несколько минут. Этот перепад температур — единственное, что дает мне сил побороть ломоту тела, пусть и не полностью. Проточная вода снимает боль в мышцах и треск в висках. Обматываюсь полотенцем и небрежно обтираю тело: остатки влаги возьмет на себя уличное солнце и оставит на мне только запах вымытого тела.
Растерял полностью всю форму, словно отродясь у меня никогда и не было мышц (что недалеко от правды). Последние месяцы и даже годы я подзапустил себя, вес еще больше уменьшился, а жира во всем теле не хватит и на пару столовых ложек; на подбородке щетина уже переросла в чахлую бородку.
Придется опять стерпеть и выдирать волоски воском. За собой я оставил привычку избегать бритья лезвием. Быть может, раздражать кожу жидким парафином гораздо больнее, но у меня нет никакой потребности истечь кровью от опасной бритвы, да и нет у меня рук, способных на бритье. С самого первого раза мне было не в радость полосовать свое лицо бритвенными лезвиями, даже с безопасными бритвенными станками я обращался не ахти как. То и дело думая, как бы себя не поранить.
Вариант давать брить себя чужими руками пугал меня куда больше, чем перспектива выбривать себя самому. Опасное бритье все больше отдает стариной; в парикмахерских по-прежнему берутся за отточенную бритву, которой, пожалуй, можно в придачу к волосам соскоблить что угодно. Обдирание лица восковыми полосками сводит нужду сбривать отросшую за день щетину станком на нет, дает через боль проходить почти месяц гладко выбритым, затем повторить выдирание волос по новой. Сейчас мне это ни к чему, нет поводов производить впечатление и тем более красоваться собой. Если и есть способ запомниться клиентам, так это прийти в такой одежде, словно только выбрался на поверхность из канализационных стоков.
Мускулов у леди Марии не занимать, она явно сильнее не только меня, но и доброй половины дохляков Нового-Амстердама. Я знаю, что люди, которыми руководит Мария, раньше состояли в рядах «скаутов» — нечто сравнимое с частной полицией, только работают и охраняют тех, у кого больше денег, чем смелости. Выглядят как головорезы, но именно что выглядят, проблем от них никогда не было, да и у них есть лицензии на работу и ношение оружия, которые они не любят показывать, хотя и должны это делать по первому требованию.
Их вспомогательные функции для стражей закона дают им право разнимать людей, патрулировать гнилые местечки. Бывает, их пыл выходит из-под норм обращения с арестованными. По оправдательному вердикту суда можно понять, что задержанные оказывали сопротивление, не подчинялись и даже давали отпор. Поэтому их лица пострадали при задержании — самозащита от буйных нападающих, и ничего большего.
Любому понимающему человеку видится, кто такие идейные люди и что ими движет. Те «достойные», что сами вызвались наводить порядки за «малые деньги». Для «новой волны мэров» наводить марафет на уродские города — как некое хобби. Надзор над ними имеется, и немалый, по статистическим отчетам, что я вычитывал пару лет назад. Число «новых, недворянских мэров» мало чем уступает количеству людей, что заканчивали колледжи, дабы сторожить мир и покой граждан.
Мало того, что они не имели образования, вся их подготовка ограничивалась короткими недельными курсами, где шерифы и инспекторы, которые по старости лет или из-за хворей могут только поучать кадетов, как скрутить опасных преступников, показывают азы обращения с табельными духовыми ружьями и пугачами.
В большинстве случаев разжевывать на пальцах не требуется ничего. Уже с пеленок их руки пропахли порохом со стрельбищ и тиров, на которые их по очереди водили отчим и двое дедушек, как от матери, так и по отцу. Большая часть желающих набиралась без нареканий и особого отбора; отсеивались те, кто совсем не понимал, зачем подал заявку и в чем заключается работа таких санитаров улиц.
Такого рода программа началась через шесть недель, как я появился на свет, и поначалу она вызывала только непонимание: зачем столько денег уходит на официальных хранителей порядка в форме, к чему брать к ним подручников с улиц, и не станут ли эти люди мостом между преступностью и властями? Признаю, я до старшей школы смотрел на них с опаской; их вид и правда не вызывает доверия, а никаких униформ, кроме копеечных значков и отличительных нашивок, попросту нет.
Все одеваются, как кому стукнет в голову, но чаще всего они носят совсем неприметную одежду, что первой попалась под руку. Названия им не выдали, и по документам все они числятся как «вспомогательные добровольческие отряды самообороны». По большей части они лишь числились в запасе как обязанные в любой момент отправиться туда, где необходима срочная поддержка, или просто куда их посчитают нужным отправить их командующие. Но по большей части они разгуливают по улицам, словно беззаботные дети, только зачастую выпившие, выше шести футов и получающие на чай от щедрых меценатских рук.
Кротость Марии полностью исчезла, миниатюрные габариты тела Марии не помешали ее голосу огрубеть и перейти в наступление. Мария стала отчитывать всю свою ручную команду подонков. Ее лидерские качества проявляют себя. Вот что значит быть начальницей (кем она в самом деле и является).
В такой ситуации я не знал, куда деть взгляд, и стоял с руками в карманах, как непричастный к ее нападкам, пока Мария раздавала указания кому угодно, но только не мне; это привнесло некое оживление. Даже смешно смотреть, как эти амбалы-переростки жмутся от страха перед своей управленницей Марией. Мария по существу им ничего не может сделать, разве что уволить. Как бы не пришлось в случае чего ее отцу выкупать ее из плена или того хуже; кто знает, на что способны телохранители в припадке гнева.
В таких безлюдных местах, как это, нелишним будет расположиться босиком под плодовым деревом: вдыхать любимейшие запахи дубовой коры, вытирать об одежду лежащие по округе фрукты. Надкусывать их мякоть и читать пасторальные книги про пастушек, что гоняют овец. Пока овцы щиплют траву, пастушки лежат под деревом, как и я, только уже без книги в руках. Но вокруг нет ни одного дерева, и мне негде прилечь под тень листьев. Оставалось довольствоваться стоячим положением и пешей прогулкой по округе.
Мне не нашлось, чем опровергнуть или ободрить Марию в этих словах; похоже, все так и есть: прогулка по лугам и ничего большего. Таким вот нехитрым образом Мария выгуливает всю свою рать; я так удачно проходил мимо, что и меня взяли заодно. Я ничего не выиграю от такого щедрого приглашения, но и не думаю отказываться.
По виду Марии я абсолютно точно мог уяснить, что ей по существу нет разницы, кого брать, достаточно кого-то, кто сыграет роль понятого-наблюдающего, кому придется отдуваться за всех, и я, конечно, выиграл в эту лотерею чисто из принципа. Стараюсь казаться стабильно нейтральным, но на лице скорее смесь из глупой улыбки и непонимания в замешательстве: что и зачем происходит. Пару секунд стою, опустив голову в пол, затем все выражения лица пропадают.
Путь езды вовсе не близкий: даже без единой пробки и вдавливая педаль газа в пол, поездка займет около часа, иль даже больше. Доставлять нас будут в одном грузовике, который больше похож на ржавое корыто. Стоит думать, оно не развалится по дороге; да и ехать на грузовике по узким грунтовым дорогам — еще тот пример безопасности. В целях безопасности Мария одолжила одного из своих людей быть ее личным шофером на сегодня.
Сама Мария поедет впереди отдельно от всех нас на своем кабриолете без верха, и правда: попасть в ненужную аварию на грузовом транспорте Марии незачем. Особенно незачем разбиваться в грузовике, в котором я и буду ехать всю дорогу. Из этого не выйдет ничего хорошего, я еще ничего не сделал, а поджилки уже начинают трястись. Впрочем, все ее подчиненные даже слова не сказали, словно каждый день забираются в эту машину и постоянно куда-то едут, а я здесь один такой не привыкший.
Эти давно осушенные болота не пересыхали вплоть до недавних первых проб проложить шоссейную дорогу напрямик в штаб-квартиру. Проездом я, словно инспектор качества, на практике выяснил, что покрытие этой дороги не уступает лучшим федеральным трассам или она и есть та самая лучшая трасса.
Но, увидев знак поворота, приходится съехать с нее на обычную проезжую, истоптанную сотнями тысяч грузовиков дорогу: теперь езда обретает традиционно неприятный вид досуга, машины поднимают грязь с луж вперемешку со щебенкой и мелким песком. К счастью, я был на пассажирском сиденье, а не за рулем. Что до водителя, он давно изъездил все ухабистые, не залатанные дороги города и проселочные пути и уже свыкся с их недостатками. Хваленое и неповторимое качество бруклинских дорог еще ждет меня впереди.
Как одна из разновидностей поступательных разрешений проблем, это не были пустые слова: в действительности всех наиболее заметных гангстеров изжили, словно на лице была бородавка, от которой все же решили избавиться. Затем время пришло для преступников среднего пошиба, пока не остались только те бандиты, которых можно назвать оптимальным числом. Наповал преступность никогда не победить, ее можно только свести до степени отребья, что воруют сумочки и кошельки в общественном транспорте, но ни на что большее не способны… и временами дебоширят.
Помню, как года два назад я стал свидетелем, как охранник забегаловки вписался в потасовку (зря он полез в чужую разборку), влетел в толпу, даже не успел обернуться и среагировать, как рухнул около входной двери.
Из всей толпы четыре амбала обступили охранника и силой повалили того на один из столов; стол опрокинулся под весом тела, и охранник уже лежал, скорчившись, на полу. Пару раз ему досталось ударов ногами. Посетители, что сидели внутри по бокам от меня, смотрели молча и никак не реагировали, кое-кто продолжал уплетать еду. Когда старик-охранник перестал брыкаться, прервал всякое сопротивление, все остальные участники потасовки выбежали наружу без всяких преград.
Им уже ничто не стало преградой, и спустя секунды они скрылись. Вреда парни успели натворить немного, только сторожу досталось. Несмотря на побои, старик-охранник встал на ноги, слегка пошатываясь, но по виду потрепанный, не более. Ссадины и синяки скрывала черная форма. Его не так уж сильно поколотили, но гадящее чувство быть избитым во время смены — опыт не из приятных. Медиков никто вызывать не стал, но несколько людей подошли к избитому, спрашивали о его состоянии и нужна ли ему помощь. Меня же ничего не держало внутри бара, я мог уйти и во время потасовки, если бы толпа с ее толкучкой не собралась возле самого выхода. Путь на выход был свободен, и я неторопливо вышел на улицу…
Но это вовсе не были бандиты, просто мелюзга — исключение из правил спокойной жизни… простое ворье. Не знаю, чем все закончилось, но бегали они быстро. Воры, что грабят частников, как правило, быстрые бегуны; если за ними и впрямь началась погоня, воры даже марафонцам дадут фору. Вот она, отвязная воровская жизнь: воруют и дерутся, не омрачая себя походом в суд.
Впрочем, все, кто сторожит свои разбитые окна от заползания воров, скорее забьют их фанерными досками, чем обратятся в инстанции. Во всем районе нечего было воровать, и даже на пике преступности в городе то, что было обителью зла и преступности, стало предельно безопасным. Словно невидимой красной линией для банд было вычерчено, куда им забираться точно не стоит, и эта линия обхватила все университеты и их предместья, около портовую зону и объекты критической важности как места особых интересов.
Сколько бы я ни распинался и не боялся быть обворованным, риск этого пусть и крайне мал, но есть. К тому же мелкие банды уже давно изжились, а кто остался, работают под жестким контролем самого города. Нет, я не верю, что эти парни могут влиться в среду уголовников. Я их знаю: они на это не пойдут. К тому же они настолько богаты, что никто из настоящих отбросов не станет держать их за равных.
Мне пока что не за что считать их людьми, и им лучше меньше напоминать о себе. Остается за себя постоять, насколько могут, в обмен на безнаказанность и возможность поступать как им угодно. Бывшие, уже набегавшиеся воры числятся в системе на получение пособия, их задабривают письмами с вкладышами в виде денег на проживание; дарящие такие конвертики даже не интересуются и не догадываются, на что прожигаются их отосланные суммы. Малая часть идет на овсянку, накопления и планирование будущего, оставшаяся — на все остальное.
Все же дореновационный хаотичный Бруклин все дальше отступает на восток. Об этом прознали власти города, но только поддержали начинания бизнеса в реконструкции развалин. Со временем уже квартал за кварталом обрастал строительными лесами, и теперь почти вся северная часть Бруклина расступилась перед строительными бригадами и техникой расчистки. Банды стали практически на коротком поводке, и их единственное предназначение — просто быть пугалом, всячески донимать и кошмарить более страшных людей, которые нацелены возродить то время, когда еще преступность занимала весомую роль в обществе.
Несмотря на абсолютную победу над злыми улицами, служб по охране порядка меньше не стало, напротив, их словно стало только больше. У них есть время на любой досуг; стоит свистнуть, и они появятся скручивать руки и грузить в машины. Подобные радикальные планы по перестройке города не новы. Бостонские власти сколько ни затевают нечто подобное, из раза в раз напарываются на недовольных сносом исторической застройки…
Слишком много бостонцев твердили одно и то же: «Великое культурное достояние следует только оберегать, в каком бы обшарпанном виде ни находилось, о сносе и речи быть не может». Как ни прискорбно признавать, но многие некогда обжитые дома уже не только обрастают лианами плюща, но и подчас полностью прогнивает все оставшееся убранство дома. Всему ветхому жилью Бостона придется упасть самому, без сносов и экскаваторов, под собственным весом…
Меня занесло в район бруклинских двухэтажных, прямо-таки пряничных домиков, и вид их по-прежнему не изменился, все та же скука. Помимо домов еще скуку вселяет то, насколько стерильными улицы могут быть. Если уронить яичницу на тротуар и отскрести лопаткой обратно в тарелку, на ней не останется и намека на грязь — бери да ешь. Даже удивительно, как местным удается поддерживать такой порядок.
Я прохожу вдоль по этим улочкам в своих остроносых ботинках с болтающимися по сторонам шнурками и грязной подошвой, топчу мелкие лужицы, отчего грязевая вода разбрызгивается по тротуару. Словно пытаюсь ненамеренно надругаться над этими улицами, занес на них свою слякоть, что подцепил, пока ходил по кварталам куда более худшим, чем этот. Наконец настало вечернее, непроглядное время, и моих следов мне не разглядеть. Я даже повернул голову назад посмотреть, остались ли следы на тротуаре, но в такой полутьме ничего похожего на следы я не замечаю. Но это не значит, что их нет, просто я их не заметил.
Который день я так прохаживаюсь в ночи по разным частям города и каждый раз нахожу новую дорогу обратно. На сегодня я вдоволь продышался вечерним воздухом, теперь только осталось отыскать дорогу к кровати. Конечно, все дороги Нового-Амстердама в разной степени ведут к моему временному дому.
В месте, в котором я живу, сходятся все крупнейшие магистрали, неподалеку авторазвязка в виде звезды. Центр автоезды всего города, магистраль, где целыми сутками кружатся машины. Мне удалось подзаблудиться. Мимо меня проехала пара раритетных, еле едущих машин. Если достаточно долго проследить, куда они движутся, можно почти безошибочно упереться лбом в самый пуп города. А там уже до всех мест рукой подать.
Вступиться за Марию, равно как и присоединиться против нее, не было никакого смысла. Мария была такой, какая есть, а значит, получает по заслугам. Если бы ее прихвостни стремились нанести ей непоправимый вред, давно нанесли бы его. Не удивлюсь, что однажды именно так амбалы и поступят… отомстят своей нанимательнице.
Пропускной пост не стал помехой, и отказ в доступе посторонним людям, меры безопасности только усложняют доступ внутрь, но не делают его невозможным. Мария потратила больше времени на приятный разговор с охраной, чем на саму поездку сюда. Изобилие уже виднеется через решетчатое заграждение. Мария велит нам смелее проходить через запасной вход. Черный проход, доступный только охране и персоналу, что караулит настороже этой территории.
К тому же перед входом висят предупредительные таблички: это частная территория, и сторожа имеют полное право применять силу к особо несговорчивым нарушителям прав частной собственности. Нашей толпе открыли вход для персонала, и не возникло никаких лишних трудностей, и вряд ли кто из сторожей проболтается, что внутрь пробирались непрошеные гости. Мне думается, эта вылазка так и останется нашим маленьким общим секретом. В ином случае, если кто проболтается, пострадает только репутация: вряд ли мертвецам есть дело, кто теперь топчет почву их заброшенных домов, пока их нет в живых.
Окрестности кажутся довольно посредственными. Я не большой любитель природы, если не сказать хуже, но я хорошо представляю, какой в идеале должна быть нетронутая человеком природа; все, что мне довелось здесь видеть, выглядит так, словно садовник по приказу вырастил все эти заросли, намеренно выращены поддельно, под дикую природу. Проходя дальше, я наблюдал всю местную симметрию и ухоженность: за лесом еще как присматривают. Пожалуй, местные лесничие не только для красоты наняты.
Знающие люди говорят, что неподалеку, в Бруклине, виднеются холмы, где добывали и продолжают добывать золото, как сейчас добывают на острове Ричмонд вблизи Нового-Амстердама. В Ричмонде по праву золото властвует над всем и приносит всем счастье и благополучие.
Остров Ричмонд так и золотится, приносит немалую пользу Новому-Амстердаму и заодно всей Америке. По городскому убранству Ричмонд куда меньше и уступает более богатым соседям. Сейчас восходит пора, когда весь остров Ричмонд переходит во власть золотодобывателей, гедонистов всех мастей и простых гостей столицы. Коренным жителям нет нужды в подобных поводах для веселья. Приезжие, напротив, только дай повод приехать. Все выжидают удачный повод, дабы приехать не просто из желания, но по определенному событию.
Что стало ценой благополучию и золотодобыче, которую проводят прямо так, расчищая и перемывая почву холмов? Останется хоть булыжник с тех холмов, которые давно как приняли в оборот? Верхушки безымянных холмов не стерлись под ударами времени и простояли бы в целости еще века, но строительная техника уже принялась разрабатывать месторождение.
Мне едва виден огромный роторный экскаватор. Издали все кажутся игрушками, хотя по массе, предположу, стройтехника сравнима с самими холмами. Мне никогда не хотелось любоваться этими буграми: прежде я называл их лишь помехой, портящей виды города, однако ковырять их ковшами все равно кажется излишней мерой.
В Новом-Амстердаме за каждым углом происходят невообразимые в будничные дни вещи, неподдельный ужас вперемешку со зрелищем, достойным выходить на улицы этим днем. Ото всех я слышу, что Столичный регион — это место контрастов: от полных вакханалий и непрекращающегося праздника до тихой гавани, где лучше всего доживать свои дни старикам.
Многим трудно понять, но природа — вещь весьма опасная, и не так прекрасна, как на открытках и почтовых марках. Воочию водопады совсем не так красивы, совсем не то загляденье, как на открытках: слишком много шума. Ничего, кроме ревущей воды, что спадает вниз. Во время путешествий я любил посматривать на водопад.
Дядя возил меня на водопады. Мы вместе смотрели на радугу, что остается от водопадов. Дядя смотрел на водослив да все рассказывал (как мне тогда казалось) байки о том, как раньше люди пытались спускаться с водопада. Бросались с крайней вышины, сидя в деревянной бочке; те немногие, что оставались в живых, потом страшно гордились уцелением.
Бахвалились тем, что остались целы. Про них выходили статьи в журналах, а все потому, что они не разбились. Некоторые прыгуны даже повторяли подобный трюк. Я это слушал, считал сказками и не верил; детский мозг уже понимал: кому придет в голову спуститься со скалы в бочонке? Только повзрослев, я узнал, что желающих было предостаточно. Зная любовь парковых служб чистить водоемы, могу только догадываться, сколько обломков бочек осталось неубранными валяться разбросанными на дне водопада и по сей день…
Настала пора нового привала, уже второго за время шествия. Я подмечаю про себя, как этим людям удалось подойти к сегодняшнему «серьезному делу» неподобающим образом: набор различных инструментов свисал с пояса одного из амбалов, у второго болталась сумка. По виду она была пустой и свободно раскачивалась в стороны на ветру. Еще раз убеждаюсь, что мои попутчики “умудренные опытом”, им не привыкать ходить за Марией на задания.
Глаз соскользнул на их одежду ниже пояса, затем я заглянул и на свои брюки… мне было непонятно, что с ними стало не так, но с брюками что-то явно было не так. Взглядом ювелира я осмотрел штанины и понял, что же меня так беспокоило… Я заметил красноватую тоненькую полоску, неглубокую рану размером с ноготь. В ноге тут же защипало. Но вместе с ногой пострадали и брюки, теперь на них останется небольшая проплешина, штопать ее некому, да и незачем. Ссадина на ноге совсем незаметна. Брюками я словно скрыл уже заживающие царапины от колючих кустов.
Множества этих мелких порезов достаточно, чтобы чувствовать боль, без вреда телу. Теперь на брюках останутся незаметные дары, но и это уже серьезный повод приодеть новые штаны по возвращении в город, стоит только позаботиться об этом. Ноги мои практически не болят, только стопы, как и всегда после долгих прогулок, горят и понемногу немеют. Наша предводительница Мария почему-то застыла. Словно у Марии тоже начались беды с ногами. Своим примером застопорила всех, кто шел за ней сзади; наступило время передохнуть и отдышаться.
С каждым днем грунтовых проседаний мегаполисов становится все больше, только ради этого уже стоит повидать все надводные города прежде, чем вода возьмет верх. Заводь перельется во все города, но, к счастью, гораздо позже моей смерти, и медлить с этим никак нельзя. Но я все же рискну отложить это к лучшим временам. А когда наступит пора проседания и затопления городов? Кто бы знал. Жители Калифорнии делают тонны догадок и даже делятся своими догадками со всем остальным миром.
Всеохватывающий процесс радости и развития в отдельно взятых уголках нашей планетарной родины. По правде говоря, я никогда не путешествовал, не покидал Новый-Амстердам дальше Бостона. Никогда не был в Калифорнии и тем более на других континентах, даже университет я выбрал именно ближе к Новому-Амстердаму, чтобы не покидать этот город.
Мне вполне комфортно в моем родном городе, трудно представить, как люди могут ездить в командировки на недели и месяцы или сознательно платить за путешествие и радоваться этому. Путешествие — пустая трата времени и сил. В агломерации Нового-Амстердама проживает каждый четвертый житель Америки, а это около сорока миллионов человек. Все, что мне нужно, у меня под рукой. Познавать заокеанский чувственный мир я могу и через книги с иллюстрациями, картины и рассказы людей. Мне ведь не обязательно путешествовать на Луну, чтобы знать информацию о ней.
Полжизни мне хотят навязать безоглядную любовь к туризму, что это весело и интересно, но я не хочу и никогда не буду этим заниматься. Теперь мне исполнилось двадцать два года, но возраст ничего не изменил. Не появилось никакого желания наверстать не опробованное, заглядываться на неувиденное. Любители путешествий, как Робин, уже смирились с моим выбором пустить корни. Застолбить себя вблизи Бруклина и никуда без крайней надобности не выезжать. Путешественникам все равно невдомек, в чем причина, а я не должен ничего объяснять.
Вот наша орава людей снова в сборе. Разделяться мелкими группками кто куда больше нет нужды. Приходится во второй раз прижиматься друг к другу; Мария, словно погонщик скота, затолкала нас в грузовик. Сейчас все это окончится, и транспорт довезет меня обратно, вернет к цивилизации и всему привычному.
Грузовик без всяких окон отъезжает от троп, по которым я ходил, отдалялся все дальше. Как и в начале дня, мне бесчувственно и душно, благо могу смотреть, куда движется грузовик. Приходится изворачиваться, смотреть только через трещины в кузове; пусть хоть так, но я могу ориентироваться. Мне видны ориентиры, куда именно и в какую сторону нас везут; все дальше проносящиеся виды сквозь трещины не особо помогали.
Удивительно, но сейчас именно запахи подсказывают, куда мы едем, словно я слепой, которому запашки вещей дают больше информации, чем какое-то там зрение. Бруклинские запахи все отчетливее витали надо мной, словно дымка благовоний и ладана, которой неоткуда взяться. Эти навязчивые запахи пахли мне уличной едой и продавцами, что ее готовят. Пахнет передвижными прицепами с хот-догами, попкорном, карамельными сладостями всех видов. К еде неизменно выстроились голодные покупатели: держащиеся за руки влюбленные парочки, желающие купить попкорн, сахарную вату всех цветов радуги и куски залитой сыром пиццы, которую местные жители принимают за особенность ново-амстердамской кухни.
Мне не приходит на ум прождать около часа за своей порцией еды, только если очередь рассосется, а случится это явно не скоро: слишком долга она, и конца ей не видно. Продавцы еды — вот кто главные бенефициары парадов и прочих зрелищ, где полно голодной публики, готовой съесть что угодно, если оно сладкое или залито маслом. Нет никаких сомнений, что у прицепов с едой и временных палаточных киосков нет представлений о стерильности. У владельцев, в свою очередь, нет представлений о санитарных нормах и нет нужды получать лицензию на уличную торговлю. Я даже больше чем уверен в этом, но если их никто не разгоняет, это о многом говорит. Радует, что мне не приходится быть на их месте, стоять за прилавком, только смотреть за их работой со стороны.
Мне кажется, словно на меня подступает нарастающий звук пустоты, неожиданно взявшаяся тишина сдавливает виски, словно беззвучие обступило, опоясало мою голову. Вдруг, когда звуков не стало, члены нашей экспедиции стали тяжко шагать, словно лоси. Беззвучность продлилась минуту, затем испарилась из моей головы, как выпаренная в кастрюле вода. Местные деревья пустили корни вблизи друг от друга. Дальше по тропе деревья все плотнее охватывали лозами все доступное им пространство, закрывая вид на помрачение неба.
Проходя дальше, дорога все больше кривилась и сужалась. Звук шагов стал более редким, а Мария требовала сбавить темп в угоду осторожности. Я понимаю, какими губительными бывают торопливые шаги… На дороге встречаются кустарники и ветки деревьев с шипами как у терновника. Свита Марии все рубит и прорубает путь своими подобиями мачете, размашистыми движениями срубают колючие насаждения, как дровосеки колют дрова.
И кто-то же позволяет этим прекраснейшим людям носить в ножнах свои заостренные мачете. Сейчас даже кухонный тесак купить — та еще задача. Но и такими ножищами особо не помахаешь, ими только стегать ветки да лианы срубать. При должном мастерстве перочинный нож можно припрятать где угодно, на любом уголке одежды; бесспорно, ножам можно найти массу применений.
Я предпочитаю нарезать ножом только овощи и только на кухне. Мало кто из людей использует швейцарский нож для самозащиты, что уж говорить о нанесении вреда людям. Для цели припугнуть подходят почти любые столовые приборы или даже большие руки, только культуристов с большими руками в список запрещенных к проносу вещей вписывать не будут…
Вдруг Мария предложила разделиться, так, мол, быстрее и проще. Одна половина пойдет с ней, а вторая (в которую вхожу и я) пойдет своей дорогой. Мысль разделиться звучала глупо. Впрочем, если каждый осмотрит местность… Так все выйдет куда быстрее, я и сам это понимал и не стал лаяться. Здесь негде потеряться, и все дороги ведут в одну точку, по крайней мере, так доложил один из сопровождающих. Сегодня так много натурализма и пеших прогулок. Пусть пропадут пропадом эти муторные заросли, лишь бы меня пронесло и не зазнобило… а пусть и зазнобит, то только у меня в постельке…
Отдаляясь умом, вспоминаю свой дом, что подарил Брюс, как панорамные окна моей квартиры выходят на, пожалуй, лучший вид в городе. Не будь такой панорамы города, и квартира не стоила бы ровным счетом ничего. Но в этой квартире есть все то же, что и в моей настоящей, сданной жильцам квартире. Там теперь живут мои самые дальние родственники, которые красуются этими видами вместо меня… хотя бы радует, что они вовремя платят арендную плату, и на том спасибо.
Мои тропы сквозь злачные переулки хоть и подвергают меня риску, он и вполовину не так пугает меня, как нахождение у всех на виду. Да и в этих местах все меня давно знают и не обращают на меня внимания. Для них я всего лишь еще одно имя в списке неприкосновенных, пока я не буду творить глупостей.
ГЛАВА 24. ФЕЛИКС
На городских пляжах с годами все осталось неизменным: в любое время на них видно знакомые мне лица. Большинство людей приходят на северные пляжи Бруклина отнюдь не из-за желания искупаться в водах Атлантики: они почти безлюдны, как и вся северная часть острова. Малочисленные визитеры останавливаются, так и не дойдя до вожделенного моря, на лавочках с видом на разбивающиеся волны. В городе множество мест, чтобы уединиться, особенно в рабочее время; но нигде нет той идиллии, тишины и безопасности, которые представляет собой приморье — обширная прибрежная полоса. Парки и сады — это, скорее, публичное место.
Никто из знающих Бруклин, как я, не станет афишировать свои любимые места, иначе лучшие берега и пляжи уже не покажутся такими безлюдными. Со своим принятием морей и океанов у меня такого места вовсе нет. Мне доводилось бывать в подобных местах, но всегда в компании и не по своему желанию. На этот раз я прибыл в Бронкс, но и в Бронксе «моих мест отдыха» я облюбовал в достатке.
Храню и приумножаю холод внутри тела, но жар все не отступал; чувствую, как вены на шее вздулись и пульсируют от удручающей меня усталости. Мне надолго удалось забыть, каким порой холодным бывает морской ветер, когда проходишь вблизи океана ночью, вдобавок с подветренной стороны. Стало быть, сама природа меня моросит, охлаждает, и я начинаю ждать волн посильнее. Волн той высоты, что достанут до меня, и морская вода обольет всего, тогда меня точно не будет донимать жара.
Проходив десяток минут, я все ожидал, когда смогу получить воды в лицо и промочить одежду волнами сверху донизу, но этого пока не случилось; не заметил, как прошел всю береговую линию. Никакого прибоя так и не произошло. Мой морской душ не сбылся, отчего мне стало малость обидно; я продолжил свой изначальный путь сухим и чуть остывшим.
Дома на склоне холма не кажутся мне знакомыми, но, увидев между домами знакомые стволы деревьев, я уверился, что иду в правильном направлении. Почти дошел до нужного места, но в округе никого; придя на оговоренную точку, мне представился безлюдный пейзаж. Стало быть, я заявился раньше всех. Часов, дабы убедиться в этом, на мне не было, оставалось только догадываться, в котором часу я пришел; солнце еще не зашло, и ничего не намекает мне о наступлении вечера.
Смотря в гладь реки Гудзон, я замечаю все, кроме своего отражения; для меня в реке отражается только отзеркаленный вид всего прибрежья, но дома, что за моей спиной, выглядят вовсе не так, какими видятся в водном зазеркалье. Мне не исправить и не изуродовать отражение в воде, оно лишь отражает действительность; чтобы ему навредить, следует извратить самого смотрящего.
Скорее, мне видится тот неповторимый город, который я хотел видеть и где хотел прожить в одиночку — только я и этот золоченый город. Если такой сумеют построить, он несомненно будет самым обновленным городом. Где архитекторы выстраивают смелое видение на макетах и вырисовывают на чертежах свои города мечты, наперекор всем неидеальным городам; где не будет места массивным зданиям и упирающимся в небосвод высотным шпилям.
Архитекторам предоставят толпы исполнительных строителей, что будут ждать указаний. Сумеют по указке замазать и залатать все шероховатости, огрехи и неприятности города. Плохие времена не раз прошлись стальным катком и хворями по Новому-Амстердаму как оплоту богатств. Каждый раз это заканчивалось полным восстановлением и возрождением города, и даже очищением всех лачуг, в которых селились нищие.
Созерцая воду и ее отражение, я не заметил, как нарушилась моя ориентация во времени; время стало явлением весьма условным, как у резвящихся детей, что в зоопарках смотрят на зверей. Мои мечтания до единой вылились в реку, где даже в конце мая местами еще не оттаял блинчатый лед, словно я пробитый бочонок, что полон масляных красок. Даже если я единственный, кто видит на дне воды нечто бестелесное и неосязаемое, мне нет до этого дела. Сейчас действительность ничего не значит для меня, как и в любой другой из дней.
Сколько бы я ни смотрел в столичные воды, Новый-Амстердам вовсе не одинок в своем уродстве: столько в мире мерзейших городов. Бостон, Филадельфия, Новый-Лондон и иже с ними партнерские города имеют те же несовершенства, только в своих местечковых масштабах.
Стоя на берегу, мне только и остается делать, что присесть, зажать в ладонь жменю плоских гладких камней, что разбросаны по всей набережной вместо песка. Набрав, поднимаюсь и во всю силу швыряю камни в гудзонские воды: брошенные булыжники тонут и оседают на речном дне. Часть камней даже скачет по воде, прежде чем потонуть. Вышвырнул все камни, что набрал, и привстаю на колени, осматриваюсь во все стороны, убеждаюсь, не проходит ли кто из прохожих мимо меня, и понимаю, что поблизости на этом подобии пляжа, кроме меня, больше никого нет.
С колен я снова присаживаюсь на отдающие холодом, но сухие камни. Стоило мне сесть, как на меня нахлынуло неисчерпаемое изумление от, казалось, давно виденных пейзажей — теплое наслаждение природой, только и всего. Я не в силах противиться этой красоте, как и сдержать слезы. С меня не стекают ручьями слезы, пара слезинок намочили ботинки. Солнце уже садилось за горизонт, это дало мне сигнал найти трубку, набрать транспорт и наконец вернуться к привычным вещам, уже в жилище…
Беспричинное человеколюбие — то, что принимают на веру без оговорок, — давно покинуло мир, если когда-либо существовало. Соблазниться идеей прожить жизнь… Чувствовать, как маски зла накрепко надеты на людей, и стоит смазать лицо мылом, как все лишнее соскользнет с лица и ударится об пол, разлетевшись на кусочки. Но никаких масок нет, снимать нечего. Это все равно что попытаться избавиться от бровей, мочек ушей или арки купидона.
Только недавно смотрел на реку, на свое отражение в реке, и что с того? Увидел ли я в этом отражении себя, не испугался ли я своего вида в отражении? Понимаю, насколько эта мысль абсолютная бессмыслица, но углядеть себя без зеркала, в чем-то по-настоящему природном — совсем иное ощущение; вода лучше придает людям всю людскую несовершенность. Ту несовершенность, которую так страшно видеть в людях и самом себе. Не знаю, как господа могут бояться высоты или темноты, но я всегда боялся идеальных людей: ничего в них не отражает меня самого, словно я упырь и вовсе не отражаюсь в зеркале. Но не об этом я хочу думать… Мне слаще думать о студенчестве.
Студенчество — пора довольно зыбкая; всем сорокалетним на ум приходит расспрашивать меня о студентках. Все эти вопросы: «Скольких студенток я смог уложить в постель?» — в разных формулировках, но я на них никогда дельно не отвечал. А было что и ответить…
Лицо полностью стерлось из памяти. Мне хочется думать, что никогда его не видел; смутно вспоминаю только веснушки и светло-рыжие волосы, зализанные гелем в гребень. Прическа настолько не подходит его коробкоподобной голове, словно волосы пересажены с другой, более вдумчивой головы. Отчетливо помню только волосы, и никаких черт лица. Имени ее я так и не спросил, мое она так и не спрашивала; она просто повела меня в комнату и сама сделала все, как посчитала нужным. Не знаю, был ли я в тот момент подконтролен разуму или только мое тело привычно переняло управление на себя.
С той поры мне ни с кем не приходилось делить кровать, словно после той ночи мне и нет нужды в других женщинах. Есть люди, которые курят за жизнь только одну сигарету, понимают, что это создано не для них. Остаток пачки попросту раздаривают всем желающим взять. После первого раза я растерял всякое влечение к плотским утехам, да и первый раз был только по обязаловке, дабы, пока все ловили зубами яблоки в бадье с водой, и я за компанию поймал хотя бы одно.
Если коллекционеры женской любви хвалятся первым постельным опытом, то мне тошно и от того, что у меня был всего разовый опыт, который я могу охарактеризовать как одну из худших минут в жизни: невероятно большая цена как для минутного валяния на матрасе. Мне этот момент кажется большим видением, просто белой горячкой или сном, чем реальностью… Алкоголь слишком манит любого рода иллюзорность. Иллюзии счастья и алкоголь — почти тождественные понятия; в студенчестве я пил, заливался ликерами и спиртовал организм куда обильнее, мог залиться ромом до поросячьего визга.
Весь смысл прошедшего импровизированного проникновения Марии так и остался для меня непонятной тайной. Все прошло в лучшем виде, через месяц-другой цель нашего визита будет доступна и мне, но не сейчас. Мария была в полном восторге от происходящего. Единственное, что я схлопотал от этой вылазки, — это (в меру) разодранная нога… но тот день мне запомнится…
Пробуждается желание отложить подобные дни в памяти как можно дольше. Моя черепная заначка воспоминаний постоянно пополняется, но никакой пользы от такого накопления нет. Разумение способно только утяжелять мозги обрывками когда-то увиденного.
Когда-то и я был совсем другим, и эти воспоминания принадлежат тому мне, который давно почил и больше не проявится. Мне приходится их хранить. Те дни давно себя изжили, но и забыть о них я тоже не в силах. В последние пару месяцев, как усоп Брюс, трель и звуки прошлого стали особо настойчивы, приходят во множестве неподходящих ситуаций, но всегда прекращаются. Выходит странное подобие закольцованной ловушки. Но назревают новые дни, что также принесут за собой немало воспоминаний на остаток моей жизни.
ГЛАВА 25. РОБИН/ФЕЛИКС
РОБИН
Брюс был достойным управленцем с нетипичным для его вида образованием и происхождением; родись он на десяток лет раньше, его кандидатуру отсеяли бы, даже не рассматривая. Вдобавок посчитали бы за молокососа-выскочку с непрофильным образованием, банкира.
Внутри я понимаю, что не каждому банкиру с гуманитарными замашками предоставят должность управлять обеспечением и логистикой важнейших артерий города. Недаром Новый-Амстердам — город, что полон возможностей до такой степени, когда любая кухарка может им управлять, или, как в примере с Брюсом, каждый повар.
Из выходцев приватных колледжей, где Брюс учился, было достаточно выпускников, что тоже стали мэрами, но которые добились куда меньшего. Остальные сокурсники факультета заняли мэрские посты в маленьких и средних городах на берегах Великих озер и своими указами вскоре превратили забытые края в зону отдыха для стариков.
Пока, в свой черед, Брюс покусился стать мэром… и вправду стал мэром крупнейшего города мира… Это не умаляет ничьих заслуг, вовсе нет. Верю, что Брюс ближе к старости охотно бросил бы все и поселился незнамо где. Вечерами ловил рыбу с друзьями детства. Не имел возможности посещать веселье, пока был мэром; друзья отвечали ему тем же. Впрочем, как выяснилось на практике, Брюсу помереть на курорте не судьба. Рассматривая длительную историю его жизни, мне так и не удалось выяснить все до конца: удалось ли старику Брюсу исполнить желаемые планы. Это не вызывало сомнений ни у кого, кого я знаю.
Сопоставив в уме классические формы успеха, мне не приходят на ум его провалы, а все необходимое для жизни ему далось еще с молоком матери, да и умер вовсе не у помойки.
На курортах Великих озер всегда можно видеть отставных чиновников, валяющихся на солнце, гордящихся своим добровольным отходом на пенсию. Отойдя от дел по естественным для пожилых людей причинам, они могут рассчитывать на щедрость бюджетных средств и не ограничивать себя в тратах. Такая традиция подкармливать и подталкивать стариков не задерживаться на постах до смерти работает, и работает больше как дом престарелых или крайне мягкая ссылка с шелковыми простынями и сотнями сиделок. Что сказать… благородная старость стала доступной как никогда; уже не оставалось людей, для которых пятьдесят лет казались преклонным возрастом. И сталось это за каких-то шестьдесят лет. Да и условия этой продленной старости уже давно не так плохи, как раньше.
Когда Брюс еще был здоров, одним днем я застал его на кухне с письмом в руке; его полуживой вид и убийственно-бледное выражение лица… Брюс смотрел на меня и не отпускал сверток бумаги из рук… Сперва я думал, что его недомогание было как-то связано со мной, но если и так…
Должно быть, это поистине была не просто ошибка, но по-настоящему непростительный проступок. В свою очередь, мне оставалось только застыть, не понимая, что тем утром я успел натворить не так. Как следует подумав, я только лишь еще больше запутался: он так ничего мне и не сказал и не ругал.
Больше десяти лет прошло, а мне не открылась тайна, почему тогда Брюс был такой убитый. Допускаю, что Брюс был таким убитым вовсе не из-за меня: на таких молчунах, как Брюс, щеки редко слезятся. Я бы и вовсе не отложил тот день в памяти, но именно после того взгляда исподлобья во все последующие дни он стал словно сам не свой. Словно в Брюсе пробудилась та самая болезнь, которая в конечном счете его и сгубила…
Брюс стал все больше болеть и дряхлеть. Джун наслала на Брюса своих прихвостней-сиделок, которые нянчились с ним. Кто знал, что Брюс станет одомашненным таким несколько трагичным образом. Откормился теплым пряным имбирным печеньем по маминому рецепту, которое теперь готовит женушка (или только говорит, что готовит). Руководить благосостоянием города можно и с упругого дивана, это всякий раз лучше кожаного офисного кресла.
Стены дома окутают, словно пелена младенца. Мне начинает казаться, что я только рад за постепенное выгорание Брюса. Брюс мог сотрясать воздух по телефонной трубке и подписывать авторучкой стопки документации прямо из палаты.
Конечно, даже в мои двенадцать лет Брюс уже был, что называется, «человеком в возрасте», а когда отращивал косматую бороду, то она была белой от седины, как пуховый снег. Сколько бы я ни думал о Брюсе и его болячках, это не дает никаких ответов. Знал ли кто-нибудь о его состоянии и проходил ли Брюс лечение? Порядки в семье прививали идею: «Каждый решает свои проблемы сам — своими силами». Какими недюжинными силами ни обладал Брюс, он сумел сгореть от болезни так быстро и так неожиданно… болезни скосили слишком многих людей, а мне есть дело только до смерти Брюса…
Я уверен: старушка Джун найдет себе место, она давно научилась не привязываться к ближним, а чужим и подавно не остается ничего другого, как доедать остатки внимания прекрасницы Джун. Джун еще всех переживет…
Джун как заместитель мэра и второе лицо в городе заблаговременно завела отдельную тетрадь, где в длинный столбец выписывала инициалы людей, с чьим мнением не стоит считаться. Я помню все слишком туманно, но все преуспевающие дельцы Западного побережья в этот список точно попали. Сложилась пристрастная ситуация, когда владельцы крупного бизнеса отказывались от сотрудничества и выгодных контрактов из-за черного списка у Джун.
У нее было полное право самой определять, кто достоин быть в черном списке, а кто вполне подходит, чтобы быть желанным партнером города. К тому же про этот список никто не распространялся, и калифорнийцы ломали голову: «Почему в Новом-Амстердаме и прилежащих к нему городах с ними не хотят иметь дело?»
Наступивший мировой кризис принудил обанкротившихся жить наравне с прочими жителями города. Так продолжалось до повсеместного поднятия черни до полноценного статуса порядочных граждан. Уже в следующем посткризисном году положение их дел даже самую малость окрепло. Отмытые бедняки только уверились в кормящей и спасательной руке «представителей воли народа» или, переводя на человеческий, «городских чиновников».
ФЕЛИКС
Брюс действовал наверняка и всюду брал с собой весь припасенный инструментарий из знаний. Брюс никогда не полагался на простое везение и не привык полагаться на интуицию; незыблемо применял проверенные схемы, а не пытался забивать гвозди микроскопом.
Брюс сотворил приемлемый во всем уровень жизни: самым несговорчивым и неблагодарным скептикам его мэрства показывал статистику, в каких прекрасных условиях они как горожане Нового-Амстердама родились и выросли, а указания на мелкие недочеты властей — лишь надуманные поводы сеять беспокойство. Готовых жить так же намного больше, чем подготовившихся терпеть ради призрачных перспектив перемен к лучшему. Возможно, в этом и кроется причина, почему великосветский Брюс сумел настолько зарекомендовать себя как народного любимца.
Проходя мимо витрин магазинов, я могу то и дело замечать портреты Брюса. И эти портреты в самом деле кто-то покупает, кто-то, кто желает сохранить память о мэре, ушедшем из жизни. Тяжко будет смотреть, как память о Брюсе как о славном мэре медленно угаснет и забудется.
Определенно, любое грязное белье Брюса и Джун с годами вскроется и выстирается: любая интимная информация, которую не следует предавать огласке ради общественного достояния. Потаенные секреты помогут спасти Брюса от всеобщего забвения. Пускай обсуждают нашу семью Грантов. Осыпают самыми едкими комментариями и глумятся над репутацией нашего рода как только пожелается, лишь бы не забывали.
В династии Грантов я лишь крошка и пылинка. Но насколько незначителен я бы ни был, быть родственником Брюса — человека, которого знают и уважают миллионы… Обо мне вспоминают только в паре с Брюсом, будто я не его пасынок, а сиамский брат-близнец. Излишнее навязчивое внимание несколько смущает и бросает в краску. Но с годами этот шквал внимания принимается как должное.
Великий кризис был тем шумом, что эхом раздался по всему Новому-Амстердаму и стал последним из «старых дней». Первые дни кризиса проходили как обычно, и паника оказалась дутой. Брокеры обанкротились, да и черт бы с ними, только после уик-энда настал понедельник, что не оставил никаких сомнений.
За считанные часы цены акций крупнейших компаний уполовинились. А те акции, что можно сбыть хоть за треть цены, быстро меняются на деньги; этим брокеры только подписывали банковскую панику. Чехарда с происходящим была еще та, неразбериха во всем; разве что консерваторы по старинке предложили заливать проблемы золотовалютными резервами.
Простые люди, что держали деньги на банковском счету, вдруг ринулись обналичивать деньги; простояв часовые очереди в банк, кому-то удается разжиться их накоплениями, многие же уходят ни с чем, поскольку ни один банк не способен и не имеет возможности в один день выплатить вклады стольким вкладчикам. Кто жил в те первые дни, должен был действовать впопыхах, почти на автоматизме, пока была возможность не остаться ни с чем. Я смотрю на это спустя неполных шестьдесят лет.
Могу понять, каково жить с розоватым доверием к банкам. Обывателям представляется, что банки только и существуют, чтобы сберегать деньги от грабителей и начислять проценты по вкладам. Но вот приходит тот самый день, когда банки штормит, а вернуть честно нажитые деньги не выходит, словно финансисты исподтишка бьют своих клиентов обухом по голове. Бароны-разбойники забирают все деньги себе и попросту отказываются их возвращать.
Незадача утряслась, решилась через четыре месяца: пожар кризиса не разросся до мировых масштабов. Стал местным форменным американским несчастьем. Людям требовалось спокойствия, колыбельного успокаивающего голоса, что собьет тревожность, как больной сбивает жар. Нельзя абы кому доверить успокаивать народ, и Брюс оказался достаточным претендентом на эту роль.
И ведь все мэрское начало Брюса началось именно с того самого пятиминутного радиообращения… Никаких полномочий начитывать по радиоэфиру самосочиненную речь Брюс не имел, но произнес ее, и еще как произнес. Эта речь произвела настоящее впечатление на городских отчаявшихся и оказалась именно тем, что горожане хотели услышать; за такое самовольство выговор ему никто не вынес. Тогдашний мэр никаких превышений должностных полномочий в его действиях не нашел. Прежде заместителям мэра выступать перед радиослушателями никто не давал. Представившись перед началом той злополучной речи как «С вами говорит Брюс Грант», его имя осело в подкорке слушающей аудитории, а это миллионы пар ушей.
С того времени члены «Спасательной команды города Брюса» зарекомендовали себя лучшим образом; их наследие пережило проверку временем и стало достоянием. Для жителей города потребовалось немало времени, дабы признать в этих людях не просто белых воротничков, а сборную солянку из умелых умов: именно тех, за кого они себя и выдавали… По прошествии лет их временный особый комитет уже перестал быть просто временным явлением, а Брюсу как мэру удалось уйти, задержавшись на посту дольше всех остальных мэров до него.
В первые годы правления Брюса из повестки дня исключалось отвращение к остаткам отребья-беспризорников, что так противятся вычищению их из виду туристов и видимых мест крупных городов. Вопросов не возникло, и подбирать уличную шпану в ученики вошло в обиход. Вскоре это стало хорошим тоном. Молодые вышибалы питейных заведений атлетического вида почти поголовно прошли через жернова получения квалификации малолетних детей-преступников. Сейчас я иду бок о бок с выпускниками этой компании и их беловолосой предводительницей.
Защитные организации стали собирать против Брюса различные петиции, подавали обращения в суд. Каждое из обращений обернулось в пользу Брюса; судьи оправдали обвиняемого, чем лишь подкрепили мою мысль о том, насколько клевета может быть похожа и перепутана с правом на свободное выражение мнения. Как все-таки важно эти вещи различать.
В попытках надавить с новой силой недовольные люди уже было собрались подать единый коллективный иск. Но дело удалось урегулировать в досудебном порядке… Конечно, было и немало людей, готовых отдать за голову Брюса на подносе все что угодно, но и защитников было немало. Его долгая жизнь показывает, кто был прав; претендент, выбранный как компромиссная фигура, пережил и превзошел всех своих наставников и поручителей.
Возможно, триумвират — Джун, Брюс и Дядя — и вправду контролировал большую часть Восточного побережья Америки, но если и да, всем все равно. Безусловно, польза от франшизы покрывает всякого рода издержки. Вопрос о новом мэре был исчерпан. Все переговоры и компромиссы, которых пытались достигнуть, — не более чем отвод глаз и постановка, а все вопросы решены еще задолго и согласованы. Остались только формальности и пожимание рук на публике.
Помню, как Джун сама рассказывала о прошлом (всамделишном и не очень), о тяжелейшей работе, тяжелее которой быть не может. Ведала о своей должности «заместитель мэра», но ее взгляд на ситуации казался мне однобоким, хотя вполне разумным. Если какой-то аргумент слишком звучный и неоспоримый, это уже звучит как наживка и обман. Я бы и рад противиться ее точке зрения, только делал это про себя; в моих с Джун мыслях слишком мало отличий, поэтому вслух я только соглашаюсь с ее видением мира… я и убежден, что Джун способна говорить правду только себе (и то не факт).
В то «стародавнее время» центр города был подвижнее; большая часть городской жизни продвинулась дальше на север, пустующие дома потеснились — сравнялись с землей. Те строительные компании, что сносили дома, выполнили свою задачу, а как приятный бонус в довесок прибрали в собственность большую часть прибрежной полосы города. Только крановщикам с высоты башенного крана были видны ощутимые изменения в облике верхних кварталов. Районы, что выше по течению реки Гудзон, эта северная часть города, вовсе казались как пристройка к самому городу или очередное поглощение мегаполисом новых территорий.
В действительности от успешных попыток состарить новое под старину многие новые здания казались куда старее настоящих старинных домов. Эта застройка и стартовала как возвращение архитектурным изыскам праотцов. Похоже, сейчас многие дома и будут строить с поддельной старостью… Отыграться на полную застройщикам не позволяет множество вещей, в первую очередь ландшафт и теснота самого Бруклина.
Варианты, как превратить Бруклин в приличное место для жизни, все пополнялись. С уверенностью можно сказать лишь, что пресноводные реки для всех участников были в почете. Все взгляды инженеров и проектировщиков были направлены на пролив, разделяющий любимейший Столичный остров и спальные районы Бруклина.
Голосовать ногами, переезжать из Нового-Амстердама в пригороды (прихватив с собой все накопления), оказалось достаточной причиной для принятия мер по созданию «Благоприятной городской среды» и улучшения состояния ветхого жилья. В пору Великого кризиса весь Бруклин к востоку от центра был усеян домами-самостроями; как только Брюс стал уполномоченным мэром, все ветхости срыли за считанные годы… от хибар так торопливо избавились, что строители даже опередили намеченный срок.
Брюс решил «ставить на зеро»: создать для избранной строительной компании все невозможно хорошие условия; ситуацию, когда инстанции не давят, не назидают, ничего толком не контролируют. Все строительство происходит как бы само, самотеком. Никакого очерченного замысла не было, но все архитекторы будущего знали, чего они хотят и как этого добиться. На начальной стадии это проявилось в полной мере; чем дальше продолжался этот коллективный рабочий процесс… Насколько процесс замечателен ни был, на удивление, от этого ошибок меньше возникало.
Рабочих рук не хватало, и причастные к проекту инженеры сами напросились работать выше нормы. Работа не обещает затянуться надолго, и уже к субботе все смогут подытожить результат. Ничто из сверх норм не входит в их прямые обязанности, но потребность держаться ближе и заметнее для начальства в пояснении не нуждается. Реалистичный сценарий будущего, где каждый проектировщик займет место у управляющего всем проектом. Конечно, верхушка командования знает друг друга со школьных скамей, получали одни и те же отметки в академии, но один из них равнее и главнее братьев по циркулю.
Позже взялись и за любое «ветшающее жилье», и вслед за Новым-Амстердамом и Бруклином прибрежные атлантические города не могли похвастаться домами старше конца девятнадцатого века. Подобное перестраивание облика города воспринималось как благо. Особенно для городов, куда облагораживание пришло с таким запозданием. Сейчас разве что Бостон может похвастаться неподдельным наследием предков. Ничто так не мотивирует к капитальному ремонту дома, как шаткий пол и возможность провалиться; то же можно сказать и о городах.
Жестокость с улиц в полной мере исчезла и свелась к абсурду и постановочным дракам; актерам платили деньги, и легавым — все счастливы. Даже до Джун это не считалось новшеством. Но подобные представления на публике имели свой эффект. Следовательно, нужно, чтобы шоу показного насилия продолжалось на потеху смотрящей публике.
Брюс умел умолчать о многом, да так, что это умалчивание не вызывало расспросов; в роду Грантов молчаливость и недосказанность была привычной традицией старой аристократии. Традиция, привезенная вслед за собой первыми членами династии, что сумели обжиться в предместьях Бостона…
Джун, напротив, всегда говорливая, любила поболтать, пошерудить, высмеивать кого-либо, кроме своей персоны. Любовь, казалось, была для Джун отдушиной и хобби, которое она отбросила только когда стала первой леди города. Когда во время разговора упоминают ее имя, этот эпизод вечнозеленой молодости вспоминают меньше всего. Конечно,
Джун занималась этим и до известности, но кто может свести разговор о некогда блестящей карьере к такому зловредному развлечению актера после работы? За пределами сцены и эстрады артисты только тем и заняты, что копаются в грязном белье друг друга; стоит мне отыскать любого честного выступающего на публике артиста (что уже будет крайне трудной задачей), он с легкостью подтвердит такую особенность профессии. Впрочем, и не все танцовщицы в конечном счете становятся женами не плотников, а акул бизнеса, как Брюс.
Толстый поток недомолвок по биографии бабули откроется, подобно капсуле времени, только после упокоя Джун. И мне уже не терпится его увидеть не из-за ненависти к душечке Джун, но из обычного человеческого любопытства: на всех крупных политиков есть компромат. Черное досье, которое не дает жить на большую ногу. Худшие моменты биографии становятся общедоступными, стоит только не считаться с вышестоящим руководством. Пожалуй, у Джун таких папок не меньше сотни, и каждая из них толще предыдущей.
ГЛАВА 26. РОБИН/ФЕЛИКС
Если взять все преуспевшие семьи с их успехами и «мою» семью Грантов в частности, наблюдателям со стороны есть много чему позавидовать. К тому же Гранты — плодовитый род, только плодятся Гранты за счет приемных детей (вроде меня). По нынешним временам я вырос в по-настоящему огромной, а если брать в расчет всех бесконечных далеких родственников — тех, что называются «по касательной», и десятки раз разводящегося Дядю, — то в громадной семье.
Однако у меня нет в живых ни одного кровного родственника, и я по-прежнему остаюсь именно что сиротой-подкидышем. Аристократические замашки старой Англии вполне приемлют и благоволят пополнять семейное древо такими чудными детьми, как я, чьи родители куда-то запропастились, да и, по существу, уже давно как померли…
Пусть мое воспитание было не из худших, вся та необязательность и тягомотные замашки «образовываться и просвещаться» живут и здравствуют… слишком много времени тратится на подобную несусветную воспитательную чушь. Глупо водить недорослей в театр кабуки или, того хуже, в оперу… Помню, как меня пытались водить по операм, а я и одного слова разобрать не мог. Только сожалел, что при входе в опереточный зал не выдавали беруши.
Пока я терпел выступления оперных артистов, у людей на соседних местах выступали скупые слезы счастья. Некоторые неприкрыто плакали, когда понимали, что выступление подходит к концу; для плачущих оперный спектакль был больше, чем концерт. Опера давно стала гастрольным явлением, оперные певцы ездят в туры нерегулярно и ненадолго, поэтому никто наверняка не знает, достанется ли им место в зале.
Мне удавалось под принуждением попасть на четыре оперных концерта, и они не произвели на меня никакого впечатления. В силу молодого возраста театр воспринимается как скучнейшая камерная симуляция жизни. Растянувшаяся пантомима, не имеющая ничего общего с реальной жизнью, где актеры переигрывают и сами понимают, насколько глупо выглядят. Антракт позволял облегчить такое негодование, и лично для меня походы в театр стали вариацией шведского стола.
И помогал ли такой культурный досуг отбить желание разбазаривать фамильные деньги? Для еще сохранившихся династий внуки — всамделишное проклятье: собираешь и приумножаешь капитал, воспитываешь сыновей, те вырастают и воспитывают своих сыновей, которые рушат все планы и пускают бизнес по ветру. Нажитые сокровища и сверхдоходы идут не на пользу, а быстро проедаются, пока на счетах не остается околонулевая сумма. Но и если внукам не достанется никакого наследства, это не сделает им одолжения. В итоге недовольными останутся все: те, кому наследства не досталось, и те, кто, получив наследство, остался ни с чем.
Регуляторные органы только пожимают плечами и не карают за растрату своих же богатств: в любом случае транжирство подпитывает экономику. Эти деньги аккумулируются и найдут лучшее применение. Даже самый последний человек в мире поймет, что дело не должно складываться подобным образом, но ничего не поделать, разве что похлопать этому в ладоши. Так и проходит процесс, когда наследственные качества сходят по нисходящей, а лучшие черты «хорошей генетики» с годами все заметнее стираются. Хотя во многих богемных детках все еще живет изрядная кровная доля своих недалеких (во всех смыслах) предков.
Все попытки сохранить давнюю династическую родословную наивны, тщетны и вызывают обратный эффект; немногие отпрыски готовы ограничивать круг общения, избегая кривозубых крестьян, раз уж снобские круги не считают их за своих и не пускают к себе. Старшим в семействе лучше лишний раз не затрагивать тему сословных различий, которые потомки прекрасно осознают без всяких слов.
Тяжба продолжалась годами и даже не думала заканчиваться; такая братская грызня стала постоянным кошмаром для личных адвокатов, что никак не могли разрешить сложившуюся семейную ситуацию полюбовным мировым соглашением. Окончательно разрешить спор: «кому же достанется имущество их предков». Судебные тяжбы все затягивались, покуда Брюс, как один из братьев, не выбыл из претендентов на наследство по причине смерти.
В чем ценность их «братского неделимого земельного участка», остается для меня загадкой. Чем им так приглянулся этот участок? Да, на нем стоит разваливающийся деревянный дом, который когда-то был пригоден для жизни. Как по мне, так такой ветхий с виду дом вовсе не стоит тех денег, что были потрачены на него в суде. Все время судебных тяжб дом так и простоял опечатанным, и это не помешало мне в одну из ночей проникнуть в него. Зайдя внутрь, я не заметил никаких следов вандализма, словно все сохранилось в том виде, в котором его в последний раз покидали. Внутри от мебели не осталось и следа.
Можно подумать, наследство — лишь повод. Их взаимная терпимая ненависть и конкуренция «брат — брату» давно должна была окрылиться в нечто большее и насладиться этой ненавистью друг к другу. В сущности, это единственная внятная причина, почему все три брата не разбрелись кто куда. Конечно, миллионы братьев тешат себя целью держаться вместе как семья до конца, преодолевать все неурядицы и по мере возможностей подавать руку помощи; обычно те, кто затевает подобное, остаются по локоть безрукими.
Кто хочет свободы от семейных уз, собирает чемоданы, не возвращаясь, уезжает с семьей в другой город и оседает в местах подальше от Нового-Амстердама и новоамстердамцев. Брюс имел право на ошибку, чем непременно воспользовался в самый подходящий момент. Обстоятельства часто вынуждают браться за дело, о котором без причины даже думать лень, не то что выполнить.
В ушах слышна та самая танцевальная мелодия, а перед глазами проносится, как Брюс и Дядя сцепились руками и стали плясать под музыку, прижимались лбами и целые минуты пялились друг на друга покрасневшими глазами. Это могло продолжаться довольно долго, но их не разняли неравнодушные зрители этого бодания братьев под музыку. Увы, именно в тот момент меня заболтали разговорами, и шоу, как братья прижимаются лбами, почти прошло мимо моих глаз.
Они и были в неком роде горделивыми оленями, что не прочь пободаться и всегда наготове выставить рога (вовсе не для красоты, а чтобы с разбега нанести упреждающий удар). В моменты, когда мне приходит в голову сравнивать родню с дикими зверями, уместно сравнивать только с хищниками… олени отнюдь не хищники и носят рога для защиты, как дикобраз носит свои иголки, чтобы не быть съеденным. На их фоне я лишь робкий боязливый олененок, даже, скорее, косуля. Это было еще до той поры, когда братья свели связи на нет… не общались даже через телефон и не обменивались поздравлениями.
ГЛАВА 27. РОБИН
Перечитываю бумаги Брюса. Те бумаги, которые я успешно «позаимствовал» из хранилища. Пытаюсь присмотреться повнимательнее к письмам желтейшего цвета. Содержание все не меняется: на каждом из писем написан только бессвязный, ничего не значащий набор цифр, все эти пляски чисел в разном порядке.
Написанные слова полны глупых предрассудков и весьма отражают дух времени; к счастью, слова писались на печатной машинке, и мне не придется расшифровывать почерк. Видно, что автор писал о чем-то важном, почти неизъяснимые мысли проносились быстрее, чем рука способна написать, но так и не сумел завершить мысль до конца. Предложения прерываются на полуслове, и идут все новые темы, словно слова были напечатаны в алкогольном бреду или в не спавшем долгие сутки состоянии рассудка. Мне доводилось писать как не спавшим, так и выпившим бутылку за бутылкой вина за раз, поэтому подобный способ письма нахожу весьма знакомым.
По мере прочтения становилось более понятно и интересно, но никакой стоящей информации в памяти не отложилось, одни мысли-изложения. Я копошился в бумагах, перелистывал уже прочитанные страницы в надежде, что часть написанного недосмотрел, прочитал по касательной или потерял из виду, но так ничего и не высмотрел. Как я и предполагал, текст, оставленный Брюсом, в самом деле заурядный, и зачем только его дневник положили к другим ценным документам под охрану?
Эти бумаги слишком долго пролежали под замком, пора сдуть пыль и прочитать отложенные знания. Написанное полно глупых предрассудков, отражает дух времени; хорошо, что текст напечатан на машинке, а не написан от руки. Автор писал о первоочередно важном, но так и не завершил мысль: предложения обрываются на полуслове, новые темы всплывают, словно все писалось в алкогольном бреду или после бессонных ночей. Я знаком с таким стилем письма, сам писал и пьяным, и невыспавшимся. Читать интересно, но никакой ценной информации нет — заурядный текст. И зачем его держали под такой охраной рядом с действительно важными документами?
Если всевидящая старуха Джун узнает, что я в это влез, вычеркнет из завещания и выставит из всех планов, которые сама для меня придумала… Хотелось избежать проволочек, но ничего не выйдет: стопки бумаги все еще легковесным грузом лежат, покрытые жирным слоем пыли, их никто не касался с апреля. Взявшись за работу, мне удастся выполнить ее за пару часов.
Набравшись терпения, работа прошла гладко, и через чуть больше часа бумаги были заполнены и разложены. Перелистывая стопку листов в руках, я насчитал ровно сорок. Остаток дня я уделил своим нуждам, по большей части дожидался его конца, когда смогу проснуться и уже с утра избавиться даже от намека на документы в своем шкафу.
Может, это и означало для написавшего важную информацию, но для меня эти пожухлые письма сейчас сгодятся только на розжиг костра. Стало быть, письма никому настолько не нужны, что их и засунули в эту папку по ошибке. В порыве критики перелистываю, перепроверяю… как бывает тяжко листать собственный черновик. Я как мог поднатужился дать беспристрастную оценку своим тогдашним мыслям, которые я удосужился оставить на бумаге. Глазам не верю, насколько мне в те годы недоставало личного опыта, от всей писанины отдавало фальшью… но только если сравнивать с моей теперешней манерой писать.
И вот это свершилось… спустя столь долгое время я прочел от корки до корки эту исписанную толстую тетрадь, которую я ласково называю «черновик», и ровным счетом не нахожу в своей «пробе пера» ничего достойного порицания; да, по-ребячески и неумело, но порицаемо ли? Нет. Да и что означает «порицаемо»?…
Приевшееся мерило качества неисправно и явно подкручено; обманчиво доверяться испорченным весам или стрелкам разбитых часов, что уже который год показывают одно и то же время. Своеобразное занятие — смотреть, как деятели искусства пытаются очищать зерна от плевел; затем идут ожесточенные прения о том, кто очистил и отделил более правильно. Мне ясно одно: среди шедевров литературы полно простого перевода бумаги впустую, писанина, чье место только на свалке истории.
Лучшие книги, которые все эстеты так ставят в пример как высоты человеческого словосочинительского мастерства, — сшитые в твердый переплет куски бумаги, что заполняют полки и неспешно плесневеют. Странно думать в таком ключе от писательского ума… но никак по-иному думать не получается… Выходит, даже легендарный статус уже не спасение от ненужности и забвенья? Пожалуй, что да…
Мне радостно от того, что этот тубус прячет в себе мой писательский стыд. Сейчас от той юношеской неумелости ничего не осталось, теперь я напишу подобный шлак только под принуждением. Помятую тетрадь я свернул в прежний вид и вернул обратно в тубус, дал спокойно себе пылиться еще с десяток лет.
Чего я только не успел достичь своей неоплатной, неоплачиваемой работой. Начал вырисовывать картину моей плодовитости за все шесть лет. Вдруг пробудился интерес: сколько я сумел выпустить в свет? Беру во внимание каждый лист, даже смятые и выброшенные заготовки я спокойно могу ухватить руками и поднять.
На тот момент я делал копии каждого написанного мной текста и каждого выполненного заказа (благо копировальный агрегат был под рукой и исправно работал). Всем работающим на поприще текстовых заказов строго запрещалось делать копии готовых, уплоченных заказов. Я мог легко попасться на запрещенном копировании и испортить себе алиби… но я не попадался.
Пять, может, шесть тысяч страниц от силы. Допускаю, что держу перед собой не все исписанные мною страницы. Послужной список оказался гораздо тоньше и легче, чем я предполагал. Это не умаляло буйства моих сил, что были потрачены. Удивительно, как белые буквы на бумаге способны приносить столько боли автору за такие смешные деньги, которые я получал и радовался, что мне кто-то платит за такое, пусть и такие гроши.
Как говаривают доморощенные профессора (в особенности те, которых я меньше всего желаю слушать), нежелание или даже страх… Литература полнится трагедиями, что на каждой странице полны флегмы и меланхолии. Авторы этих книг отбросили всю свою потаенную гниль, что уже долго подванивала внутри них, точила их жизнь и вымывала все накопленные за жизнь удовольствия.
Их книгу печатают, и их тела пусть и немного, но очистились, как после ленивой уборки. Вчерашние неудачники стали писателями, и теперь им все нипочем. Но мне незачем свежевать себя изнутри и писать литературу, кроме как научную. В моей жизни нет нужды избавляться от гадкого и червивого, которое не выдерживающие боли люди так хотят изрыгнуть. Я хочу сберечь все скверное внутри, оно только мое и точка. Пусть будет так.
Обо мне говорили слишком много вещей, и не было тех вещей, в которых меня не успели обвинить трепачи и сплетники. Оклеветать за время моих разъездов, пускай и вседержащая законодательница Джун несомненно слышит каждое известие в городе. Вопрос лишь, кому, как не ей, виднее, кого и как стоит наказывать?
Но я не намерен отбиваться от всех «бредней», что обо мне говорят. Кто больше всех оправдывается, уже ставит себя в положение постоянного покаянщика, которым я ни капли не являюсь. Придержите извинения для кого-нибудь другого… мне это не нужно.
Мой кредит доверия исчерпан до дна и будет продолжать как якорь погружаться вглубь самой мерзлой проруби. Цепь у якоря оборвалась, и вытащить его на поверхность уже не представляется возможным. Ни одна серьезная компания не решится иметь со мной дело, но я прорвусь через это, а все мои недруги останутся далеко позади.
Мне стоит при жизни засвидетельствовать тот день, когда каждый знакомый ублюдок понесет наказание, и мне уже нечего будет бояться. Это одно из моих самых заветных желаний, которое никто не возьмется исполнить. Это желание живет и в других людях. По-настоящему всем, кроме самых худших из людей, пошло бы только на пользу такое очищение. Сейчас источник всех моих радостей и утешений стал мне еще менее доступным, теперь я даже не знаю, где его искать и не утратил ли я его насовсем? Если и так, то совершенно заслуженно.
Но будь я вправду тем ублюдком, за кого меня принимают, то ничего не мешало сдать этих свиней с потрохами; на часть из них я помню такой компромат, что они уже могут никогда не выйти на свободу. Мои хранилища компромата в голове переполнены настолько, что моих показаний вполне достаточно, чтобы любой прокурор стал настоящим санитаром леса. Сейчас для меня вся их подноготная как туз в рукаве шулера. Победный туз, который я всегда держу при себе. Каждый из директоров по уши замарался по жизни, иначе они просто не смогли бы дорасти до такого титула. А новый компромат на себя я успешно генерирую по сей день.
Покончив со всем, я не жалею о потраченном времени. Что бы ни случилось, от прочтения старых бумаг, писем, тетради и дневника мне хуже не станет. Возможно, разовый приезд того стоил, но больше я сюда ни ногой.
Я еще не пользовался аудиосистемой Марии, но навряд ли звук ее проигрывателя меня разочарует. Сажусь на карачки и выбираю из коллекции пластинок Марии знакомый альбом классической музыки. Его темно-белая обложка со скрипачом, что держит смычок над головой, мне знакома: я уже проигрывал этот альбом сотни раз. Включаю пластинку на проигрывателе. Пускай прочитка этой макулатуры изрядно напрягла мне мозги, пускай музыка поманит на себя часть моих проблем. Звуки музыки нарастают, инструменты сливаются, образуя причудливый мотив, за который я и полюбил эту сотни раз прослушанную песню.
Мой выбор пластинок не так велик, это всего лишь лучшая песня из худших. Пластинка колышется на проигрывателе, как и игла, что скачет по выемкам на виниле. Начинаю слушать песню с начала еще пару раз; минут двадцать спустя пластинка перестает крутиться, но обратно в упаковку винил не кладу. Пускай остается как есть.
Насколько бы сильна ни была моя любовь ко всем книгам, настоящая книга, не имеющая аналогов, — это словарь. К счастью, эту очевидность я понял довольно рано, но в дошкольном возрасте и не подумал, насколько эта книга может собой заменить все прочие. За годы прочтения сотен поэзий я только пуще в этом убедился; впрочем, как основное читательское блюдо она не годится. Никогда не видел человека, что ради веселья листает словарь. Счел большой честью приобщиться к этому чтиву; память о прочитанном мне бы и хотелось навсегда помнить, так и забыть некоторые особо запомнившиеся строки.
Лучшую литературу желательно хранить как можно дальше от нездоровых людских глаз. Слишком легко книги предка Егеря искажаются, и лишь немногие трактуют его учения верно… все остальные еле могут понять прочитанное, отчего смысл написанного полностью меняется.
К чему он только не был готов, но этого он почему-то не учел. В сухом остатке он смог предугадать и опередить свое время на десятилетия; пожалуй, именно из-за этого современники его не приняли. Даже сейчас его эссе почти что описывают сегодняшние реалии. «Главная просветительская книга» кочевала из рук в руки, и теперь совершенно ясно, кем вдохновлялись все главные умы промышленной революции, что удивительно. В книге нет и строчки конкретики, только размышления во все поля, но, видимо, именно этих размышлений и не хватало людям в эпоху напудренных париков и корсетов из китового уса.
Просчет в миропорядке двадцатого века вышел мизерным: этот старик-писатель жил века назад и почти с точностью смог предугадать все перипетии событий в мире. Пока все эксперты говорили, что люди плодятся все быстрее и ничто не спасет их от нехватки еды, теперь все академики носятся с идеей заставить молодых мам «клепать» новых детей как заведенные.
Вся задуманная политика плановых переселений на нужные и выгодные участки Земли — вполне разумная задача: люди не могут сами распределиться в нужных пропорциях, как в старые добрые времена… пригнать безземельных колонистов? Разносить людей по миру — это вовсе не панацея, но это работает, и не стоит чинить то, что не сломано: никаких подвижек к ухудшению ситуации. Все та же вялотекущая стабильность.
Будет достаточно дать людям расселиться по своему усмотрению, и люди смогут найти себе применение. Уговорами о лучшей жизни можно получить миллионы желающих по доброй воле, чем сгонять людей угрозами и штыками. Теперь жители Океании и Азии сами на себя не похожи: даже непонятно, кто есть кто, какие они расы и прочие мелочи, которые принято считать важными. Покуда доходы текут ручьями, всем, в общем-то, плевать, как относятся к своим соседям. Пока соседи не нарушают личные границы или не грабят; кто думает иначе — всего лишь неисправимый идеалист и не больше.
Не снискал должного уважения и славы до глубокой старости, больше сорока лет карьеры был непонятым и узнал, что его книги стали пользоваться диким спросом и переиздаваться без его ведома, можно сказать случайно. Человек он был скромен и не придавал славе никакого значения. К нему наведывались газетчики, литературные агенты, но он им даже не открывал, а особо наглых слезно просил оставить его в покое и больше не приходить.
Издательство, коему повезло издать его книги первыми, исправно высылало роялти с продаж книг, на которые он жил в относительной для себя роскоши. До конца дней его помнили добрыми словами как того самого жизнерадостного начинающего писателя, живущего только ради рифмовки слов в предложения. Недоумевали, почему он так резко переменился. Впрочем, самого автора их мнения волновали меньше всего… Даже неловко сознавать, что предок Егеря — мой коллега по профессии, писатель, да еще какой…
Профессиональную солидарность во мне никто не отменял. Быть может, и у таксистов с сантехниками, как и у меня, играют бабочки в животе, когда известный роман повествуется именно от лица таксиста и сантехника. Во мне есть достаточно самонадеянности называть себя «настоящим писателем», пусть моя книга лежит сейчас неизданной в хранилище вещей.
Впервые с того момента, как мои вещи были убраны в надежно охраняемую ячейку, я всерьез забеспокоился за свои труды. Возникло желание их вернуть. Сдавая их на «ненадолго», они так и остались лежать без меня почти полных три месяца. Я стерплю и верну отданный под сохранность груз и все вещи в нем, когда буду уезжать из города… Пытаюсь вправить мысли и вспомнить, о чем думал раньше…
Недолгая репутация как «скромняги, уважающего свое личное пространство человека, но никак не затворника» улетучилась, когда уже после смерти люди из издательства нашли его предсмертные мемуары. Его мемуары были полны горечи, описаний неправильных решений и помарок: больше похоже на жизнеописание прирожденного неудачника, который всех и вся боится, а не из тех, кто выращен побеждать.
Мне доводилось засиживаться за десятком подобных книг. Я увидел на страницах больше, чем следовало; впрочем, не прочитал и половины того, чего мог бы. Очевидцы великих потрясений проживают те же эмоции, выворачивая память ради написания мемуаров. Сколько биографий я ни пролистывал в руках, но дневники и письма, опубликованные посмертно, были куда честнее и непригляднее.
Если такие жизнеописания, в которых светлейшие умы прошлого исписывали всю подноготную только для своих глаз… Но после смерти приходят потомки, отыскивают дневник и продают издательствам, что делают из личного публичное. Казалось, таких книг тысячи, и их так просто взять да прочитать, но стыд, что я читаю нетленную рукопись, к изданию которой автор при жизни не давал согласия, меня несколько пристыжает.
Биографам на то и платят гонорары, чтобы выдергивать из дневников несказанную и непередаваемую за жизнь правду… сцеживают информацию, как соки очищают от мякоти. Слова фильтруют и убирают лишнее — ту правду, которая была важна и никому конкретно не писалась, кроме человека, их написавшего…
Отдельные страницы в дневнике Брюса выглядят вклеенными; на этих самых страницах вклеены фотографии… Не каждый примерный семьянин (каким был Брюс) станет брать фотоальбомы, в которых хранится так много воспоминаний, вписаны коллажи и вырезки памятных событий газет. В годы молодости Брюса занятие подобным считалось в новинку и даже вызывало смешки: слишком сентиментально для статного мужчины клеить фотоальбом. За свою жизнь он мог написать уйму подобных произведений, записывая свои мысли куда попало. Я знаю места, где они могли храниться, и, скорее, хранятся и сейчас. Не так много времени прошло с его смерти, чтобы найти другое место хранения. Впрочем, мне незачем собирать к себе их все, мне и одной, лежащей в паре шагов от меня, достаточно.
Переписывание такого объема текста от руки (на которое я добровольно согласился) уже не кажется мне хорошей идеей, к тому же мой извилистый почерк остается понятен только мне и избранной группе графологов. В связи с чем я достаю запылившуюся портативную печатную машинку и уже готов приниматься за работу: на протяжении следующих нескольких часов только и делать, что переписывать толстую стопку документации.
Не могло кончиться счастливым концом для не привыкших к трансокеаническим бракам, а для зашоренных полинезийцев выдать дочь и женить сына на евроамериканке — прямо-таки межвидовые отношения. Трудно упрекать людей, которые в буквальном смысле живут посреди самого большого океана в мире. Архипелаги, где до ближайшего крупного города приходится плыть почти два полных дня при полной скорости и идеальной погоде. Все равно что обвенчать инуита с пигмейкой и получить разрешение их семей на брак.
Хотя из Полинезии со времен базы испанских галеонов и голландских центров торговли пряностями вывозилось и уносилось все самое лучшее, а всемирная выставка была открыта на архипелаге Марианских островов целых шесть раз. Конечно, чернь не любит дворян, но обожает королей, а именно полинезийцы сейчас, да и в прошлом, почти что тонули в августейшей роскоши, ровным счетом ничего не делая. Небывалое везение избрало именно эту территорию нейтральной буферной зоной, которая размером больше Средиземного моря в четыре раза. Когда дело доходит до отплытия на малую родину, я не испытываю ни малейшего желания этого делать; возможно, я и родился на вулканическом острове размером с поле для гольфа.
Главное, что меня оттуда вовремя вывезли, или, правильнее сказать, сбагрили подальше на восток, в Америку. Вездесущие островитяне-полинезийцы, которых хватает повсюду, где есть какой-то крупный бизнес. Те самые полинезийцы, которые владеют приличной долей акций почти во всех компаниях… В мире бескрайнее множество островов, а если счесть континенты просто за большие острова, мне становится даже интересно, чем Полинезия так отличается от всех остальных «условных географических регионов».
Почему я появился на свет именно там? Пытаюсь придумать на ходу хотя бы одну здравую причину и не нахожу ее. Разве что увидеть родные пальмы и как загорелые серферы седлают волну. Этого недостаточно, а потому западнее Калифорнии я не сделаю и шагу. Придя к таким умозаключениям, я все же отрываю от пустой страницы листок и черной ручкой записываю название родного острова. Теперь уже никогда не забуду, что родился на острове под названием Bonita #6848. Какое все-таки звучное и несуразное название; не нарекли хотя бы мою малую родину, остров, где я был рожден, в честь королевских особ либо первооткрывателей, как это заведено (и то радует).
ГЛАВА 28. РОБИН/ФЕЛИКС
РОБИН
Июль перестал быть для меня одним из унылейших месяцев в году; скорее, именно этот июль будет нафарширован праздничными американскими днями, парадами, полными фейерверков и веселья, пока для всех нестоличных американцев июль — всего лишь месяц, полный только буднями.
Конечно, в этом вопросе я на стороне победителей: четвертое июля как праздник для меня что-то да значит. Мне бы не пришло в голову праздновать у всех на виду во время фестивалей и парадов. Все же важные праздники недаром отмечают в кругу семьи или, как в моем случае, в гордом одиночестве. Пышные празднества, пожалуй, всегда удобный повод уезжать из города: пока все веселятся, им точно будет не до меня.
Остается только вовремя собрать вещи и отправиться в путь; не будет никого, кто стал бы останавливать или расспрашивать, упрашивать остаться подольше. Автобус уедет вместе со мной, тогда еще не один час спустя люди и не заметят моего исчезновения. Когда заметят, я буду далеко за горизонтом. Так и удается продолжать свой путь где-нибудь в другом месте. На тот момент меня не заботило, к чему это может привести, я вообще об этом не думал.
Проснувшись в такую рань, я глазел на уборщиков мусора: мусорщиков в перчатках и серых немнущихся униформах, которые швыряли мусорные баки в мусоровоз, а уже пустые баки возвращали туда, где взяли. Мусороуборщики увозят за собой смердящего добра целыми тоннами. Своей грязной работенкой вычищают целые улицы. Мне редко когда доводится наблюдать мусорщиков за работой: они довольно мало работают и довольно редко. Но сегодня же суббота, а значит, пора разгребать то, что осталось от вечера пятницы. И вот мусорщики со всем справились, сели внутрь мусоровоза и поехали нести чистоту жителям других улиц. Я был не прочь и дальше наблюдать за их работой. Мусоровозчики как по мановению волшебной палочки быстро управились и уехали. Пожалуй, местные жители скопили недостаточно мусора…
Я отошел от зарешеченного окна и направился в кухню, где мне непривычно быть без компании. Обычно здесь полно людей, но не сейчас. В кухонном окне мелькали силуэты поваров, вовсю занятых приготовлением завтрака; и вот уже скоро будет подан привычный завтрак. Подойдя ближе к прилавку, я нашел его пустым; на витрине лежали веганские продукты. Стало быть, мой сегодняшний завтрак — овощи.
Набрав полный поднос, я направился к своим покоям. Поднялся на свой этаж, совершенно один в лифте. Достал ключи, одной рукой открыл дверь комнаты. Зайдя внутрь, я поставил поднос на стол и уже подходил к двери, чтобы закрыть ее, как вдруг меня потревожил гость: должно быть, он видел, как я входил с подносом в руке.
Как и ожидалось, все, кто больше всего шумел, столпились по улицам, ближе к темным углам, куда даже свет ламп светит тусклее. Это скопление малознакомых лиц стало для меня ориентиром. Я проходил мимо крупнейшего клуба в округе и компаний людей, стоящих возле него. Через окна я про себя отметил: клуб изнутри кажется куда просторнее и, по первому впечатлению, мог бы вместить несколько тысяч человек и все же остаться полупустым.
Судя по своим внутренним часам, на дворе предрассветный понедельник, ближе к пяти часам утра: ни наручных часов, ни фамильных карманных часов у меня не было, но я не сомневался во времени суток. Мария как зачинщица радостных событий осталась в тени, возможно, в тени своего дома, но еще более вероятно, Мария осматривает местные красоты сейчас в компании своих людей. Стекла по всей длине этого помещения прозрачные. Слишком замутненные, так что снаружи люди кажутся лишь силуэтами, проходящими из стороны в сторону. Я не могу разглядеть, кто из них есть кто, но их тени вполне отчетливы.
Парниша, что шел позади меня, не перестает оглядываться по сторонам, даже когда находится в лифте; не перестает и когда мы выходим из него. Волевым усилием мне удается не поддаться его примеру и, насколько хватает сил, сохраняю трезвость ума. Сегодня каждый страж правопорядка — не меньший тревожник, чем я, не говоря уже о том, что озирания в любой день выглядят подозрительнее некуда. Быть в роли сопровождающего мне пришлось недолго, из-за угла подошла компания одинаково разодетых парней, которые его знали. Подошли вплотную; они обменялись жестами. В это время я ускорил шаг и краем глаза заметил, что они увели его в противоположное направление, видимо, к другим членам компании, сбросили с меня этот болтливый балласт.
Теперь я не вызываю подозрений, по крайней мере, мне страсть как хочется верить, что не вызываю. Я прошел еще с добрых полмили, но никто не остановил меня и не досмотрел вещи. В особо людных местах отстраненно ходить в одиночку — тоже своего рода подозрительное поведение. Но на улицах целые косяки мальков, досматривать и ловить можно целыми группами без ограничений. Устраивать взбучку и удерживать без причины. На такого рода праздниках и парадах уже и забывается, как жители Бруклина сроду недолюбливают чужаков…
Мне становится невыносимо скучно, глаза скользят по одежде людей, что стоят возле меня, чувствую себя оборотнем, но вместо волка во мне просыпается модельер… Я вижу, как много людей вокруг меня носят мешковатую одежду не по размеру, к тому же и не по карману. На куртках и брюках вороного окраса нет места пестрым краскам, только заметные потертости снимают черноту одежды. Следы пятен на монохромной ткани еле различимы, словно на листе бумаги поставлена клякса бесцветными чернилами. Ранее мне никогда не доводилось задаваться вопросом, где такие непристойного нищенского вида люди достали одежду одного вида; в свою очередь, они на подобные темы первыми не заговаривали. Как оказалось, им выдали это подобие униформы, которую они как могли дополнили всем, что попадалось под руку. Смотрелось это прекрасно, но будь они людимы, подобную одежду сочли бы дурным вкусом. Если их заметят кутюрье и модельеры, многие, вдохновившись, похожим образом станут наряжаться, каждый встречный. Тогда уже никто не скажет, что их растянутой и потрепанной одежде место только на мусорке.
В самом деле, удивительно, как много мыслей мне приходит о нечестных на руку людях и как мало я думаю о Германе… А припрятал ли Герман (как продолжатель дел Брюса) у себя дома долю прибыли? Груды драгоценных купюр, превращенные в тягость, которой как-либо воспользоваться у него не выйдет. Ряд вопросов не позволит свободно распоряжаться имуществом, приходится прибегать ко всем доступным уловкам. За десятилетия накопления и хранения могла скопиться любая сумма куша. Если не выпячивать богатство на всеобщее обозрение, будет легко говорить, что золотых слитков в подвале вовсе нет, а только припасенный за годы семейной жизни достаток.
Праздничная форма Манчини чуть маловата, и рукава с продетыми в манжеты золотыми запонками не достают до запястий, но за длинной курткой рукавов не видно; если не снимать куртку, никто не увидит такую скрытую погрешность в размерах. Сколько бы хорошо ни выглядел, моя подвязка невесты на голени поверх штанины брюк привлечет куда больше внимания, а жемчужное ожерелье, повисшее на воротничке — безупречная комбинация черноты и белизны жемчуга — даст людям понять, что лучшего сочетания, чем жемчуг и вечерний строгий костюм, не придумаешь.
Никому не следует грустить, покуда все в толпе идут вразнос, дурной тон — портить своим мрачным видом настроения окружающих. Гости праздника оставляют свой привычно-понурый вид дома, для грусти подходят более подходящие места. В любой другой нефестивальный день (кроме Хэллоуина) наряженные люди нагоняют интерес к себе; своими густо накрашенными лицами распугали всю приличную публику. К моему удивлению, вид у публики такой разогретый и неустрашимый, словно вот-вот готовы броситься первыми в самое жерло вулкана. Взаправду суровые парни первыми накладывают в штаны каждый раз, когда на горизонте виднеется опасность, но только эта заячья пугливость и спасает от ударов под дых или ареста.
До сих пор не припомню ни одной здравой причины, почему сам не сдам их клубящееся крысино-гадючье логово. Власти Бруклина все никак не способны их обнаружить. Недобитые отбросы общества, напротив, не помогут со всеми имеющимися силами получить амнистию и легализоваться, стать белыми воротничками на радость всем приличным горожанам. Но им на замену придет еще больше подонков, которые прослышали, что их братьев по цеху амнистировали. А ведь это и правда праздник… а ведь все мои праздничные дни без зазрения совести воплощали в их жизни безобидные потаенные желания. Впрочем, даже любителям наряжаться в лохмотья приходится поступиться планами и на ровном месте преобразиться в вполне респектабельного вида юношей.
От полной безнадеги меня удерживают только Манчини, Генри, Егерь и им подобные… мне стоит продолжать держаться обеими руками за старые соприкасающиеся знакомства. Это все, что остается; новые знакомства приносят новые возможности, но без всякого намека на надежность. От старых приятелей неясно чего ожидать, их ничего не останавливает обмануть, обставить и скрыться. Увядающие равновеликие богачи держат всех на расстоянии, и только кучке приближенных «друзей детства» дается некое подобие доверия на разного рода откровенности. Такого рода мания обмана — давняя замалчиваемая проблема всех имущих. Предохраняться от лишних людей в окружении с помощью почти что племенных связей вызывает у меня только смех. Впрочем, у меня в окружении и нет людей, к которым я испытываю мало-мальскую симпатию, и готов впускать в круг общения каждого желающего. Нелегко пинком в спину выталкивать людей из своей жизни, даже когда на то проходит время… Моего плеча касается рука, по всей видимости… женская…
С нервным дыханием раскрываю глаза, первое, что я вижу, так это голову Глории… ее кожа словно вся оранжевая (как и все вокруг меня… пусть чуточку, но оранжевое), когда свет улиц стал совсем медленно переливаться и цвета обретают привычные оттенки. Глория закинула мою руку себе на плечи и увлекла меня за собой. Мне остается только следовать и не сопротивляться: вряд ли она ведет меня в укромное место. Ума не приложу, куда она может меня привести. Продолжаю идти за ней, хотелось приоткрыть челюсти, раздвинуть губы и спросить, куда она меня заводит и почему я ведомый ею. Едва ли я согласился бы так же следовать за кем-то другим. Однако этот вопрос стал мне совершенно не важен, как чистка обуви или цвет наволочки на моих подушках: вся будничность мира отошла на второй план и зарылась вдали.
У меня под рукой ходит дама, Глория, которую я вытерпливаю со скрипом в зубах и которая почти вдвое старше меня. Усталые веки прикрылись, а по их открытию Манчини уже поравнялся со мной. Я уже совсем потерял Манчини из виду. Пожалуй, Глория, как собака-поводырь или извозчик экипажа, довезла проваливающегося в сон пассажира. Манчини нисколько не удивился ни мне, ни поведению своей ненаглядной. Только с легкой улыбкой похлопал меня по плечу. Отчего-то мне захотелось в ответ похлопать его по наплечнику (что я и сделал). У Манчини не спала улыбка, постукивания пальцами были ему не обидны. Я слишком уставший, чтобы выбирать дорогу самому; сил хватает только следовать за кем-то
ФЕЛИКС
Моя солидарность к повсюду торопящимся людям огромна. Увидел бы я этих ребят на улице, ни за что не подумал бы, что многие танцующие — постоянные посетители подобных приличных заведений. Все как один подогреты музыкой и танцами. Разгоряченные, взвинченные люди, которым лучше убавить огонь и дать остыть, пока не натворили глупостей; но их температура все нарастает.
Мне надоело рассматривать других, и я переключил все внимание на себя. Именно сейчас я чувствую себя в полной мере таким же разгоряченным, как все прочие гости, даже без всяких допингов в виде алкоголя и прочей дряни. Во мне просыпается тот жар, который мне привычно контролировать и направлять в правильное русло, пользоваться ресурсами тела в полной мере. Пожалуй, мое лицо заливается румянцем и больше не розовое, как мордочка маленького поросенка, а вполне себе покрасневшее. Покраснели и белки глаз.
Я будто знаю, как выгляжу сейчас. В такой темноте я бы не увидел себя, даже держа зеркало в руках. Темнота — удобный способ скрыть свои изъяны, словно освещение специально сделали под меня и примерных семьянинов. Тогда и просыпается неясная жажда находиться в обществе себе подобных: тем больше с ними будут считаться и относиться как к «тому самому другу». Какие нелепые, наивные адепты компромиссов и совместного решения проблем. На праздник компромиссов всегда появится гость, обладающий настоящим знанием дела, что затмит всех прочих собравшихся. Как Луна, что затмевает солнце в минуты затмения.
Едва скрылся из-под присмотра импровизированной охраны. Измотанный, я удалился от меня на отдых в придорожное кафе. Я предпочел пройтись мимо окон под вывеской, оставаясь как бы на виду у сидящих за барной стойкой охраны. Со своей стороны я их отлично видел, как они ели яичницу. Мне осталось недолго добираться, если такие попутчики не будут дальше мешкать и медлить. Солнце еще высоко.
На параде имеется пригнанная охрана, кто-то же обязан санитарить улицы. Праздничная охрана так и стоит строем где-то там. Без нужды и команды начальства они и с места не сдвинутся, едва стоят на ногах. Табельное оружие висит на поясе. Думаю, удар ниже пояса приведет охрану в чувства — но я оставлю этот действенный метод на потом. Сейчас законники едва стоят на ногах, табельное оружие все еще висит на поясе. Будь я похитителем, без труда стащил бы такое доступное оружие, но я вовсе не вор. Наливающие продолжают наливать все новые стопки коричневого пойла, и если кто захочет забрать их револьвер себе на память, то стащит его без труда.
Сейчас дальнейшая судьба этих револьверов мне куда интереснее, чем происходящее вокруг, — это вовсе не добрый знак. Все внимание направляю на главное шоу этого вечера, но все эти представления меня не веселят, а только утомляют зрение. Словно я стал слишком стар для искренних впечатлений; будь мне снова лет шесть, все воспринималось бы по-другому (наверное), хотя и в совсем детские годы подобные карнавалы меня не впечатляли. Всегда казалось, что они проходят совсем не для меня, но для кого-то другого. Мне лишь повезло подсматривать за заветным счастьем других людей. Собственно, это чувство я сохранил и по сей день. Уже не приходится изображать заинтересованность или вообще смотреть на выступающих. Меня и в детстве карнавалы не впечатляли, казалось, проходят для других, мне повезло подсматривать за чужим первосортным счастьем. Чувство сохранил, не нужно изображать заинтересованность.
Я растерял желание присутствовать среди наблюдателей, зашагал туда, где людей меньше. Той же дорогой быстро выпутаюсь: час-другой, и дома. Умываю руки не из страха — по своей воле и по своему желанию. В голове безмятежность. Отошел на приличное расстояние, простоял час с лишним. Никто не скажет, что пропустил великое событие; досрочно ушел.
РОБИН
Для посетителей находиться на этом празднике жизни среди себе подобных — уже своего рода привилегия. Пока для работников общепита подобные повторяющиеся одни и те же песни по кругу — это скорее похоже на незапланированную изощренную форму пытки. Часы, проведенные за приготовлением попкорна, сопровождают знакомые и засевшие в памяти мелодии. Благо я только наблюдаю за работой по ту сторону покупки праздничных сладостей.
Но одними сладостями сыт не будешь… я слышу шипение масла и ощущаю запах жареного мяса. Прохожу мимо палаток с жареным мясом на палочках; издалека выглядит аппетитно. Я знаю про условия приготовления: одна фритюрница на несколько дней. Коричневое масло, горелый запах, но аппетит растет. К счастью, мне не придет в голову давиться этой едой. Впрочем, мне доводилось пробовать всякое мясо: опоссумы, голуби, а во время охоты — медведей и лосей. Кто-то считает голубей паразитами; я не защитник голубей, но позволяю им летать до тех пор, пока они не окажутся на моей тарелке. Пойманный голубь — та же курица, только костлявая…
Из подслушанных разговоров мимо проходящих людей мне стало ясно, что приличная часть дорог Нового-Амстердама перекрыта аккурат для проведения парада. Повернув голову, я вижу, как позади меня возле одного из охранников верещит девка с завитыми, торчащими во все стороны волосами; из воплей отчетливо удается разобрать: женщина недосчиталась кошелька в сумочке и встревожена тем, что никто вокруг не следит за порядком и безопасностью.
Но ее движения слишком дерганые, а голос писклявый и противный, как скрежет мела по доске. Это больше выглядит как представление уличного клоуна перед служителями закона. Не думаю, что ворам придет в голову обчищать карманы на этом празднике жизни: слишком много высокопоставленных особ, охраны на каждом шагу, и шансов попасться, показываясь здесь карманникам, себе дороже.
Быть может, если неподалеку действует настоящий профессионал, что у всех на виду поддевает бумажники так, что никто не замечает. Либо же кошелек просто обронили, что куда вероятнее. Терпеливо выслушивают ее вскрикивания и пытаются всячески успокоить, что возникла погрешность. Что-то заклинает меня, что это не просто какая-то случайная любительница пышных причесок. Один из важных гостей, иначе ее давно вывели бы отсюда. Я вдоволь насмотрелся на это зрелище, мне приходит мысль не обращать внимания на мелочи.
Я стою здесь вовсе не за этим, задержка начала выступлений продолжается. Никто не знает, когда начнется шоу. Кто-то перешептывается, но нет и речи, что все отменяется или нечто подобное. Для отребья Нового-Амстердама, что сейчас празднует парад, Брюс — именно тот мэр, по ком станут горевать в самую последнюю очередь. Мне стоит увериться в этом, развенчать наивность, что ублюдкам знакома признательность. Странным кажется, что с момента его смерти прошло три месяца, но внимание так быстро свели к другой теме, что теперь траур по всеми любимому властителю городской жизни практически сошел на нет.
Вид Манчини в переделанной морской униформе вековой давности казался нелепым. Сегодня такую одежду не достать: заказной костюм «под старину» выглядел бы дешевой бутафорией. Эта матросская форма пролежала в ящике почти столетие и удивительно хорошо сохранилась для ткани, рассчитанной на быстрый износ. Надо бы укоротить брюки и заузить талию: костюм явно длинноват и просторен в поясе. Это одежда, которую надеваешь раз и забываешь, но для парада вряд ли придумаешь более впечатляющий вариант, чем аутентичная униформа столетней давности.
Пестрые карнавальные костюмы и вызывающую дорогую одежду на выступающих выглядят бесподобно, словно все это добро специально сшили под них и ни разу эти одежды не носили. При желании я могу поименно назвать достойные заказов модные дома. Для любого кутюрье парады — самые прибыльные дни в году: дорогие ткани и руки мастеров — совсем недешевое удовольствие.
Когда-то меня крайне волновала одежда, даже слишком, теперь мне, в сущности, нет дела наряжаться на праздники и перед зеркалом выбирать, что надеть на каждый день; перерос подобную страсть наряжаться. Я уже не припомню, когда в последний раз покупал что-либо из одежды. Как ни странно, мое наплевательство к своему внешнему виду мне совсем не мешает засматриваться на наряды других, словно смотреть на ухоженный вид других мне доставляет куда больше удовольствия, чем выглядеть хорошо самому.
ФЕЛИКС
Мне даже нечего было сказать в свое оправдание, все так и было, и даже хуже. В отместку оставалось только ухмыляться и продолжать перебирать руками, занимаясь прежним, как будто ничего стоящего не услышал. По их выражению лица им этот трюк показался издевкой, чего вовсе не было, но все оставили свои мнения при себе. Видимо, они не сумели взвалить на меня всю вину за невзгоды, что обрушились на белый свет за последнее время; если бы это можно было вытворить, я с радостью признал бы себя виновным во всех обвинениях, которые только могли навесить на меня.
Растить самосуд в таком обозримом месте было по меньшей мере глупо, да и слишком много скребущего шума из ничего поднимется, если пасынка уважаемых бизнесменов вот так наругают ни за что, за какое-то сборище любителей музыки на пустыре, окруженном подлеском.
Напрасно думать, что других участников не отыщут. О них уже спохватились и пришли на разъяснительную беседу, только в совсем ином тоне. Мне только успели сказать, какими опасными бывают дикие места. Я мог пострадать, а за это отвечать пришлось бы им, ведь именно для них я — некий ценный груз, который следует держать в сохранности. Кто бы ни отдал им такие установки на якобы мою защиту, свое дело он выполняет что ни на есть плохо: я действительно еще жив, но своими силами.
Паром был неожиданно быстрым. По прибытии с бронкской сухой земли на ново-амстердамскую землю, помимо нашей компании, никто с парома не сходил, но на погрузку в обратную сторону всходила масса людей, не меньше двухсот. На остановке возле паромной переправы проходили оживленные толпы, на причале в будничный день было необычно людно; сколько мне ни доводилось сходить на крайний север Нового-Амстердама, такое оживление вижу впервые. Пройдя пару минут в поисках транспорта, людей становилось все больше, и на остановке стали толпиться люди. Сегодняшний понедельник не перестает удивлять.
ГЛАВА 29. РОБИН
После расставания с Егерем прошло уже как пару дней, а я все вспоминаю, как возвращался от его дома через кладбище… Подобный кладбищенский опыт мне не назвать крайне приятным, но прогулка по кладбищу, которое когда-то было одним из предметов обожания для прогулок, настоящим символом и великолепием города…
На этом кладбище и хранится тот старый облик города; мало кто примет склепы за инсталляцию прекрасного и решится прикоснуться к, пожалуй, одной из главных сохранившихся достопримечательностей города. В нескольких склепах таится больше истории, чем во всех бетонных массивах города.
Мне почти приглянулось ходить по нему, но само кладбище новыми изменениями не запомнилось, в нем ничего не изменилось, чтобы замечать новое. Я не присматривался к новым могилам и захоронениям. Запомнилась только одна табличка, висевшая рядом с въездными воротами (через которые я и улизнул с кладбища): на ней медного цвета буквами были выведены чьи-то инициалы, а снизу имени и годов жизни было примечание: «Главный смотритель парковой зоны города Бруклин». Должность главного смотрителя парков звучит многообещающе и явно дается не просто так. Сейчас я даже не могу с точностью сказать, остались еще в других крупных городах в парках надзиратели за порядком и чистотой или нет.
В детстве я успел пройтись по тем парковым тропам, которых давно как нет; сейчас мне довелось увидеть печальную картину, как новая парковая администрация перезапустила правила и режим посещения всех парков в Новом-Амстердаме. По сравнению с предназначенными для проведения семейного досуга официальными парками это кладбище — просто стерильное и уединенное местечко.
Незачем тушить весь город, когда загорелся только один дом, если тушить стихийные бедствия вообще можно назвать целесообразным (и в этом многие со мной не согласятся). Однажды неминуемо пожар наберет такую силу, что способен будет спалить не только город, но и все, что встретится на пути. Пожалуй, всему миру это принесет только пользу, а по меньшей мере — облегчение. Доселе ни один из великих американских городов-гегемонов и не думает рухнуть. Да, дела на Земле идут до нелепого безнадежно, но если в городах и есть намеки на неизлечимую болезнь, то хворь убьет своих носителей не раньше чем через череду поколений. Природные богатства Земли вкупе с неискоренимой привычкой жить не по средствам творят чудеса.
Даже от руин античного города спустя тысячи лет остаются многие нетронутые части. Рим был разграблен, его опустошали порядка десяти раз, но многие части старого города остаются и поныне целыми. Часть уцелевшего наследия Рима успешно перевезли в Новый свет: в трюмах перевозили все, от колонн и арок до терм и городских форумов, лишь бы эти мраморно-каменные реликвии нашли свой новый дом (в качестве ценного трофея).
Егерь всегда был одним из тех жадных до уединения творцов, что к обеду — на шелковых простынях. По утрам — отдых. Вечером занимался излюбленным делом. Так на свет и рождается новая живопись. Работа по вечерам пошла Егерю только на пользу (как и соседство с кладбищем). Продуктивность росла и силилась, раскрывая весь природный потенциал, который в нем. Ненаписанных картин за годы накопилось выше всякой меры… и все же… Настоящий ли Егерь человек искусства, или он хорошо сложенная подделка? В нем так мало человеческого, что нетрудно увидеть в нем волка в овечьей шкуре; впрочем, если он и впрямь волк, то самый терпеливый на свете: мало кто из плотоядных диких зверей продержится так долго, не начав охоту.
Проходя по улицам, нельзя было не услышать радиоволн… Брюс был настоящим радиолюбителем, мне незнамо, под влиянием Брюса ли в Бруклине началась «радиомания», но похоже на то. Радиоинформативность доносится отовсюду, играла свою большую роль: пользу трудно оценить.
Непыльное это дело: расставить на каждом перекрестке громкоговорители, которые передают радиопередачи, куда легче, чем обеспечить радиосвязью каждую американскую семью. Учитывая потребность людей в доступной и дешевой информации. Дабы решить эту информационную нужду, приходится прикладывать немало сил. Теперь все получили свои аппараты для связи с внешним миром, да и сам Бруклин оброс столбами. Деревянными штабелями, с которых свисают все эти черные провода, что незнамо куда ведут.
Новый-Амстердам раньше тоже болел страстью к нависающим над городом кабелям, но городские власти так старательно пытались упрятать все электропроводящее под землю, что на сегодняшний день в городе и одного столба не осталось. Себялюбивые бруклинцы как могут чтят традиции и считают, что провода, проложенные над землей и свисающие со столбов, — надземные коммуникации — во всяк проще, чем вскапывать грунт ради починки пары мелочей. И теперь любоваться паутиной проводов приходится только в Бруклине… под нами асфальт в колдобинах, над нами провода и пернатые птицы, сидящие на проводах… Вот так мы и идем с Егерем…
Но идти без остановки трудновато, решаем сделать привал. После недолгой передышки от разговоров Егерь вдруг заикнулся о Бруклине… он недоволен, как идет поддержка творческой интеллигенции. Большая часть его слов — чистейшая правда, недовольство его заключено в том, что конкретно ему никаких дотаций не достанется: он попросту не подпадает под получателей гранта как «ненуждающийся».
Бруклин всегда готов протянуть руку помощи, поддержать культурную инициативу от настоящих талантливых, смурных людей; заменить требуется всего лишь то, чтобы как следует замахнуться и удержать американское искусство на заслуженном первом месте в мире. По новым прогнозам, преображение Бруклина в постоянную штамповочную фабрику шедевров займет не больше полувека, придется только свернуть бесперспективные проекты.
Местные гончары сговорились на время прекратить лепить вазы и кувшины и теперь обжигают в печах только глиняные статуи по образцу директоров крупных американских компаний. Они без понятия, как выглядят директора «вживую», потому срисовывают профиль лица с черно-белых фото, которые они увидели в местных таблоидах. С той поры рецензенты газет выдают глиняные бюсты за искусство, достойное похвалы.
Еще никогда посетители блошиных рынков не видели такого изобилия выставленных за бесценок завалявшихся отбракованных работ. Целые ряды не купленных безвкусных поделок. Настоящий ручной промысел: отдать его в добрые руки — почти то же, что и спасти. Набор отрепетированных продающих фраз, уверенные открытые позы и гибкий язык только подогревают радость от подаренных и передаренных вещей. Их продажное ремесло имело место и помимо выставочных центров и ярмарок. Безделушки всегда продаются (да и черт бы с этим); я только рад, что находятся массы доверчивых людей, что готовы скупать все, что блестит.
Хороший продавец всегда продаст свой товар, стоит только дать намек, что покупка достойна быть купленной. Бруклин сделался отличным инкубатором для всевозможных ремесленников своего дела и начинающих юных визионеров. Что уж скрывать, Бруклин и правда по-неземному прекрасен и манящ; все, что есть в нем плохого, — ничто иное как один единый творческий беспорядок…
Сколько себя помню, как каждый раз находились наводящие панику знатоки, что подсчитывали приближение скорого кризиса и панику на улицах Бруклина. Такие истеричные предостережения никого не впечатляли. Паникеров остерегались и обделяли вниманием. Цитаделям светлых умов приходится нелегко выравнивать бюджет, что уже дает сильный крен к банкротству. Для мегаполисов жить не по средствам стало привычной практикой, так как власти ничего не делают для разрешения данной проблемы.
Только удерживают планку долгов до того уровня, пока задолженность не выходит за разумные пределы. Дальше экономика уравновесится. Бюджет перевернет себя сам, как упавшая на панцирь черепаха переворачивает себя на лапы. Золотые времена всеценности каждого холста прошли, теперь это лежащий мертвым грузом антиквариат. Перекупщики скупают его и переправляют восточным партнерам, теперь их картины кочуют по частным коллекциям и блошиным рынкам Азии.
Но не мне винить оценщиков, наценщиков и простых спекулянтов… эти люди крепко западают в память, а всегда моветон пятнать (чью угодно) добрую память, пусть и заслуженно.
Я пытаюсь сменить тему с искусства и творчества на что-то более приземленное. Можно сказать, в шутку вспоминаю про Джун… и тут молчаливый рот Егеря наконец раскупорился. Егерь открыл мне секрет, куда все-таки запропастилась Джун и почему ее нигде не видать. Оказывается, горячо любимую Джун никто не видел уже неделями: Джун попросту не покидает жилище; легко представить себе, что Джун на своих двоих больше никогда не покинет рабочий кабинет.
Прихлебатели регулярно ее навещают, и от них расходятся обнадеживающие слухи: Джун подает признаки жизни и даже велит прислуге оставить ее в покое и наедине с собой. Сейчас незачем извещать волнующихся о самочувствии Джун. По всей вероятности, Джун не в настроении принимать гостей, меня в том числе. Что ж… я могу связаться с ней в другой день. Конечно, если Джун все еще живая и будет жить, когда я ей позвоню… Мои думанья о Джун затянулись и сорвались…
Вдруг откуда-то справа раздалось грохотание упавшего мусорного бачка и стук бегущих шагов. Люди поблизости тоже слыхали это и оглянулись в сторону шума. Я заметил драпающих в мою сторону бегунов. Все расступались, прижались к стенам прохода. Получился некий промежуток, что скорее напоминал туннель. Мимо расступившихся сперва пробежал босой, безволосый мужчина в белой майке, а за ним вдогонку пронеслись шесть человек в униформе (похоже, стражи порядка). Законники гнались, но даже вшестером все никак не могли повалить лысого на пол. На удивление, их табельные ружья были в кобуре, и никто даже не целился в убегающего. Кто-то еще наговаривал, что блюстителям порядка, мол, законникам, только дай повод подстрелить убегающих преступников — только и думают о выстреле.
Когда все бегущие по улице скрылись из виду, несколько людей, ближних ко мне, переглянулись. Все остальные не придали этой попытке бегства никакого значения. Словно в Бруклине «игра в догонки» — рядовой случай. Я также особо не обратил на эту погоню внимания. Главное, чтобы гнались не за мной, а за другим. Егерь тоже заметил эту сценку, но, как говорится, «рыбака рыбой не испугаешь». Что ж… раз так, наша прогулка с Егерем продолжается…
Пока мимо нас пробегали люди, я засмотрелся на одежду местных жителей, углядел в их стиле что-то по правде бруклинское… Казалось, здешняя бруклинская мода полностью отрезана от всего внешнего мира, либо часть уже устаревшей, прошедшей моды приходит с опозданием и смешивается с новыми, которые уже успели перенять. Выходит мультифруктовый бруклинский сок, в котором уже не понять, что и откуда взято, и только сами бруклинцы могут оценить, похож ли ты видом на одного из них или еще один умник, который купил готовый комплект вещей на распродажах.
Ох уж это бруклинское витающее городское гостеприимство, понятия не имею, чего в Бруклине есть такого — но я уже как будто сам бруклинец. Воздух здесь в это время суток так наэлектризован, что так и пробивает на такое привычное коренным бруклинцам умопомешательство. Мой отточенный годами монохромный волочащийся стиль меня вполне устраивает; чем-то похож на Даянин с ее прикрывающими все участки тела костюмами. Только у меня обошлось без костюмов и формализма. Мне не приходится пытаться выглядеть хорошо, я просто имею хороший вкус и, не задумываясь, надеваю лучшее, что есть в гардеробе… глаза слипаются.
ГЛАВА 30. РОБИН/ФЕЛИКС
ФЕЛИКС
Манящие слоганы не понадобились: большинство людей приходили только по велению сомнительных чувств. По обыкновению, в местах постыдных радостей города нет места для окон и часов, но именно в этом помещении были и часы, и окна с глухими шторами, которые не пропустят и луча света. Изобретательный Дядя решил отличиться по-своему и отойти от не понравившихся именно ему норм игорного бизнеса. Теперь его заведения носят на себе его отпечаток; покупатели воскресных газет сразу поймут, чье заведение напечатано на черно-белых фотографиях.
Для хорошего веселья всего этого добра больше чем достаточно. Пока бильярдные шары катятся, веселья хватит надолго. Я даже не могу сказать, что мы играем по правилам, и мне сложно оценить игру. Пока что кии целы, никто не пострадал, значит, все идет как положено. За все попытки мне не удалось загнать ни один шар в лузу. Пару раз мне почти удавалось забить шар, но всякий раз он замирал в дюйме от лунки. Остальные игроки играли не лучше: долго прицеливались и били слабо; вероятно, опыта у них не больше моего.
Когда игра закончилась, люди не спешили разойтись. Они ходили вокруг бильярдного стола, лениво переговариваясь. Это могло затянуться надолго, но тут раздался голос школьника: он требовал подниматься к остальным. Говорившего я не видел. Его голос был мне незнаком, но школьные нотки я разобрал без проблем.
Часы в увеселительных заведениях постоянно показывают неточное время: то на час отстают, то, наоборот, на час торопятся. Один час роли не играет, только если за окном уже рассвет — тогда часы не должны показывать полвторого ночи.
Дядя надоумился заменить выдачу выигрыша: вместо наличности выдавали сертификаты на покупку — эдакая замена денег… Наличность — прекрасный универсальный товар, только купюры легко отследить, повредить и измять.
Подарочные сертификаты стали настоящей отдушиной и легчайшим способом потратить солидные суммы за вечер. Никто не собирался их останавливать, напротив, их вид настолько радостный, что сборщик денег мог только недоумевать, как люди могут с такой радостью проигрывать. Система, при которой правильным людям никогда не приходится уходить из казино проигравшими, действительно работает как настоящая беспроигрышная стратегия.
Играть на настоящие деньги — совсем другое дело. Крупье всегда норовит вытянуть не ту карту. Мысль о том, что в любой день можешь все потерять, проснуться в пустой кровати уже полностью опустошенным, а хуже того — когда вернуть все как прежде уже не выйдет…
Не мне говорить за каждого, но и тех, кому юность — худшее время жизни, мне долго искать не приходится: стоит только осмотреться в парке, пройтись вдоль дорожек — проходят люди, и часть из них подойдет под это описание. Я немалое время провел, шагая по парку, только чтобы видеть незнакомых мне людей, но, похоже, сам парк знает о гуляющих по нему людях больше, чем их близкие. Хотя во всем Новом-Амстердаме нет ни одного по-настоящему большого парка, но и в небольших парковых зонах чувствуется место притяжения.
Стоит только отыграться, как все вернется на круги своя. К несчастью, приходится играть теми картами, что дают, пока у везучего оппонента они куда лучше, да еще и крапленые. Во всех отношениях это бесчестный бой, в котором победитель известен с самого начала, но кого это волнует, кроме проигравшего? Кто проиграл один раз, проиграет и второй. Кто-то, несмотря на все сложности, да выигрывал и получал все причитающееся до последней монетки; прочие профаны-игроки пускали слюни на его выигрыш и только с большим упорством добивались своего.
Такое обоюдовыгодное сотрудничество казино и его прихожан. Такое положение не поддается критике со стороны, ведь налоговые поступления приходят в бюджет регулярно, и правдивость этих деклараций весьма правдоподобна. Не мне пристало вытирать слезы от всего содеянного в жизни; родовитые особы, подобно грифам, не испытывают угрызений совести за содеянное: любая гадость оправдана, если на то найдется обоснование. Похоже, Дядя придерживается тех же воззрений: еще никогда я не видел, как он прощал долги и сжалился над теми ханыгами. Впрочем, тут ничего не попишешь, да и карточный бизнес Дяди вполне честный. Все фишки, что победитель выиграл, достаются победителю.
Да… Дядя — не самый терпеливый и не самый чистосердечный человек в мире, что не раз он демонстрировал на практике, впрочем, до драк никогда не доходило. Когда наружу выходили выдуманные истории, где Дядя участвовал в избиениях и пьяных потасовках, где Дядя всегда побеждает и мирит дерущихся, перед ним сразу же извинялись и обещали больше ничего плохого не говорить, особенно прессе. Должники часто распускают слухи, и с этим заявлением Дядя был множество раз оправдан в судах. Особенно был оправдан, когда с него пытались получить компенсацию за нанесенные телесные травмы, которых врачам не удалось обнаружить. Если они и хотели подмочить его репутацию, то сделали в точности наоборот: теперь он занимается своими делами под ореолом честного человека, который просто идет своей дорогой.
РОБИН
Есть в Дяде нечто от царя Мидаса… сколько часов в компании Дяди я ни находился, на меня не распространилось его разрушительное влияние, в отличие от умов всех людей, к кому Дядя прикасается. В компании Дяди мне удалось завести немало полезных знакомств.
Во время разговора Дяде хватило нескольких минут, чтобы полностью раскрыть себя как заядлого игрока в карты; если люди и представляют себе стереотип, образ — как должен выглядеть успешный игрок и владелец игорных домов, — то Дядя полностью под него подходит. Послушать его рассказы, так он бы с легкостью скупил добрую половину города еще давно, но не сделал этого лишь по ему известным причинам. Честь картежного рыцаря не позволяет Дяде вкладывать деньги во все подряд, ему больше идет быть в качестве инвестора, что «собирает самый свежий урожай».
Для людей, что и во сне не привыкли выпускать карты из рук, есть масса примет и предрассудков, но во многих можно уловить извращенную логику. О чем думают карточные игроки, известно только им. Перед посадкой за карточный стол игроки совершают свои принятые традиции. Даже обучаясь в академии и живя в одной семье с заядлыми картежниками, я не видел ничего подобного. Сперва все пожали друг другу руки, каждый достал запасенную крапленую колоду.
Положив все колоды на стол, один из играющих выбирал, какую из них лучше использовать. Карты раскладывали строго справа налево. Перед раскладом наборы колод тасовали местами. Выбор пал на вторую колоду. Чья была эта колода, мне было не понять; видимо, среди всех остальных вторая по счету была лучшей. Затем они садились и продолжали играть как ни в чем не бывало, либо я не заметил в их поведении ничего необычного. Если это не пример дружеской посиделки за игрой в блэкджек, то что тогда?
Напарницу по жизни Дядя встретил за одним из покерных столов, усмотрел в ее игре мастерство. Удачно сошлись общими интересами, безнравственным проведением досуга и методами, как честным людям заработать на жизнь, только Дядя играл только в джин-рамми. Картежница предпочитала покер, где женщин было до безобразия мало. Покерные ставки были куда выше. Дальше Дядя присоединился к игре, попытать счастья.
Пусть именно в покере Дядя был не силен. Сперва я плохо различал его голову среди игроков, а дальше игроки стали переминаться ногами. Я совсем потерял Дядю из виду. Занялся своими делами. Час спустя Дядя подошел уже в компании той любительницы покера; они ворковали, шептали слова на ухо и держались за руки. Мне не указывали возвращаться домой в одиночку, но на их лбах было написано желание как можно быстрее от меня избавиться.
Дядя стал меня подгонять, уверял, что подвезет на машине куда мне угодно, или, если я пожелаю, могу отправиться к нему в особняк втроем. На такое щедрое предложение я промямлил что-то невнятное и предложил оставить их пару наедине и просто дать мне больше карманных денег, дабы я мог провести вечер подальше от них. В поддатом состоянии он согласился откупиться от меня без лишних вопросов, отсчитал мне пару мятых купюр; я, конечно, их прикарманил и пошел дрейфовать по помещению сам по себе.
Месяцами после я не считал ее за человека — лишь очередной наложницей в его гареме. Она так и осталась для меня безымянной, и мне не было до нее никакого дела. Когда ее персона зачастила появляться в компании Дяди на людях, я смирился с его полигамными замашками, как и он с моими. О их браке, что не имел с обрядом венчания ничего общего… Только из просроченного пригласительного письма я как получатель впервые услышал о свадьбе, конечно, я на нее не явился и ни капли об этом не жалею. Красивая жена, пожалуй, и правда прекрасное украшение для любой беседы, как оленьи рога над камином у охотника.
Особенно женушка скрашивает беседу, если эта беседа имеет вес. Вид Дядиных жен не производил на меня никакого впечатления, подчас прелестный вид никак не действовал. Словно я выпивал от их красоты противоядие за жизнь. Я слишком долго наблюдал женскую красоту, да так долго наблюдал, что стал к женской красоте полностью равнодушен.
Отличнейший интерьер дома Дяди и правда производил на меня впечатление… Многие важные договоры в истории случалось подписывать в непримечательных пустующих кабинетах. Если и есть место, где лучше всего подписывать сделки, этот дом подходит как нельзя кстати. Все эти заросли и подстриженные кустарники по всему участку делали сам дом похожим на один крытый цветник.
Уделяя новой жене меньше времени, он, в отличие от прочих жен, был единственным, к которой не стихали чувства… вот что значит жена, которая играет в карты не хуже мужа… Жила она в том месте, что раньше было домиком для гостей. Целый дом был полностью в ее распоряжении. В это же время второй, третьей, четвертой и прочим женам приходилось довольствоваться только комнатой.
Все жены ладили друг с другом, выдавливали из себя подобие сестринской любви — сперва в меру своих возможностей, затем уже ладили и даже дополняли друг друга. Когда семейная жизнь обретает подобный многоженский характер, личная симпатия крайне важна. Зачастую жены не пересекались. В доме не было принято есть за одним столом, прием пищи жены проводили поодиночке. Сумев прижиться в приличных условиях достаточно быстро, встал вопрос рождения наследника, которого за четыре года в браке так и не родилось. Его мнение осталось без изменений: дети в семейные планы не входили, это не вызвало никаких вопросов и ссор, скорее облегчение.
Второй по счету жене было что сказать мужу, высказать в лицо: что рожать в ближайшее время она вовсе не планирует. Разговоры мужа о детях только подтвердили, что Дядя вовсе не стремится создавать крепкую семью, по крайней мере, младенцы точно не входят в первую очередь приоритетов на ближайшие годы. Несмотря на это, у Дяди, очевидно, есть дети на стороне — все непризнанные и безотцовщины. Вряд ли многим по жизни встречаются господа, что могут без издевок и сарказма радоваться Дяде — человеку, что наплодил сотни внебрачных детей и любые другие побочные продукты радости жизни. Отцовство Дяди неоспоримо, но так и не доказано судом.
Пусть размножает себя сколько влезет. Пока Дядя не ест людей и никого не убил, я на его стороне. Я крайний человек, с которого есть спрос за двуличие; втаптывать мораль своими сапогами в грязь и показывать, где морали и место, — мое привычное дело, а вот речи о смирении — совсем не по моей части.
Сколько бы жен в свой гарем Дядя ни набирал, любовницы никуда не девались. Они сменяли друг друга, так что я полностью перестал запоминать их имена, и все любовницы стали мне одноликими и неразличимыми. Подбирать брошенных любовниц Дяди, по правде говоря, мне не составило бы никакого труда. Я не пытался… но стоило только захотеть — да, только никакого желания к этому у меня не возникало. Пассии Дяди видели во мне только племянника Дяди. Близкого родственника, с которым можно и желательно вести дела.
Во мне все больше просыпалась личина сводника — незаурядного, но сводника. Гаремные жены обращались ко мне: порекомендовать их кандидатуры или неприкрыто говорили, что планируют с Дядей развод, и пришли с просьбой нашептать их будущим кавалерам, что они свободны к новым отношениям. Находил такого рода сводничество легким способом обзавестись женщинами на высоких постах, которых ты сам продвигал по карьерной лестнице.
Я редко когда отказывался, никогда не помогал. Кормил обещаниями и никогда не надоедал Дяде. Пожалуй, если я приду к их новым домам и попрошу об услуге, мало кто откажет, но я лучше приберегу такую возможность на потом. Мне подобные одолжения ничего не стоили, и вскоре среди престижных компаний появилась масса новых женских сотрудников на высоких и разных должностях. Подкладывать женщин для своего круга общения меня не тревожило, я никогда не относился к семейной жизни хоть сколько-нибудь серьезным образом, скорее с терпимой ненавистью.
Все чисто, не лживо и прозрачно. Чередуется еле сдерживаемая ненависть с периодами клятвенных слезных раскаяний. Тактика беспорядочно чередовать клоунские выпады с попытками примирить всех и вся. Сегодня он находится посреди двух привычных крайностей. В поступках не найти покоя, да и какой может быть покой, когда никто спокойного поведения не ожидает?
Вел дела на спор, выигрывал, чем показывал небывалые результаты. Несколько постоянных, своеобразно странных заказчиков обеспечили более половины выручки, чего хватало, чтобы уходить в прибыль.
Однажды в Дяде проснулось желание вытащить своих давнишних приятелей из скучных будней, а заодно и насолить бывшему руководству. Лично навещал своих приятелей в самый разгар работы. Дядя не скупился и не стеснялся предложить разговор у него дома. Конечно, для старых знакомых ничего не жалко, а тем более не жаль угостить выпивкой.
Под конец рабочего времени в проектном бюро большая часть работников покидала работу только на пригнанном Дядей автобусе серебряного цвета. Начальники не были слепыми, замечали это безобразие. Подчиненные буквально удирают с работы, мотивированы только ждать конца смены. Но поделать с этим никто ничего не мог: Дядя был «на другой высоте». Тут же вставал вопрос: если Дядя настолько успешен, зачем навещает своих работящих побратимов? Впрочем, если не их приглашать, то кого?
Таким желанным гостям по регламенту двери были всегда открыты. Зла Дядя ни на кого не держал, не горячился, а только временами входил во вкус. Любил распоряжаться своими деньгами на вечеринки для бывших закадычных коллег. Коллеги даже годы спустя будут говорить о моменте окончания смены как о лучшем, что случалось с ними за время работы, как за ними прикатывал автобус и увозил… когда все дружной компанией отправлялись на обещанные вечеринки. Эта карусель стала настоящим мотивом ходить на работу.
Ждать завершения работы, когда приедет серебристый автобус и заберет в лучшее место. Теперь это давно в прошлом, среди участников Дядиных увеселений об этих событиях и том периоде не принято говорить в присутствии начальства. О том периоде веселья ничего не напоминало, побывавшие на этих вечеринках могли легко счесть такие воспоминания за сон. Если бы не заголовки в газетах, где писали про Дядю и его новые выходки.
Но не только на ставках, картах и азарте можно (и нужно) заработать… Почти в одно мгновение держателям танцполов стало хорошо жить, настолько, что скряги расщедрились на обновки. Места, где веком ранее танцевали только балы, запахли новой краской.
Отыгрываться не перечит городским правилам, оттого малец и заигрался в короля танцпола. Выигрывать непрерывно когда-то да надоедает, стоит раз-другой поддаться и проиграть хотя бы из разнообразия. Однажды он выиграл в карты десять раз подряд и был согласен на игру ва-банк. У всех игроков за столом уже нечего было ставить, и, надоев проигрывать, они вышли из-за стола, пока не успели проиграть последние заштопанные штаны.
Только и только тогда бывалые игроки в карты стали принимать Дядю всерьез, несмотря на возраст. Уже спустя месяц никто не решался играть с Дядей за одним столом. Игроки недоумевали, вопрошали: «Где этот выскочка научился такой игре?» Ему ничего не оставалось, как искать достойных соперников или перейти играть с новичками, которые не знали его в лицо, но ставили куда меньшие деньги.
Не все люди живут в Столичном регионе, есть еще города, где ловится большая рыба. Без усилий подобные странствия продолжались год: ночуя в отелях и играя в бильярдных клубах. Несколько раз он проигрывал мелочь тем, кто был так же хорош, во всех остальных случаях мог жить за счет игры.
Ничего противозаконного, только ловкость рук и памяти. Дядя рассказывал все эти истории с такой легкостью, как и любую другую тему, но не говорил, как его родители отнеслись к тому, что их средний сын пристрастился к азартным играм на деньги и беспроигрышно собирает солидного размера куш. Конечно, пока сын выигрывает, какие могут быть нарекания?
Сопоставив его россказни, выходит, что Дядя уже к своим шестнадцати годам ограничился незаконченным средним образованием. Желторотый, а уже сам за себя в ответе и сам обеспечивал себя. Видимо, насчет заработка у родителей не было никаких вопросов, либо, напротив, слишком много вопросов, и именно поэтому Дядя никогда про свою родню не вспоминает.
Но такая недосказанность мне только на пользу: на авантюристов по жизни никакого лассо и укрощения не создано, есть такие дикие мустанги, которые просто не поддаются приручению, как ты их ни запрягай; без свободы бедная животина помрет раньше, чем успеет подцепить любую болезнь.
Куда бы его ни приглашали, Дядя заявлялся без приглашения; этим он и отличался: всегда нежданный, но желанный гость, и, главное, его никто не думает прогонять. Без сомнений, примерно за такое поведение многим он запомнился именно таким — взбалмошным, но полезным идиотом. К счастью, это не имеет значения, пока ты на коне. Хватило отвести несколько лет фору — его бизнес пришел в норму, и все образумится.
Порой безостановочные выходки пропойцы-Дяди переходили любую черту. Стражи порядка уже были сыты по горло от приводов в участок одного и того же вусмерть пьяного задержанного, уже не могли обойтись только залогом. Дядя, как человек, что годами так умело избегал прохождения реабилитаций, все же угодил в клинику. Это было одной из мер наказания, он пробыл в ней больше месяца и еще не раз частил снова отправляться на лечение, уже по велению суда.
Такого рода терапия своего не добилась. Куда лучше и не применять иной меры наказания, тяжелее, чем «домашний арест». Каждый судья понимал, что не позволять выходить из переполненного винными бутылками дома — вариант не из лучших. Но я уважаю правосудие и всегда знал, что наговоры на вершителей правосудия — не больше чем страшилки. Всем, кто когда-либо осужден на домашний арест, не суждено ездить на велосипеде без сидения.
По окончании домашнего ареста Дядя вернулся «в свободный мир»; его трезвости хватило на неделю, дальше он возвратился к желеподобному состоянию, продолжал быть размазней, которую только и остается что намазывать ножом на хлеб вместо масла. Пил он вовсе не в одиночку. Приятели Дяди опустошали бокалы за компанию, как и раньше.
В Дяде от домашнего ареста никаких перемен. Реабилитации не сбивали Дядю с его «спиртового пути». Дядя никогда не водил пьяным и не водил машину вовсе. Его личный водитель то и дело отвозил нетрезвого босса обратно домой. Сценарий был одинаковый и бесконечно повторялся. Дядя из раза в раз еле вылезал из машины, доезжал не в состоянии даже пошатываться. Не мог встать с кресла без посторонней помощи; личный помощник взваливал себе на плечо своего босса и еле мог донести тело Дяди до спальни. Уложенный в кровать, Дядя скользнул под одеяло, засыпал в свое удовольствие и храпел. Сделав дело, помощник на пару с личным водителем получали повод уйти с работы на два часа раньше. И такое было не раз.
Было причудливо видеть Дядю валяющимся около двери дома. Его лежащий вид уже порождал вопросы: на этот раз он забыл ключ или просто не смог ключом отворить дверь? Ключа под ковром у него и правда никогда не было. В моих глазах Дядя мог веками валяться пьяным, для меня это обесценивало его достоинства; хорошему человеку заснуть на газоне своего же участка можно и без всякой причины. Помощники всегда помогали ему прийти в чувство, и уже днями позже он был свеж и бодр, словно и ничего не было. Подобные выходки никак на нем не сказывались. Эти помощники совмещают и выполняют полный перечень всего необходимого для работы по дому. Не приходится нанимать целую толпу горничных, дворецких, шоферов, секретарш и много кого еще. Всегда есть один или, по желанию, несколько человек, готовых выполнять прихоти нанимателя. Многие господа не видят жизни без своих помощников, что живут в услужении своим нанимателям годы.
ФЕЛИКС
Полно тех ситуаций, моментов полной уязвимости. Этапов жизни, когда так легко замахнуться, внезапно нанести удар, да так ударить, что жертва даже не успеет увидеть лица нападающего. У каждого хищника свои методы, как добыть себе пропитание. Мне с трудом удается представить медведя, что тишком подкрадывается к оленю, нет: медведи берут свое своими разрывающими лапами и тушей весом с чугунную вагонетку.
Я же предпочитаю более ловких крадущихся хищников, внезапно выпрыгивающих из-под кустов, тех, что вцепляются зубами в шею жертвы. Не разжимают пасть, пока туша не обмякнет и всякое подобие сопротивления не прекратится. То ли от боли, то ли от принятия своей доли стать чьим-то обедом. В любом случае стоит обдумать свой план дальнейших действий.
Крупный бизнес приносит немалые деньги. Суммы, как галька, оседают в зданиях игорного бизнеса и отелях при казино. Бурлески также не сами собой построились. Мои мысли полны припоминаний о картежниках и всем, куда лудоману путь заказан. Дядя меня научил, как обращаться с «игроками», и «по-крупному». Меня это успокаивает и даже усыпляет. Клонит в сон не воспоминание о звуках внутри казино или мысли о том, как люди теряют фишки за игрой с крупье, а сам факт, что я никогда не делал ставок.
Пусть имя Дяди давно стало нарицательным и ассоциируется только со звоном рулетки. Сам Дядя никогда не имел миллионных приспешников и подхалимов — только подражателей. У Джун тоже рыльце в пушку, только ее бизнес-модель несколько более непривычная… Есть места, где гостей без притворства ценят и будут ценить только за их месячный оклад за должность, банковские накопления и красивую одежду; стоит потрясти наличкой, и уже никто и никогда не откажет в любви. Любовь раздадут всем, даже если вы ее недостойны.
Высотные здания, из тех, что безотчетны к любым этическим нормам. Где доступно гораздо больше, в холодных барах и бильярдных. Больше из всех видов непорочных соблазнов. При правильном женском внимании уже никакая женитьба и жена не поможет, а свадебное кольцо сбережет статус прилежного семьянина. Многие приходящие надолго становились постоянной клиентурой: на их собачьи языки капнула бусинка крови. Никакое таинство брака не станет помехой в пространных, но и безобидных (в вопросах супружеской измены) делах. Некогда наивные люди прознали про это и уже не стремятся ограничивать себя нерабочими методами. Вечное терпение не вечно.
Впрочем, этот многоэтажный и многолюдный дом вовсе не был лупанарием или средневековым портовым борделем, пускай с нравами здесь было хранилище свободы. Только плотских услуг никто не предоставлял, даже намеков не было. Скорее, это была булочная, где дают вдохнуть аромат свежеиспеченных багетов, но надкусить нет никакой возможности.
Восточные партнеры зачитывались платоновским трактатом «Пир» и прознали, какова на деле та самая любовь. Влюбленность, возвышающая чувства: чистейшие, приятнейшие и сверхпроницательные. Все те истины, что древнегреческим дельцам, как Платон, лучше понимаются. Переводчики потрудились и, вычистив в «Пире» все эллинское, все Средиземноморское, сделали все Тихоокеанским; и на выходе в диалогах античного мыслителя и его созерцаний жизни Эллады получилась скорее вариация сказок Шахерезады — только детям ее не прочитаешь, а пошлые умы не найдут на страницах «Пира» ничего стоящего для прочтения. Как говорится, капля змеиного яда может излечить, когда уже ничего не лечит, но настоящая платоническая любовь и ее достижение — почти что самоцель. А искренняя любовь — почти что прививка от всякой похоти.
Мое непопулярное мнение об этом сугубо утешающем публичном месте так и осталось при мне. Я не отдавал отчет, насколько паршивым на вид мне казалось то место. Словно эта высотка (что от первого до последнего этажа была собственностью Джун) годится только как укрытие для неверных мужей-плакальщиков да скучающих жен, которым, думаю, в этом здании тоже найдется кому утешить.
Разговоров практически никто не вел, но те разговоры, что звучали, можно обозвать темами на грани приличия. На пришедших гостей снизошла невиданная удача, несмотря на прохладный прием и не ожидая никакой щедрости. Некий блондин в белой рубашке с красными стразами вдруг вскинул руку вверх. Схватился и хватко задергал за красный шнурок. Тут же откуда-то с потолка раздался звон бубенцов. Все работающие пышнотелые дамы заулыбались. Почти что запрыгали от счастья; уж не знаю, намеренно ли парень вздернул висящий с потолка бархатный шнур. Но такой звон в колокол всегда значит одно: кто дернул за веревочку, тот и платит за всех, и всех угощает.
Клиенты не могли себе позволить и глотка вина местного разлива. Но блондин устроил всем предпраздничный, такой себе вне свадебный мальчишник. Тем не менее эти вещи никак не связаны. Что только не сделаешь ради желаемого — того, что действительно хочется услышать. Все разбрелись по комнатам, кто-то даже второпях скребся по лестнице на этажи повыше в компании спутницы. Такая поворотливость событий меня не впечатлила: я соглашался только на присутствие, но никак не «приниматься за дело». Так все и праздновали, получили нежданный подарок. Все, помимо меня.
ГЛАВА 31. РОБИН
На кухонном столе стояли несколько упаковок с пастой быстрого приготовления, полупустая банка с джемом, а на плите ковш, заляпанный молочными подтеками. Я не подходил к столу, но и без того прекрасно понимал, что во время моей отключки Манчини не стал голодать и дожидаться меня. У стола и правда сидел Манчини и сербал свое варево. Мне осталось только пожелать доброго утра и спросить, что ему удалось приготовить. Оказалось, что, по мнению Манчини, ему удалось из пасты с молоком сварить себе настоящий завтрак чемпиона.
Когда я переспросил его, что за бурду он сует себе в рот, он повторил: «завтрак для чемпиона». Но, на мой взгляд, это было разноцветное месиво, что слабо напоминало клубничный молочный коктейль. По правде говоря, мне было безразлично, как, что и зачем он это ест. Но Манчини заговорил настойчивым тоном, поведал мне семейный секрет: что вся его родня считает такой молочный суп семейным рецептом и почти что праздничной едой. Если Манчини не врет, то, оказывается, он часто ест его молочный макаронный суп по утрам.
Для меня это стало сюрпризом, поскольку я никогда и не видел, как он что-либо готовит. Похоже, Манчини впрямь считает семейным рецептом и праздничной едой: залить пасту молоком, добавить джема и взболтать все в разноцветное месиво. По виду еда как еда, но на вид сытная. У Манчини врожденное гурманство, и несъедобное есть точно не станет. Не понимая древних сардинских традиций, я стою в некоем недоумении. Такие эксперименты над пастой — практически надругательство над национальной итальянской кухней.
В Манчини клубятся итальянские корни, но в первую очередь он сардинец, стало быть, это объясняет такие «необычные» кулинарные пристрастия. Завтрак чемпиона, как говорили дома, питательный и сладкий. Никогда не видел, как Манчини завтракает. Обеды — да. Ужины — да. Но не завтраки. Я как человек умелый мог приготовить и подать на стол еду получше. Пускай даже не помню, когда в последний раз притронулся к плите.
Лично я ограничился парой рыбных тунцовых консервов, которые нашел в шкафу и которые полюбил за время странствий, — настоящий питательный завтрак за доступные деньги, и никакого молока; каждому свое. Манчини договорил речь про кулинарные традиции семьи и продолжил зачерпывать суп серебряной ложкой. Под конец всосал остатки еды из миски, всосал как положено, не оставил ни капли семейного блюда.
Мне необычно осознавать, что в доме и городе живут, дышат, моргают живые существа. Способен поддерживать связь со всеми, но только когда они — чужие проходимцы с улицы. С Манчини я давно знаком и знаю, чего ожидать… его отец сейчас далеко… чтобы увидеться с отцом, Манчини придется плыть целые моря.
В мыслях крепко засел Манчини, но не помешало бы избавиться от компании, вернуться к самому себе. Мне пора возвращаться.
Как только Манчини поел, его руки потянулись к вину… Смотрю, как Манчини напивается; как Манчини громко хлещет вино, как кадык в горле поднимается и опускается при каждом глотке. Мне вспоминается, как на своей шкуре мне удавалось упиваться до уровня остальных студентов на вечеринках кампуса. Подвыпивших прилежных зубрил-студентов.
Подобные нравы быстро приглянулись только поступавшим первокурсникам и стали входить в повседневную привычку: уходить в отрыв на выходные, наедаться и напиваться, пока еще держат ноги. Ближайшие мои знакомые поступали так же и ничего отравляющего в подобных вещах не видели.
Ближе к получению диплома все желания отрываться куда-то пропадают. Это даже не проблема, а всего лишь каприз юности; стоит как следует нагуляться до двадцати, натанцеваться до вялости, путаности в голове и похмелья с утра. Иначе другой возможности бросить может и не представиться. Жизнь с кружкой пенного в руках за тридцать лет — это уже пора бесконечного похмелья, да и органы начинают сбоить, работать все хуже, куда хуже, чем в двадцать.
Мне только во время учебы приходилось по нраву выпивать в одиночку, когда никто не мешает и не сглаживает разговорами действие спирта на мозг, даже тогда, когда я мог в гордом одиночестве заглатывать сидр прямо из бутылок по нескольку за вечер. Все было не так задорно, как отдыхать на широкую ногу среди сотен ровесников. В силу своих убеждений такой расклад меня вполне устраивал.
До капли выпил только что открытую бутылку и уже принялся за вторую. Похоже, вино начало действовать, и даже штопор в пьяных руках не помогает откупорить тугую пробку. Манчини ставит бутылку вина обратно возле себя, на пол. Мне помнится, как захребетник Манчини в особые дни мог взяться и за третью бутылку. Эффектно, по-гусарски, срезать горлышко охотничьим ножом и уже из обрезанной бутылки наливать вино.
Выпивохи осколков не боятся. Разбитая бутылка — еще не повод перестать сливать пойло. Продлить удовольствие видится настолько хорошей идеей, что хочется уже и забыть о том… Есть некий выбор: лучше просто закинуть еще один стакан, а когда снова наступит трезвость, повторить процедуру по новой. Кто не умеет пить, хотят быстрого опьянения и, уткнувшись в стаканы, вливают в себя горячительное залпом; ничем хорошим это не оканчивается.
Манчини не может решить, как загладить свою вину и стоит ли извиняться перед Глорией. После опохмеления четко сказал мне: «Пока голова трещит, не лучшая идея поднимать в разговорах плохие темы» — весьма разумное решение: не стоит грузить проблемами хмельную голову. В моих трезвых мыслях полный штиль, и никаких причин растекаться в извинениях нет. Мне только и оставалось, что молчать, и Манчини воспринял мое молчание как знак немого согласия. Его понурый вид смягчился, оливковый оттенок кожи вмиг сменился на обычную крахмальную белоту. Поднимаясь со стула, я прошелся по дому, который впервые видел; планировка дома казалась до боли знакомой.
Мой напарник по прогулочным делам поставил допитую чашку мимо блюдца. Манчини облизнулся и не спешил подниматься из-за стола. Распластавшись, полчаса лежал на спинке. Манчини вдруг зашевелился: дрыгал ногами, развел руки в стороны, словно делая зарядку. Устало охнул и как следует зевнул. Ни с того ни с сего Манчини стал расспрашивать меня о котах: что я знаю о них? Помню ли я его кота? И тому подобные вопросы… Я мало задумываюсь и не так чтобы много знаю о котах, но как мог поддерживал разговор о них.
По словам Манчини, его кот никогда не обращал внимания на других котов. Кошак гулял только по газону небольшого участка дома, но в один день этот раз он стал взбираться на забор и спрыгивать на участки соседей. Кот шипел и пускал когти на соседского старого кота, который по кошачьим меркам тремя лапами в могиле. Незнамо, сколько его пушистый друг сделал таких вылазок. Объявился сосед с жалобами, который и сказал ему все подробности; тем не менее старый как вчерашние газеты кот не пострадал, и скорее всего, это была весенняя охота котов на самок, а кошак просто попался под руку. Подстригать когти и кастрировать, но из-за буйного поведения был вынужден не пускать питомца на улицу.
Соседи легко могли взыскать деньги за ветеринара, но до этого так и не дошло. В итоге он сдал несносного котищу в приют, что и так собирался сделать. Сдав кота, больше не пришлось его содержать, донашивать вслед за его сестрой. Удивительно, как кот словно подгадал момент, когда хозяин и сам был только рад его сдать в приют, а тут подвернулась веская причина — нападки на других котов. Блохастый — вовсе не помойный кот, приучен к лотку и ест не хуже хозяев. Судя по тому, что кот рыжий, как медь, и покупался в подарок сестре за немалые деньги, его не стоило за просто так возвращать туда, где его и взяли предки…
…Манчини, видать, как следует разгулялся. Еле ходил и попутно разбрасывал из головы все возможные угрозы, что удалось вспомнить его винокуренному телу. В своем представлении он не был тем шутом, каким виделся для всех. Нечленораздельно бубнил и плевался по сторонам; как только его выволокли за двери заведения, его ноги тут же размякли. Уже в салон машины Манчини приходилось нести на руках, как желеобразную перегарную медузу. Поутру проспится и протрезвеет без всяких сожалений о вчерашнем, привычные выходки и ничего больше…
Уверенности, что следует делать дальше, у меня не было, но я точно знал, что нам в этом доме не место. Дом Марии приютил Манчини на десять часов (как моего гостя), если верить настенным часам, и вот мы уже готовы неблагодарно покинуть его. Остается открытый вопрос: стоит ли наполнить пустой рюкзак едой из набитого до отказа холодильника? Ответ был очевиден: мы обговорили такую возможность и, когда уже открывали дверцу, заметили приоткрытую дверцу настенной полки у холодильника. Внутри я на глаз оценил пару дюжин консервов.
Взяв в руку и присмотревшись, это оказались рыбные консервы в томатной пасте. То что нужно для жаркого летнего дня; мы оставили холодильник в покое и сгребли половину банок в рюкзак. Впрочем, скоро мы уже разойдемся по домам; я отказался от своей доли консервов, их судьба осталась для меня неинтересной, но могу предположить. Уже скоро они все будут съедены, а хозяин даже не заметит такой пропажи. Уже выходя на улицу, я ощущаю чувство завершенности. Покинули дом за пару минут, спешка была ни к чему.
Теперь мы неспешно ищем способ, как покинуть Бруклин и вернуться в привычные ново-амстердамские кварталы, и все же находим и садимся в подходящий по маршруту автобус. Лучшее начало дня за последнюю неделю, а ведь день только начался.
Помню, как мы с Манчини уселись на инвалидное кресло с целью немного позабавиться; конечно, кресла-коляски не предназначены для заездов, разгонов и крутых поворотов, но именно этим я и был занят, сидя на инвалидной коляске, как в колеснице. Пока Манчини подталкивал сзади, я сам прокручивал колеса. Потом мы менялись местами, и уже я подталкивал Манчини на сидячую езду. Многим невдомек, каково это — любить обезножить себя. Сидя, проехаться по кафельному полу, как неходячий пациент, но для меня беспроводная коляска милее любых автомобилей. От медленной езды на коляске нет той лихацкой езды и подзарядки адреналином, но мне это и не нужно. Я не против кататься на инвалидной коляске, когда представляется возможность, но не хочу проверять, каково это — засесть в ней насовсем, уже не поднимаясь на своих двоих.
ГЛАВА 32. РОБИН
Плачевный опыт коллег по цеху показывает, насколько серьезен может быть любовный разрыв. Бесплодные попытки поддерживать дальнейшие дружеские отношения ни к чему не привели. Если бегать за без пяти минут женой, проявлять слабость на публике, легко потерять всякое уважение; как-никак следователь федеральных служб не должен наматывать сопли на кулак. Людям с правоохранительными полномочиями следует следить за порядком не только на работе, но и в голове.
Мария и предположить не могла; подобное осознание слегка остужает ее пыл, а ее готовность слушать, что я скажу на этот счет, возросла во сто крат. Знаю, что мы на такое не договаривались, но ничего большего, как безобидный розыгрыш, в моих планах не было. Кто знает, зачем она в это ввязалась, но это уже произошло. Теперь мои руки чисты, хотя никогда толком и не пачкались.
Сегодня то утро, когда мне следует вернуть все на свои места; это будет не так трудно сделать, к тому же мне не придется непосредственно рисковать. Задача болтать и информировать Марию через наушник мне более чем подходит. По словам Марии, она не раз проворачивала подобное со своими подругами во время учебы в академии. Когда было некогда штудировать книги для экзамена, наушник — легчайший способ продержаться еще один курс.
Сегодня я буду в роли помощника-наводчика. Конечно, и я, и она помним местонахождение архива и дорогу к нему. Но стоит перестраховаться после заверений, что охрану планируют усилить… Наглая ложь, как и все, что говорит начальник охраны. Я слышал от него подобные сказки не один раз… Достаточно было пустить легенду в народ, а там она заживет своей жизнью. Слух куда легче создать, чем сдержать; уже поздно будет убеждать, что это был розыгрыш, который разросся и вышел из-под контроля.
Если в этот раз произойдет по-другому, я лично навещу его кабинет, чтобы похвалить за пойманную воровку, на которую и подозрений никаких не было. Этот случай не станет особенным, просто вернем их потерянную вещицу, и никто не пострадает. Эта папка мне уже ни к чему, я просто желаю вернуть вещь туда, откуда ее взяли. Точнее, в этот раз Марии придется в который раз взять пару документов на прочтение, только наоборот. Сидя у микрофона в наушниках, я ожидаю, когда Мария включит свой незаметный наушник и подаст сигнал, если ситуация начнет выходить из-под контроля. Не сомневался, что она профи своего дела, но так быстро увидеть ее дома было неожиданным сюрпризом. У нас был уговор спасти ее в случае опасности, и, к счастью, я оказался не нужен.
Папка включала в себя заметки и недописанные очерки; пока не взглянешь внутрь, содержание так и останется темным пятном. Мое дело доставить, но никто не просил меня смотреть, а тем более вскрывать документы. Думаю, я смогу сдержаться.
В, во всех смыслах, худшем из представимых мест. После первых публичных слушаний легенда стала еще более нелепой, чем преподносилась раньше. Несмотря на все попытки сойти за случайность. Мало кто из подобранных присяжных мог голосовать так, как говорит голос разума. Конечно, суд вовсе не место, где определяется и истолковывается истина или хотя бы правда. Остается только выбирать, на чьей ты стороне и была ли убедительной речь нанятого адвоката (вероятно, не местного). Мне не доведется быть одним из людей, решающих виновность по своему усмотрению. Меня попросту не допустят до слушаний по делу, только если я сам не потребую этого (чего не случится). Остается только посматривать на людей, принявших на себя такую ношу в современной форме.
Вынесенные вердикты все как один оказались в пользу обвиняемого. Следуя узаконенным предписаниям, итоги, что под диктовку в ходе слушаний суда, документированы. Письмена Брюса засекретили, теперь они доступны к прочтению только имеющим доступ в хранилище. Эти бумаги Брюса сами по себе ничего не стоят, разве что радостно думать, что именно ты вправе их просматривать в любое время даже без просьб. Тем лучше для всех.
Понятия настолько изменились, что теперь рассуждать об этом — все равно что проводить раскопки древности. Мне не следовало прикасаться к этому: если старуха Джун прознает, вычеркнет меня из завещания и выставит из всех планов. Планов, которые Джун сама мне и надумала. Соглашаясь на это, я изначально был к этому готов, но сейчас страх вернулся, ведь я могу лишь пролистать эти документы. Держать в руках эту стопку скрепленных листов мог кто угодно.
Радиоэфиры, где корреспонденты сообщали новость о проникновении, только подтверждали слухи об украденных архивах. Вдруг все доказательства (как говорят корреспонденты) «злостного похищения» стали иметь свой вес. Впрочем, списка вероятных виновников все не было — только сотни или даже тысячи подозреваемых, которым были полезны украденные документы и которые находились в близости с местом похищения. Расспросы ни к чему не привели, а только больше запутали следствие. Эту практику «расспросов» было решено прекратить, и всех подозреваемых перестали как-либо опрашивать.
Впрочем, ведомство находится в поиске пути для взятия следа. Судя по тому, как профессионально действовали проникшие, безусловно, работа проведена быстро, и никаких вещных улик не оставили — даже отпечатков обуви или волос, что нередко остается. С таким делом последние пятьдесят лет сталкиваться не приходилось, а воры могут быть где угодно. Если пропажу обнаружили спустя неделю после ограбления, все обретет плохой сценарий…
Не самые удачные попытки разобрать это представление; достаточно долго показывать желание связать эти случаи — можно связать их в одно. Была ли это сознательная инсценировка или неудачная планировка событий — только предстоит выяснить; сейчас подсчитанный ущерб только подсчитывают, и, на удивление, сейчас нет никаких данных о нанесении вреда имуществу. Кто бы ни доставлял столько неудобств при таком интересе, их поимка — всего лишь вопрос времени.
Мне пришлось скрыть от Марии находку. Покуда я нахожусь в пустом доме, это не составляет труда. Как только будет возможность выставить свою находку перед носом Даяны, я первым делом это сделаю. За то время, что я ее не видел, мне бы хватило не раз прочитать все страницы этой папки, причем не один раз.
Сейчас пролистываю только половину, и часть слов не оседает в моей памяти. Приходится проводить больше времени за этим подобием дневниковых записей. Во второй раз оказалось, что они даже не попытались усилить меры безопасности, и никаких преград по-прежнему не было. Приходит время завершать начатое; к счастью, я из прошлого выполнил большую часть работы, остались только заключительные штрихи.
С такой уверенностью говорят, как со дня на день поймают, сцапают преступника. Его заявления и нелепые попытки найти виновных могли только позабавить: пока я сам не приду с повинной, это расследование не сдвинется с мертвой точки. Вид у них встревоженный, но не больше, чем в любой другой день. И в самом деле, смотря на них, мне даже хотелось поскорее вернуть их потерянную вещицу: мне она уже не пригодится, но и возвращать ее просто так желания не было. Остается только ждать.
Странно, как все обернулось. Мария оказалась профессионалкой, вернулась домой быстрее, чем я ожидал. Эта авантюра началась как безобидный розыгрыш, но теперь я понимаю, что втянул ее во что-то большее. Она не могла предположить, к чему это приведет, а теперь ее пыл поостыл, и она готова слушать мои объяснения.
Хорошо, что охранники не усилили безопасность, как обещали, — все те же пустые заверения от начальника охраны. Эти документы мне больше не нужны, но понапрасну отдавать их тоже не хочется. Радиоэфиры полны слухов о краже, следствие запуталось окончательно, сотни подозреваемых, но ни одного толкового следа. Они профессионально поработали, не оставив улик. Если не найдут виновника вскоре, дело обретет плохой сценарий.
Кто не принимает ничего близко к сердцу и не копит обид в памяти, а все удары учебной системы прошли по касательной, могут по-настоящему быть жизнерадостными. Мне же не удалось уберечь себя от неисчислимых школьных побоев, упреков тогдашнего детского умишки, которые заработал в разных школах; моя детская наивность сошла настолько постепенно, что будто и ничего не теряешь, и не замечаешь этой утраты. Хотя в средней школе был абсолютно уверен, что именно мне удастся даже в сорок лет ходить без бесконечных школьных травм, которые заработал в реальности, а защита в виде холодности и флегматизма никак меня не уберегла. Остальные признаки большого ребенка также налицо.
Для меня его попытки держать нос по ветру, пока все остальные плачутся ему в жилетку, вполне объяснимы; есть ведь и среди мужчин люди, которые нянчат детей не хуже их мам, но никаких детей у него нет (кроме тех внебрачных, о которых он и сам может не догадываться). Вот Дядя обложил себя со всех сторон однолетками-отщепенцами, у которых проблем больше, чем полевых цветов на лугу, утешает их как может, словно чуткая, заботливая нянечка.
Еще та горилла, и может отправить меня в нокаут с одного удара, стоит ему только захотеть. В глазах тех, с кем он возится, он станет немалым авторитетом по жизни, и стоит только надеяться, что через пару лет не сколотит свою банду из людей, с которыми он возился… Одним словом, Ирвин умеет набирать себе помощников.
Никаких внешних признаков виновности у подсудимого не было, скорее таким смазливцам самое то в кондитерской работать, а не документы воровать. Скулеж не помог разжалобить судей, главный виновник все же был найден; кто бы опознал в этом приятного вида пареньке главного виновника? Взял ответственность на трезвую голову; либо это шутка, либо он не понимал, что делает. Глупейшее решение в жизни, но за покладистость срок сократят. Назначили ему комфортабельный особняк с участком; для заключенного условия королевские — туда ему и дорога.
Добряк на трезвую голову взял всю ответственность на себя; осталась надежда, что это шутка или он и правда не отдавал отчет в своих действиях. Если это правда, то это, пожалуй, глупейшее решение в его жизни. Впрочем, какие бы причины ни были у явки с повинной, его жертва вскоре забудется; за сделку со следствием и покладистое поведение его срок могут на порядок сократить. Если он рассчитывал своим признанием получить место под солнцем, то его план удался. Ко времени, как его срок подойдет к концу, он еще поблагодарит своих надсмотрщиков.
Дикторы на радио ближе к полднику только и трубили вести, что в конечном счете он, как подсудимый, вступил в сделку со следствием, полностью признав себя виновным по всем жиденьким пунктам обвинения; взамен ему гарантирован домашний арест с правом на досрочное освобождение.
На деле он мог не опасаться за личную свободу: его жилище находилось в такой глуши, что ему негласно предоставлялась свобода передвижения, которой он так и не воспользовался. Также к нему не применялся ряд других ограничений; не высовываться и не подавать вида на публике считалось достаточным наказанием. Несмотря на то что ему в домашней арестантской обстановке было суждено прожить немало месяцев, прежде чем его отпустят, по договоренности он, славный парень, найдет себе применение по выходу на волю.
ГЛАВА 33. РОБИН
У Марии, по-видимому, нет никакого желания показывать меня своему отцу; в самом деле, я рад этому и смею предположить, что ее отцу взаимно нет до меня никакого дела. Я так много о нем наслышан, но вряд ли когда доводилось увидеть вживую. Если верить словам Марии, он сейчас где-то на Карибах. Карибы — не так далеко от Бруклина, но и не на соседней улице живет. Возможно, у Марии и правда в семье два отца, откуда мне знать? Всякое в мире случается, и так тоже бывает.
Мода на сплоченные семьи давно прошла, но на необычные — в самом разгаре. К тому же ее старик — настоящий человек эпохи Возрождения и весьма хорошо выглядел в лучшие годы. Допускаю, что его дом — еще тот проходной двор, настоящее пристанище для сирых и безнадежных, а внебрачных дочерей, таких как Мария, может быть целый легион. Про это и так все догадываются, так почему бы этому не быть правдой? Следует спросить его самого напрямую; если еще доведется встретиться, он подтвердит все мои догадки, и останется только порадоваться за пожилого проказника.
Мария пришла на смену Даяне; Марии достались ее привилегии и обязанности, и эта замена пришлась весьма кстати. До Вермонта и учебы Даяна командовала восемнадцатью здоровяками, которых и взглядом задеть было страшно; ими она управляла по своему усмотрению. Они лишь радовались выполнять любые ее приказы и несоразмерные требования. Хотя сейчас охранные компании и не в лучшей форме, их все равно можно считать достойным украшением любого портфолио.
До этого года Даяна оставалась для меня белым пятном на карте, и меня это полностью устраивало; мы никогда по существу не разговаривали вот уже почти что пять лет, и даже сейчас, когда я живу буквально у нее над головой, перемен не случилось. Мне не следует напоминать себе, что вся затея с общим жильем для троих для меня лишь маленькое разнообразие. Мне никогда не нравилось спать с кем-то не то что в одной комнате, но даже в одном доме; этот дом трехэтажный, и каждому достается во владение один из них. К тому же теперь у меня целых два места, куда можно завалиться переночевать бесплатно; в самом же деле их гораздо больше, но звонить на этот счет я по-прежнему не надумал.
После школы вся сестринско-братская любовь скоропостижно кончилась на полуслове; впрочем, это должно было случиться гораздо раньше, и непонятно, как этого можно было избежать. Когда каждый из отпрысков разъехался во все стороны мира, переосмыслить со стороны былые времена куда как проще. До университетской поры многие семьи неразлучны, это могло стать преградой, но не стало. При достижении определенного возраста все разъехались в разные стороны. Все же насовсем расходиться династии не пришлось. Удобнее для всех американцев было съезжаться именно в Бруклин.
Под эти места встреч родственников бизнесмены даже выкупили местное пустующее здание с видом на море (необычайно удачное капиталовложение для таких живописных мест). Конечно, кто-то предлагал выкупить место более безопасное, желательно бункер вдали от посторонних, но к этому никто не прислушался, и выбрали одно из самых доступных и видимых мест из всех возможных вариантов…
Против туристов никто всерьез не выступал. Туристы не загаживали Бруклин больше самих бруклинцев, даже наоборот, собирали чужой мусор и только делали городское убранство лучше, а бюджет нажористее. Но туристы вовсе не милые белые овечки… демонстрируют мелкие проступки; очень многие из всех приезжающих людей просто не могли не совершить какую-либо гадость и не замарать рук. Совсем иначе обстоят дела с приехавшими в качестве культурных туристов: весь вид города сразу дает понять, что их дурное поведение нежелательно, а бдящая охрана быстро показывает нерадивым туристам дорогу домой. Большинство приехавших увидеть городские красоты вели себя прилежно, и силой разгонять по домам было некого. Долгое время тотальное уважение приезжих к местным традициям считалось в порядке вещей, что в новое время позабыто.
В Бруклине с нравами куда мягче, и желающие нарушать порядки отправляются напрямик туда. Никто не был этим огорчен, и в Бруклине появилась отдельная прослойка веселящихся иногородних; первые годы они и не понимали, что с ними делать, впрочем, сейчас гигантские суммы в бюджет оставляют именно они. Сказать, какой недобор веселящихся людей был у Нового-Амстердама, неизвестно, но миллиарды были упущены навсегда. Впрочем, это никого не волновало, пока в столице процветала своя сцена, и никто не желал делить это место с людьми из континентальной части. И без них тесно.
Вероятно, Брюс значил для Даяны больше, чем просто опекун на детские годы; мне казалось, хотя Брюс и удочерил ее уже как младшеклассницу (а не как меня, почти из роддома)… При мне Даяна ни разу не разболталась, не разоткровенничалась, как относится к своему старику Брюсу. Меня их взаимоотношения не тревожили прямо до момента его кончины, да и сейчас ее представление о Брюсе меня мало волнует. Раз уж мы стали сожителями, любая вражда должна остаться позади, по крайней мере до момента, пока действовал наш триединый негласный договор людей, живущих под одной крышей. Мария признает себя главой дома и как домовладелица берет на себя бытовые расходы и предоставляет все имеющиеся у нее блага мне с Даяной.
Даянин папаша сгинул в результате несчастного случая на работе, стал жертвой неисправного оборудования. Те, кто отвечает за технику безопасности, в тот день явно проглядели возможность подобных событий. Конфликта с вдовой погибшего не возникло, и щедрая компенсация загладила любые противоречия в досудебном порядке. Как ни занятно, но это все, что я знаю о настоящем отце Даяны, или, по крайней мере, могу счесть за достаточно правдоподобную историю. Техника безопасности пишется кровью. На этот раз кровью отца Даяны.
Мои шалости с документами — уже пройденный этап… Не верю, что среди простого люда найдется много людей, озадаченных громкой пропажей, из тех, кто действительно сожалел о папке с бумагами, которые я обнес, вынес из хранилища заодно с другими пожитками Брюса, от которых так и так собирались избавиться.
Похоже, эта поисковая работа пополнит список нераскрытых дел на полке с похожими случаями. Пока папка, что они ищут, у меня, я держу ее буквально за пазухой. Провалы поисковых работ происходят с завидной регулярностью, ведь далеко не все преступления раскрываются; созданный по моей вине случай пропажи отличается только тем, что произошел в неподходящий момент. Как по мне, чрезмерно много внимания на такой заурядный инцидент кражи.
Пускай еще годы назад я и врал себе… всамделишный я больше не станет юлить и брыкаться от очевидного осознания: мои воспоминания (большая часть которых изрядно исказилась по прошествии лет), многие воспоминания меня вместе с Даяной имеют мало общего с реальными событиями.
Впрочем, никто не задавался вопросом правды и достоверности; нужна лишь причина сблизиться, а нет повода лучше, чем примечательная совместная жизнь. Глупо на ходу придумывать новые правила игры. Гроссмейстеры тысячи раз начинали и заканчивали партию в шахматы по одним правилам; представляю, какой удар для них случится, когда знакомая игра вдруг станет для них чужой. Их место без труда уже займут совсем другие люди, что будут играть в шахматы как им скажут.
Хотя я предельно далек от кухонных дел: годами я едва прикасался к плите. Кроме как есть купленное и разогревать готовую еду — на меня не хватало. Теперь из нашей троицы я один регулярно на ней готовлю; я выбираю готовить от безделья, а вовсе не от голода. Стоя на кухне, я припоминаю, что от Даяны и Марии нет вестей вот уже два дня, потому и поручить готовку больше некому.
Хотя у меня масса вариантов, как сегодня сытно поесть. Продуктов в холодильнике за глаза хватит; сбоку от дверцы выпирает полуфабрикатный суп — достаточно только забросить в кипящую воду, и суп будет готов. Мне это заняло без малого двадцать минут, ушло на неумелое стояние у плиты; я помешиваю бурого цвета варево, напоминающее скорее желчь, но представляющее из себя подобие супа, и мое пропитание на несколько порций уже остывает на плите.
Остается неясным, куда отправились Даяна с Марией, но простые догадки подсказывают, что беспокоиться совершенно неуместно; к тому же чемоданы и сумки с вещами, как и раньше, лежат на полу их комнат. Дожидаться их возвращения я не намерен, скорее, по их возвращении домой меня уже недосчитаются.
До первых волос на спине и подмышках я охотно принимал участие во всех школьных мероприятиях, что только предлагали. Уже в подростковье меня не манило желание участвовать во всех конкурсах, что мне предлагали. Участие в школьных мероприятиях только отбирало мое пряное юношество, которое всем престарелым так хотелось позаимствовать. В этом я не одинок, ведь другие люди тоже не горели желанием участвовать в соревнованиях по шахматам. Хотя специально портить результат и понижать успеваемость всей школы своими специально плохими ответами мне не чуждо. Так просто писать чушь в бланках на легкие, а для меня легчайшие вопросы.
Далеким родственникам может показаться милым, что я вспоминаю те далекие дни. С моей стороны глупо брезговать и не использовать свое детство в корыстных целях — чтобы добиться сочувствия от собеседника или пробудить в старых знакомых чувство, будто они меня знают, хотя видели последний раз еще в коляске… Нельзя переоценить и обесценить значение родового имени. К моему счастью, мне всегда будет место, куда податься, проклятие бедности совершенно не страшно. Я основательно открыт для новых людей, даже если это вдруг станет помехой для меня и окружающих в будущем.
Для меня всегда найдется причина, почему и зачем меня нужно любить; достаточно всего лишь никогда не переставать быть Грантом и хвататься за чужой кусок пирога, иначе моя участь будет печальной. Видимо, эта печальная дорога — единственное, чего я по-настоящему заслуживаю, но мне приятнее думать, что в предсказании худшего конца я ошибаюсь.
Тело человека поддается различного рода переменам на свое усмотрение, и, пока его опыты не навредят другим людям, нет и веских причин его останавливать. Беднота считает своим призванием, своим долгом обколоться пирсингом, но при первой возможности выйти в свет. Ни у кого нет проколов на видимых местах, даже серег у дам в возрасте; вынимают с видимых мест вставные кольца и прочие железки, которые только можно вынуть или спрятать от пытливых глаз. Пирсинг и колоть рисунки на коже — совсем не мое, но готов снять шляпу перед тату-пирсинг-мастерами. Татуировщики сгребают деньги в мешки лопатами легче, больше и стабильнее уличных портретных художников.
Нарушение данных обещаний и преступления никак не связаны. Граница между ложью, приукрашиванием и недоговариванием давно стерлась. Не составляет труда одно выдать за другое; сказать лишнего сойдет разве что за клевету, но не более. Это прошло мимо меня, не задев, хотя еще шесть лет назад всерьез подумывал заняться подобным — перебегать из города в город, но все осталось не более чем возможным поворотом событий в жизни. Как ни старался, статус добропорядочного человека я не потерял.
Есть подозрения, что дни последней недели пребывания станут особыми: все худшее у путников случается в первые или последние недели с момента приезда в новый город, но так как первая неделя у меня прошла без происшествий, чувствую, как последняя неделя окажется самой гадостной за все три месяца.
Эта мысль похожа на суеверие или предрассудок, но я всегда смогу найти достаточное количество людей, которые подтвердят мою теорию; путешественники расскажут свои сумасбродные догадки, что первая и последняя неделя самые опасные в их странствиях, и тогда теория из предрассудков станет печататься в путеводителях для туристов.
Первопричина, в которой я, оборачиваясь назад и приглядываясь к ситуации другими глазами, могу увидеть нечто новое… но что толку? Забавно бывает погрузиться в воспоминательные глубины. Мечтать, какой сладкий торт с десятью свечами мне испекли служанки на десятилетие или как с моей детской руки соскользнул купленный на ярмарке воздушный шар. Ясное дело, мне такие детские радости, как ярмарки, больше не интересны: вот уже как десять лет у меня из рук не выскальзывали воздушные шары.
Изначальная убежденность в провале убирает всякий страх перед ним; нечего бояться поражения, когда сам убежден в его неотвратимости. Я заранее знаю итог своей жизни, и почти что на сто процентов, словно так написано в пророчестве. Я знаю, от чего и как умру, и это точно не будет простым прощанием с миром. Многие безнадежно больные и не пытаются продлить свое короткое жизненное приключение. Сами попросят тех, кто им дорог, выключить аппарат вентиляции легких. Родственники часто соглашаются выполнить предсмертную просьбу.
Меня заставляют занять нужную им позицию — «позицию проигравшего слабака». Родня и друзья, что якобы пекутся обо мне, якобы хотят помочь и дают выговориться, высказать все, что сочту нужным сказать; но эта притворная мишура из приятных слов меня не раскроет и ничего не изменит. Мои мысли, секреты и признания, как и всех людей на Земле, могут быть легко использованы против меня; подбадривающие, утешающие люди только и ждут, пока ты раскроешь о себе все вплоть до внутренностей, выслушают все, что ни скажешь, и даже дадут спокойно излиться, поплакать на плече, но кинжала из-за спины не уберут.
Даяна, как великая дочь великих предков, заявляет о себе с другой стороны. Не стоит принуждать или раскалывать; шарм и флюиды сейчас мало кого волнуют, к ней рады обратиться по любой мелочи, и только как женщину ее никто не добивается. Бывало, и во мне пробуждалось желание обладать столь чудным созданием, но это чувство собственничества быстро приходит, так же быстро и исчезает, чему я несказанно рад. Говорят, любимое дело затягивает, и, похоже, у Даяны ее изменчивые хобби — единственный любовный интерес к жизни.
Так недалеко стать одной из старых дев, что хранят себя для избранных, которые так никогда и не встречаются. По-настоящему злободневно смотреть на тружениц, похожих на Даяну. Ее наниматель практически принадлежит ей, но с момента, как она удалилась на учебу, отдав в управление свою команду Марии, ее карьера застопорилась и даже пошла на спад; дальше пошли уже неразборчивые вещи.
Я не брат, что печется о благополучии сестры; меня не очень-то интересует ее жизнь, и она — последняя женщина на Земле, о которой стоит беспокоиться. Но если мне доводится ночевать с Даяной в одном доме, я не обделю ее вниманием хотя бы в мыслях. Припоминаю, что Даяна никогда не доставляла мне хлопот, как Феликс; но если Феликс взял на вооружение постоянно зализывать раны, развешивать сопли на кулак и плакаться по любому поводу, от Даяны я слез так и не дождался, хотя в жестокие детские годы хотел, чтобы Даяна плакала, не прекращая ревела навзрыд — плакала хотя бы затем, чтобы Феликс увидел ее слезы и перестал реветь сам. Помощью друг другу мы с Даяной также не отличались; наряженные посещали светские рауты и мероприятия всех видов паршивости и, конечно, росли в отчем доме как семья.
Единственная общая фотография семьи, которую я отчетливо помню, — та, где я с Даяной и Феликсом стоим в объятиях Брюса, улыбаемся от уха до уха перед фотографом и так по-доброму смотрим в объектив.
Подобных фотографий в семейных альбомах, пожалуй, тысячи, но именно эту фотографию я помню так отчетливо: такая обычная, но особая для меня, и вовсе не из-за Даяны или Брюса на ней, а из-за себя в черном пиджаке, который стал мне мал вскоре после фотосессии, и пришлось покупать новый. Тот самый момент съемки, когда пришлось сделать несколько фотографий. От вспышки камеры я моргал, своим морганием испортил не одно семейное фото (приходилось часто перефотографироваться).
Помню, как Даяне и Феликсу не нравились мои моргания, но ничего не поделаешь: мигательный рефлекс… Мне уже не поддержать ту фотографию в руках, хотя она мне совершенно не нужна, такая сентиментальность мне не к лицу, но порой по телу пробегает нервная прохлада и проступает весьма сильно.
Мысленно возвращаясь к незадачливой Даяне (не думает ли она сейчас, в это же мгновение, обо мне?), у нее за плечами такое же провальное, прерванное обучение в академии; так же, как и я, долгое время не была в Новом-Амстердаме, не металась по стране, как я, а засела в семейном доме. Может, у меня с Даяной есть что-то большее, чем просто холодное терпимое безразличие? Она не сделала мне зла, как и я ей, но я точно знаю, что моя схожесть с ней нужна как собаке пара глаз на затылке. Пускай я взамен ничего не теряю.
Даяна мне, как и Мария, совершенно чужда, хотя я и живу у них и с ними, но вовсе отдельно, в своем собственном коридоре и комнате. Пока есть такая возможность жить, сожительствую, а как только Мария намекнет, что мне уже пора собирать вещи, я тут же и без вопросов найду себе другое жилье или вовсе пущусь обратно в большую дорогу. Остается только ждать этой просьбы съехать и выполнить это пожелание.
Еще лет в четырнадцать я бы упирался и с пеной у рта ненавидел всю информацию, которую мне тщетно пытается донести собеседник. Изменилось это не с возрастом. В какой-то момент пришло простое понимание: увертываться от перепалок куда лучше, чем от них защищаться.
Да, у людей с кожей твердой, как панцирь броненосца, броня что надо, только и она пробивается. Не без оговорок пытался подражать самым особенным образом, на который только был способен, но сам не понимал кому, и, главное, зачем, — ответа у меня до сих пор не нашлось. Сердился, когда не выходило выглядеть на все сто, когда мне того хотелось — быть лучшей версией себя.
Прошло восемь лет, и именно ту версию шестнадцатилетнего меня я считаю лучшей, а сейчас уже все идет по накатанной в глубочайшую впадину. Не мое дело сохранять добрую память о том (умнейшем) парнишке, остальных же шестнадцатилетних мне стоит скорее опасаться, поскольку они ни разу не похожи на меня тогдашнего. В мире нет никаких «схожих и похожих на меня людей». Двоих Робинов Грантов наша Земля просто не вынесет.
Шаркая, я в полудреме доползаю до туалета, где со вчера припас чашечку кофе. Если у меня и были боли в горле, усталость и прочие радости жизни, то уж животворящий кофе подлечит и усыпит меня… Отпускаю все логическое и пускаюсь в почти шаманский пляс… уверяю себя, что в мою чашку налита сильнейшая микстура, микстура, что лечит одним махом от всего.
В кружке плещется лучшее из того, что я могу выпить или просто влить в рот. Сейчас мне не помешает промочить горло, а напиться я всегда успею. Захлебываю наполовину пустую чашку кофе, ополаскиваю им рот и полощу горло, и сплевываю кофе в раковину, словно любую жидкость для полоскания рта; кофе протекло в водослив, теперь смешалось с прочими жидкостями, которые вот так выплевывают…
Я не собираюсь пить кофе на голодный желудок, а так я хотя бы промочил горло… сплюнул все, что набрал в щеки, и жажды как не бывало. Всего, чего мне сейчас хотелось, — дойти до кровати и провести остаток дня, как и несколько последующих, в глубоком сне, который снимет всю усталость, если, конечно, мои две сожительницы не помешают этому… веки тяжелеют…
ГЛАВА 34. РОБИН
Несмотря на неторопливость, я все же успел закупиться в магазине до закрытия; закупил все необходимое, ведь еще минута-другая, и пришлось бы ждать до следующего дня. Мне нечасто перепадает возможность отовариться сразу для нескольких человек, но в списке покупок, что составила Даяна, не было ничего, кроме сливок и лакричных конфет; похоже, всего остального у обеих сожительниц более чем в достатке.
Закупив продукты, я иду с охапкой полных картонных пакетов до приехавшей ради меня машины. Загружаю пакеты в багажник, называю шоферу адрес, и без пробок машина везет меня без происшествий. Прошу высадить меня, не доезжая пяти минут до дома Марии; машина притормаживает за пять минут, как я и просил. Сегодня водитель попался что надо: как швейцар открывает мне дверь и даже помогает взять багаж на руки. Прощаясь, шофер возвращается за руль и выезжает на новый вызов. Решаю топать не спеша и не торопясь.
Еще добрых двадцать минут прогуливаюсь, приближаюсь к дому с покупками. Не пройдя и половины пути, в воздухе начинает витать запах золы и извести; чувствуя дымку, я не придаю этому значения. Но, подходя все ближе к дому, запах становится все более едким и густым. Посмотрев на небо, увидел слабые клубы дыма, что шли откуда-то со стороны, куда я и направлялся. В этой местности, где полно старых особняков, пожары не редкость. Рядом с «нашим домом» полно домов, которые могут загореться от чего угодно.
Все настойчивее меня посещали мысли, что загореться мог именно «наш» участок; руки уже стали подрагивать, и продукты словно вдвое потяжелели, но сердце стучало все так же. Я продолжал идти еле шагая, как прежде. Не доходя пару минут, я ускорил шаг; впереди показались знакомые ветхие, но не тронутые огнем дома.
Дым валил откуда-то дальше по улице, и мои опасения все больше подтверждались. Пытаясь не выронить пакеты, дойдя почти вплотную к дому, мои шаги ускорялись, стали еще быстрее. Увидев картину пожара, я вдруг выдохнул с облегчением. Воочию убедился, что от «нашего дома» мало что осталось; крыши домов по соседству дымились и горели, из окон валил дым, пока внутрь проникал сильный ветер. Воздух раздувал и без того сильное пламя. Второй этаж нашего дома представлял похожее зрелище, но из первого этажа дым клубами выходил из всех окон и громоздился к небу.
Конечно, я отдавал себе отчет, насколько дома с деревянным каркасом могут быстро разгораться, и ни о какой технике безопасности не может быть и речи. Собственно, мне нечего было оплакивать с утратой этого дома: вся ответственность за него как собственника лежит на ней. Рыданиями делу не поможешь.
В любом случае она стойкая, за ней присмотрят и откачают обратно к привычной жизни. К тому же никакой причины лить слезы просто нет: страховка на этот дом покроет все издержки. В самом пустующем доме ничего, кроме малой части ее вещей, не было. Моих вещей в доме Марии и подавно никогда не лежало и не хранилось. От этого пожара мне удалось отделаться легким испугом, только и всего.
Остается только ждать возвращения Даяны с Марией, ждать их реакции на пожар дома. Либо мне, как невиновному в пожаре, просто стоит отправляться по своим делам. Поскольку в этом доме я больше (по понятным причинам) не смогу жить, мое привычное «временное место жительства» по-прежнему ждет меня.
Несколько минут я провожу в ступоре: что стоит делать теперь? Прихожу в себя и вспоминаю, где находится ближайший телефон-автомат; телефон оказался в минуте ходьбы. Набираю транспорт, что только недавно отвез меня сюда. Запыхавшимся голосом проговариваю адрес и добавляю, что лучше прислать машину быстрее, чем обычно.
Отхожу от телефонной будки подальше от эпицентра, к перекрестку, с которого начинается проездная дорога к домам. В руках у меня по-прежнему картонные пакеты, пускай сегодня я не смогу донести их до дома. Оставить покупки вот так на тротуаре я не собираюсь. Спустя минут десять подъезжает машина, но уже с другим шофером; шофер даже не стал выходить из машины. Я машинально кладу продукты в багажник. Откидываюсь на заднее сиденье машины. Остается загадкой, учуял ли шофер запах гари и подумал ли что-то неладное в том, что поехал в такую глушь? Этого я не стал узнавать.
ГЛАВА 35. ФЕЛИКС
Раскорячившись, я пытаюсь отдышаться от усталости: около двадцати минут я полностью тем и занят, что перекладыванием ящиков. Замечаю краем глаза, как Мария и Даяна болтали о чем-то у меня за спиной. Замечаю, но не перестаю таскать…
Необъяснимо, но мое тощее тело каким-то образом может не только вмещать все органы и внутренности, но и выдерживать такие нагрузки; стало быть, я ем совсем мало? Это вовсе не так: ем я за двоих, но все равно не поправляюсь.
Мне очевидно, что я вовсе не обязан возиться с этими ящиками, и у Марии есть кандидатуры, более подходящие под это дело. Если я откажусь «помогать», то не найду повода лучше потаскать тяжести и подпортить спину… конечно, никакая грыжа у меня не выскочит, ящики и двадцати фунтов не весят… потасканный вид мне обеспечен, не более того.
Силачи в цирке, которые только и делают, что едят, но все силы уходят на мышцы, или обычные счастливчики… у них метаболизм таков, что, похоже, все запасы энергии направляются прямиком в мозг, и никаких запасов подкожного жира просто не остается. Мозг действительно отбирает большую часть моей энергии, когда мне удается по-настоящему напрячь его в момент особой нужды. Мозги могут дать мне ответы на все вопросы, которые меня интересуют. Сам я знаю достаточно. Стоит просто сопоставить одно услышанное с другим, и я, как конструктор, могу постоянно генерировать все новые и новые ответы.
Теперь я читаю книги только со скуки, как панацею от бесчувствия, а не путеводителем по жизни, как всегда оценивал литературу. Учась контролю над памятью и разумом, однажды мне стало по зубам выжимать умственные возможности мозга во всю силу в подходящую для умственных усилий пору. Это невозможно описать, я просто ощущаю, когда могу вобрать в себя второе дыхание, как резервный источник питания. В этом нет ни капли необъяснимого, просто особенность моего организма. Уникальность, которой я научился пользоваться. Мозг — не идеальная вещь и работает то хуже, то лучше. Я не придавал проделкам мозга особого значения, однако приятно управляться мозгом и телом с трезвой головой.
На ходу я то и дело поглядывал на них, но не так часто, как хотелось. Мне невыносимо смотреть на Марию и привлекать ее внимание, но и не смотреть я тоже не могу; вот и нахожусь в странной неопределенности, оставляю за собой право украдкой поглядывать на нее. Мария замечает это подглядывание, но делает вид, что не замечает этого. Успокаивал себя тем, что я на нее не уставился, а просто посматриваю, чтобы отвлечься от ящиков. Всамделишного меня до невозможности трудно любить, это всегда было так — было правдой.
Пожалуй, Земля не носит на себе тех женщин, что смотрели бы на меня так же, как я сейчас смотрю на Марию; правда ли это?… Пускай это будет правдой… Отчего-то вдруг Мария стала еще краше, красивее на вид, чем всегда. Связано ли это с моими телесными странностями в последнее время?.. Нет никаких сомнений, что она не похорошела: просто раньше мне не было дела до ее суровой, хлещущей красоты. Ее подчиненные больше на глаза попадались. Она все так же продолжает заниматься делами, не замечая меня. Теперь я преспокойно нахожу причину этому в своем ужасном состоянии.
Мне абсолютно понятно, что Марии нет дела до моего самочувствия; покуда я еще могу ходить, я не стану предметом дурных рассказов и дурных сплетен. Пускай Мария с Даяной говорят про кого угодно и что хотят, только бы не обо мне и не про меня.
Не знаю с чего вдруг, но, задумавшись о Марии, я припоминаю, как впервые услышал о смерти Брюса… Было это возле резиденции Джун, я сидел возле охраны, надо мной висело включенное радио, что играло музыку, как вдруг ведущий прервал музыку и объявил грустную новость о смерти мэра. Я был спокоен, слушал радиовещание неохотно и вполуха, оглянулся по сторонам, рассчитывая увидеть ту же реакцию от компании охранников. Все глазеющие, как зачарованные, со слезливым взглядом смотрели в сторону радиоприемника. Я и предположить не мог: эти громилы окажутся так ранимы словами диктора. Так и чувствовалось: стоит голосу из динамиков сказать лишнюю фразу, как они затопят все вокруг слезами.
Тут меня даже пробрала некая злоба: какими же мягкотелыми могут быть охранники, а ведь именно они должны принимать на себя пули и колотые раны, если мне будет угрожать реальная опасность, и как мне теперь чувствовать себя в безопасности, когда мне подослали таких чувственных неженок? Несколько завидую их неподдельной реакции радиослушателей, словно это малый ребенок, которому однажды голос из коробка с антенной поведал тайну — сказали, как на самом деле говяжий фарш со скотобоен оказывается на прилавках магазинов, и теперь малыш подрос и ест только соевое подобие мяса.
По молодости на Джун смотрели свысока как на нарядный придаток своего благоверного. Джун чувствовала это обесценивание всякий раз, как говорила со старухами — светскими львицами, что с издевкой называли ее «милочка» или «дорогуша». И немудрено, их пренебрежение довольно обоснованно… до свадьбы Джун работала циркачкой, и вся интеллигенция Нового-Амстердама видела в ней только циркачку…
Когда Джун работала с актерской труппой, один вид ее костюмов создавал массу вопросов: «Позволено ли актрисам на сцене так откровенно наряжаться?» В ту пору артистам еще можно и легко было схлопотать неприятности на сцене. Труппа бродячих артистов с Джун во главе перебегала из города в город, что и спасало положение. В особо богатых городах едва было где поживиться публикой, но и хватало конкуренции. В отличие от изголодавшихся по зрелищам жителей пригородов. Джун прознала об этом и выступать предпочитала только в пригородах. Чем надолго вписала себя в почетные гости всех возможных богатых кругов. Нередко ее выступления задерживались.
Джун никогда не выходила на сцену, пока не доводила себя в гримерной до состояния появиться на публике. Выступления откладывали на час, а то и два-три. Публика будто смирилась с этим, и купившие дорогие билеты просто терпеливо выжидали, когда же она появится из-за кулис. Сама она не испытывала по поводу опозданий никаких угрызений и только говорила гримерам, что заставлять ждать — это тоже часть выступления.
Ее успешная карьера продолжалась долго и так и тянулась еще годы… если бы в один день ее не заметил один из владельцев сети ресторанов, которому ее выступления особо приглянулись, и он уже всеми силами пытался переманить ее работать на себя — выступать только в его сети кафе и ресторанов. Вначале Джун отказывала, но все же сдалась и подписала особо выгодный контракт — выгодный в первую очередь для себя; редко кто из ее коллег мог похвастаться таким результатом.
Как только контракт был подписан, Джун перешла на более высокий уровень карьеры… Желающие увидеть теперь знали, где ее можно было найти, и расписание ее выступлений было расписано на месяцы вперед на афишах с ее портретом. Бывало, эти афиши вскрывали с рамок и воровали, поэтому приходилось следить и выставлять дополнительную охрану, но их все равно умудрялись выкрадывать.
Пожалуй, в закулисье одного из концертов Брюс с Джун и познакомились. Перед свадьбой свита Брюса обратила на нее внимание и протащила Джун по всем возможным светским мероприятиям. В самые разные места, где можно было прибавить ума и приобщить к новой профессии — «первая леди города»… Охотно верю, что быть первой леди — тягловая работенка и куда сложнее, чем быть артисткой.
Против ее артистического таланта и неоднозначного прошлого никто яро не выступал; хотя многим она казалась выскочкой, но они держали это мнение при себе. Разве что семейные пары не стали брать на выступления своих детей, ограничиваясь супружеской компанией. Объяснялось это согласие довольно легко, и уже спустя месяц оба жили под одной крышей. И работали в соседних кабинетах: руководитель совета директоров и его жена. Это было первой подобной практикой, довольно быстро граждане уже смотрели на это как на хорошее новшество. После чего многие мэры пытались пристроить своих жен к делу, но лучше всего, как у новатора, это вышло у Брюса.
Девичество Джун давно прошло, от бархатных рук молочного цвета останется лишь подобие крысиных лап. Этими руками она держала подчиненных в страхе, и они до смерти боялись потерять свое насиженное место. Если они твердо следуют установленным в доме правилам, то Джун всегда позаботится о них и в случае чего заступится.
У Джун всегда было много лиц и много настроений. Впечатляет ее изменчивость от шепота и смиренности к буйству и ярости за секунды, туда и обратно. В часы эмоциональных крайностей Джун не дурела, не лишалась трезвости ума, хранила самообладание телом, не теряя контроль. Контроль эмоций — качество, присущее старой аристократии, выдает ее высокое происхождение. Хоть кому-то нормы этикета пошли на пользу.
И не все было так радостно в ее жизни… Ребенком я подглядывал в незакрытую дверь, видел, как Джун, заплаканная, смотрела на отражение в зеркале и могла так сидеть с час, не отрываясь, словно в трансе. Это сидение Джун перед зеркалом я с умопомрачением наблюдал много раз, и только один раз попался. Джун повернулась в мою сторону, молча уставилась на меня коричнево-красным лицом; опухшие щеки надуваются от злобы, но так ничего и не сказала, а мне только и оставалось, как развернуться и уйти, словно не подглядывал.
Я увидел ее в таком виде по случайности. Ее мертвецкий взгляд меня пробрал так, что привычка за ней подсматривать ушла и не возвращалась. Я могу понять ее стискивание зубов в единении с собой перед зеркалом. Все же она, как новообращенная в семью Грантов, первое время была не в своей тарелке; танцовщицы, да еще и с большим стажем, всегда вызывают опаску…
Сложно представить, что еще до моего рождения это место было мелкой россыпью бесхозных островов, на которых собирались рыбаки; смотря на фотографии тех времен, мне поистине не удавалось увидеть на них ничего, кроме рыбаков и рыболовецких лодок. Теперь эти острова прогибаются под весом железобетонных штаб-квартир корпораций и городских инстанций. Когда проблема пробок и нехватки земли окончательно доконала привычных к занудству чиновников среди директоров корпораций.
Огненный остров — закуток земли — был почти единогласно выбран как лучшее место для переселения всех министерств и ведомств. Теперь из трафика только автобусы привозят и развозят по домам работников, а в Новом-Амстердаме и Бруклине количество служебных машин на дороге практически сошло на нет; только ратуша, Верховный суд и мэрия остались стоять на прежних местах. Теперь все вельможи перебирают бумаги вдали от городской суматохи и не слышат через окна звуки клаксонов и выкрики случайных прохожих. Простым горожанам сюда путь заказан: людей, не имеющих разрешения или веской причины, разворачивают еще на въезде.
Надрывно удерживаю равновесие, стоя на одной ноге, удается не поскользнуться и не упасть в грязь лицом. Дальше вышагиваю все более длинными шагами и выбираюсь на почву потверже, где ноги не провалятся в дорожное месиво. Пока я болтался, покачивался в этой грязи, мои ноги окончательно стали двумя промокшими ходулями; я еле вижу, куда ступаю, из-за потоков ветра в глаза. Но кое-как я выбираюсь на край грунтовой дороги. Прохожу все дальше, отмахиваюсь от веток деревьев, что так и лезут в лицо, но по привычному виду понимаю, что до цели осталось не больше пяти минут.
Все, что я делаю сейчас: держу равновесие и не смотрю по сторонам, а ноги уже сами ведут меня; ногам нужно только направление, куда идти.
Меня знобит, но ледяного холода в конечностях не чувствуется, все, что я сейчас чувствую, исходит только откуда-то из желудка: непонятный рассыпчатый жар, а вся кожа и мышцы напрочь потеряли чувствительность. Мне удалось зайти настолько далеко, что звать подмогу уже поздно, особо некого, да и незачем. Мне не понять, что послужило причиной этому. Пока я не доберусь к дому, побрезгую любыми объяснениями.
Я все быстрее втягиваю воздух, отчего горло пересохло и в легких скапливается тяжесть; все же я сбавляю темп и даю себе отдышаться. Горло пересохло, как высунутый надолго язык; продышаться было еще тем удовольствием. Я упираюсь руками в колени, отдыхаю и протяжно вздыхаю… отдохнув, выгибаю шею вперед и не дыша с минуту-другую смотрю на лес. Отдышавшись, я как могу выпрямляюсь и, наплевав на боль, продолжаю идти. Ступаю все медленнее, вразвалочку, шажок за шажком, как ковыляют пингвины по льдинам, так и я, пошатываясь, бреду по лесу.
Мне не хотелось останавливаться. Мозг будто распорядился наделить меня мощнейшим потоком новых сил. Я и забыл, как за пару недавних дней исходил десятки миль и еле выкарабкался из постели. Осталось только воспользоваться моментом. Когда волны энергии спадут, придется ждать вечера, когда подобная живость, что есть во мне сейчас, повторится (если вообще повторится).
Я уже почти забыл, как во время похода с Марией мне «повезло» поранить ногу о корягу. Ссадина на ноге и кожа возле нее словно изменили цвет и несколько побурели. Мне не посчастливилось: разодрав ногу, я не занес внутрь инфекцию, по крайней мере, следов гноя нет. Не уточняется, чем это могло обернуться; стать одноногим — возможность не из приятных.
Даже такие ненастья, как раненая нога, мне лучше и милее, чем просиживание времени в кабинетах. Интересно, я смогу получить страховые выплаты за увечье ноги? Нет, лучше в страховую контору лишний раз не обращаться, я ведь не хочу подмочить репутацию. Для страховых контор лучший клиент — тот, кто всегда регулярно платит взносы, но не получает взамен никаких выплат.
Постоянный клиент уже не перестанет платить, иначе потеряет все накопленные за годы привилегии сотрудничества со страховщиками. Я никогда не имел медицинского полиса, страховки на жилье, страхования жизни и прочих договоров, что отпугивают злой рок судьбы.
По базе данных меня давно зачислили как получателя, значусь как получающий самый дорогой план услуг, но не заплатил ни разу. Благо Джун в свое время подсуетилась на этот счет, что ее приемыш ходит по миру незастрахованный. Мне и приятно думать, что своими руками я ничего не подписывал, все уже подписали за меня. Это стало моей неподъемной платой, то, ради чего я здесь и нахожусь; но Мария никогда не будет моей, и мне не получить ее симпатии иначе, кроме как стать ее правой рукой во всех делах…
****
Пройдя дальше по улочке, мимо нас проходила девочка лет десяти, что обошла меня, словно упавшее дерево, подпрыгнув, схватила проходящую Марию за руку. Оглянувшись на эту сцену, растерянный взгляд Марии ввел меня в недоумение; если девочка так и светилась счастьем, то лицо Марии выражало скорее недоумение, чем радость внезапной встречи.
Мария зашевелила челюстью, словно словца так и вырывались наружу, но вместо любых слов Мария высвободилась от объятий, ладонью оттолкнула девчушку, да так, что та почти потеряла равновесие, но не упала, а еще держалась на ногах. Мария как ни в чем не бывало продолжила идти. Мне нечего на это сказать, так мы и пошли, словно никакой девочки и не было.
****
Лучшая мишень — та, которая стоит на месте и не делает резких движений. Именно такие люди мне и нужны. Но лучшие клиенты всегда в движении, и даже оказаться с ними в одном городе — уже большая проблема.
Желающим личной встречи остается только засесть в одном мегаполисе и ждать новостей, что их предполагаемый деловой партнер где-то поблизости; тогда отловить его станет просто как никогда. Мне не привыкать охотиться за вниманием людей, но обидно работать на тех, кто совсем не видел, как выгляжу я — исполнитель их пожеланий.
Жернова обыденности с совершенной бестактностью обращаются с человеколюбием, но даже в размолотом виде в ней, любящей все живое, еще теплится та беспамятная любовь ко всему людскому. Тем удивительнее, как еще упрямцев — тех, кто сыплет любовными флюидами с горкой, — не размололо в мелкую труху.
Недальновидным и безучастным людям остается только присматриваться повнимательней. При беглом взгляде запросто можно не увидеть что угодно прямо под носом и ужаснуться увиденному. Видимо, это куда труднее, чем кажется со стороны.
Сейчас мне следует следить за всем не отрываясь, раздвинуть веки пошире, а в идеале — даже не моргать, чтобы уловить каждую секунду; но уставшие глаза плохо подходят для такого слепящего света прожекторов. Теперь меня сбивает с толку, куда смотреть; прикрываю глаза ладонью в попытке зажмуриться на несколько секунд.
Открыл веки снова, но лучше мне от этого не стало. Я оставил всякие попытки облегчить легкое жжение в глазах, полностью потонул. Теперь я напрягся и стал смотреть только на самое яркое и пестрое.
Такие завихрения легко приковывают все зрение к себе. Неясно, сколько я так простоял и сколько в целом стою: часов я по-прежнему не надел, а летние вечера могут быть на редкость светлыми, и погода не подскажет мне, какой сейчас час.
Откуда-то со стороны расползался удушливый аромат лесных ягод, и я догадываюсь, от кого он исходит. Так душиться может только Мария. Ее парфюм настолько запомнился моему носу, что я уже начинаю различать именно ее запах среди многих похожих.
Нюх меня редко не подводил, и, как настоящая ищейка, я понимаю, в какой стороне от меня стоит Мария, и даже, кажется, слышу ее дыхание, вдохи и выдохи. Сегодня действительно особый день; пожалуй, стоит пройтись там, где больше шуршащих звуков травы и ощущений, которые мое тело просто не в силах прочувствовать в настолько серые будни.
Пусть полюбившаяся мне Мария хороша собой, но череда мелких несовершенств ее лица, этот желтый налет на зубах мешает мне думать о ее красоте. Ее красота так и сыплется, как упавшие на пол фасолины; ее телесные мелочи — изъяны, которые затмевают все достоинства. По сей день мне всегда бросались в глаза только лучшие стороны Марии. Сейчас же вся она словно обрастает несовершенствами, порастает ими, как днище корабля — морскими желудями. Причудливо наблюдать, как прелестная женская красота Марии увядает прямо у меня на глазах, словно ее и не было.
Позорное зрелище — видеть, как люди со схожими интересами так беспечно и бездумно меняют свои убеждения на новомодное и свежее течение. Я же остался с теми же убеждениями. Это нельзя счесть за предательство — простая смена персональной маски и вместе с тем амплуа на более подходящее. Но если они удосужились так быстро и убедительно сменить убеждения, то ничего идейного в их мнениях никогда не было.
Теперь я, как страж своих порядков, продолжаю тихой сапой соблюдать прежние устои без изменений вместе с теми, кто пришел в тусовку раньше всех остальных.
Притворные позеры пришли уже на все готовое и теперь смеют считать себя теми самыми, кто успел запрыгнуть в первый вагон к настоящим первооткрывателям. Тех “героев”, коих сейчас днем с огнем не сыщешь. Если человек и должен поступиться принципами, то бескорыстно и лично для себя, а я не нахожу для себя никаких причин для этого.
Во мне довольно мало бескорыстного, и я практически имею печатный станок под рукой. Пожалуй, я даже не из тех «столичных мальчиков», которым, возможно, и хочу быть… Я был на дне, в настоящем антиподе Изумрудного города… Ржавом городе, что словно создан специально для впечатлительных школьников, которым стоит показать, как по-настоящему может выглядеть плохое градостроение.
Мне даже не вспомнить, как тот городишко назывался. Помню, что он был всего в часе езды от Бостона, куда-то в сторону Великих озер. Первое мое представление о городе сложилось, как у любого младшеклассника, которого впервые в жизни повели в луна-парк; иными словами, первое впечатление выдалось на славу.
Я не вслушивался в то, что тараторили себе под нос экскурсоводы, которые заученно рассказывают истории благовоспитанным школьникам про их распрекрасный город с его обильными ресурсами и местностью… Гуляя по здешним лесам, легко потеряться, даже имея при себе компас, а все от железных руд: в здешней земле их настолько много, что стрелки компасов крутятся в любом направлении. И бла-бла-бла…
Только прибыв туда во второй раз в старших классах, я увидел вовсе не повороты стрелок компаса… Чего там только не творится: мусор везде и всюду, свалки переполнились и временами дымятся, зимой весь снег припорошен сажей от доменных печей…
Летом обстановка не лучше. Клубы дыма вздымаются к вихревым облакам да так, что даже перелетные птицы в вышине брезгуют летать над подобным городом и просто огибают это гнилое местечко.
Ради приличия были высажены леса, в которых годами не заводились дикие звери, но они стали прекрасным заслоном, скрывая гущей леса промышленные комплексы, сравнимые по размерам со всей жилой застройкой города.
Бездарные попытки облагородить улицы сыграли злую шутку, над которой посмеиваются те, кто смог уехать без задних мыслей когда-либо вернуться в неисправимый город не первой свежести, отросток для рудоискателей. Городок окончательно превратился в нагноившийся рудимент, который Земля не способна удалить самостоятельно.
Впрочем, добивать город с населением чуть меньше двух миллионов (но в самые лучшие годы приютившим втрое больше) уже никакие силы не могли; облегчить участь города, пока от него так исправно поступает прибыль. Запасы всех ресурсов настолько велики.
По прогнозам геологов, карьеры по добыче исчерпаются при самом плачевном сценарии через полвека, хотя большая часть экспертов твердит о никак не меньше ста лет. На всем континенте больше нет таких разведанных запасов.
Всю ночь мое тело кидало в жар, но я был не в силах согреться: потирал ладони, грел их теплым воздухом изо рта. Казалось, что глупее и быть не может. В согревании я находил хлесткий ответ, как мне охладиться. Так продолжалось час-другой, пока тело не провалилось в кошачий сон. Я стал со сном одним целым.
Проснулся в жутких болях, я изнемогал: хребет ломало и выгибало, как при переломе, а мышцы застыли, словно потеряв всякую пластичность.
Двинуться и сдвинуть онемевшие конечности стало совсем немыслимо. Простыня была влажной и холодной, так что попытки дернуться и выпасть из немоты только усугубляли положение. Когда полная обездвиженность начала спадать, я разминал костяшки и фаланги, еле гнущиеся пальцы рук и ног. К ним подключились ладони, и я с полчаса оцепенело застыл в одной позе.
Пытаясь расшевелить свое так не вовремя застывшее тело. Такая немощь тела у меня случалась и ранее, и случается с регулярностью в несколько лет. В этот раз эта напасть настигла меня в сухое лето, чего не случалось никогда. Все же я сел и распрямил спину, насколько мог; в таком состоянии легко кажется, что еще чуть потянуть спину, и весь хребет переломится, как тонкая стеклянная ножка у бокала.
Постепенно я приходил в привычный ритм, делал вид, что с телом полный порядок, но не помню какой-то весомой причины, по которой теперь так изворачиваюсь, дабы вернуть телу гибкость. Сперва это кажется невыполнимым, и теперь я навсегда обречен хрустеть суставами каждый раз, как хожу, но судьба почти паралитика меня не прельщает. Но если я останусь лежать, станет только хуже: такой способ избавления от боли мной испробован еще во время одних из осенних каникул начальной школы.
Это был гиблый метод: так тело еще больше примет положение камня, и двигать даже костяшками пальцев или даже лежать станет немыслимо. К счастью, в тот день мне удалось с полдня лежать без посетителей, и никто не заметил моих страданий, ни следов моего превозмогания своего же тела в тот день. Все прошло и повторилось годами позже, но я уже, обученный опытом, знал, как следует встречать предательски болезненный скелет. Если день начинается с такого, страшно подумать, чем он может кончиться.
Моя бодрость при этом держалась и не спадала, это дало мне сил добраться до холодильника длинными шагами без особых сложностей. Открыв холодильник, во мне пробудился зажатый всеми силами интерес к еде, я страшно изголодался, желудок требовал еды, и немедленно. Едва увидев еду, рука потянулась ко второй полке, где ютились картонные пакеты с молоком; я прикасаюсь к мерзлой картонной упаковке, капли влаги на ней холодят мою кожу.
Хватаю пакет и было хочу его рывком вытащить, но не выходит: приходится вытягивать из холодильника словно неподъемный груз, и мне это удается. Дверцу еле закрываю шлепком пары пальцев, но и этого хватило… меня охватила внезапная острая тревога. Попытки себя успокоить не возымели должного эффекта; спустя пару минут мне полегчало, я собрался с мыслями и даже обратил тревогу в свою пользу.
Допив молоко, мне совсем не хотелось стоять, хотелось прилечь… нежиться в постели… Самое время скрючить ноги, завернуться в плед, словно наутилус в спиральную раковину. У меня есть еще часы времени, когда никто не застанет меня в таком жалком виде. Вид со стороны действительно жалок, но только так я и могу заснуть, не ворочаясь в постели.
Ох, эти навязчивые мысли, что долгие часы не покидают мой рассудок, затем так же легко покидают, как и пришли, — не предупредив и без всякой причины. Контролировать такие периодические волны терзающих раздумий становится все тяжелее. Все четче я чувствую усталость, а когда я усталый, то и мысли мои стали словно усталее…
Стоять с указкой или громкоговорителем и директорствовать — это не про меня… совсем не про меня, и не про Робина, которому все мирское словно гирлянда на новогоднем дереве… и не про Даяну… Да и вообще, скорее не людское это занятие — начальствовать. Вскоре возникает желание поскорее избавиться от самых недовольных, рабочий персонал. Удивительно еще, как при таких условиях нанимающим удается набирать все новых сотрудников.
Ответ нашелся сам собой: на худшие работы привлекают немало заключенных. Конечно, они не заложники, им платят деньги, да и обращаются скорее как с обычным персоналом, просто у них нет свободы отказаться от работы… но у кого есть эта свобода?
Порой их количество доходит до двух третей, либо рабочая смена полностью состоит из таких каторжников-батраков. Мне и раньше доводилось про это слышать. Я пропускал эту информацию мимо ушей. Разве что стоит по возможности усилить охрану: никому не захочется увидеть беглых заключенных подле своего дома.
Да и многие люди только рады узнать, что после суда осужденным находят применение — труд на благо общества. Мне ли не знать, в каких условиях содержатся арестанты и как порой бывают опасны охранники. Пускай методы перевоспитания уже не те, что прежде, и порядки куда смягчились, но легче от этого не становится.
Я вполне могу допустить, как говорит Робин, что «по обязаловке» любого, кто не бизнесмен, можно назвать каторжником, заключенным в тюрьме открытого типа.
Печальная практика, хотя и не без пользы. Если от меня зависит судьба отщепенцев, каждому осужденному достанется амнистия, даже если он этого не заслуживает.
Впрочем, я и не припомню, когда в последний раз видел стражей порядка или людей в тюремной форме. За всю жизнь в городе я едва помню десяток случаев, когда встречал проезжающие машины законников. Но я никогда специально не высматривал жандармов; похоже, они всегда рыскают за моей спиной, а я упорно их не замечаю.
Влюбленные так любят сравнивать общее в партнерах, общие интересы и общие слабости. Для выгодного партнерства всегда стоит сойти за своего: достаточно смеяться, когда все смеются, и плакать, когда все плачут; притворяться и сбрасывать, как ящерица свой хвост, личное мнение.
Добросовестные люди каким-то образом видят себе подобных издалека, только пользы от этого никакой. Разве что добродетельным людям вдруг станет одиноко? Мне же будет не хватать только пятничных посиделок, момента, когда можно собираться вместе и приятно провести вечер пятницы. Буянить в компании таких же работяг в клетчатых рубашках и с манерой пить не вставая, даже не закусывая.
Клетчатые узоры на рубашках напоминают мне того доходягу-туриста в длиннополой шляпе размером с сомбреро и глазами, полными непонимания: куда идти и когда будет ближайший рейс обратно. Мы пересеклись в одном из баров, завели приятельскую беседу и уже в качестве приятелей переходили из одного бара Бруклина в другой.
Конечно, он был приезжий и не знал города; я мог раскрыть все глубочайшие тайны, показать лучшие места как Нового Амстердама, так и Бруклина. Как и все туристы, он бывал в двух городах сразу и не мог решиться, какому отдать предпочтение. Мне не вспомнить его имени, да это и не важно: его силуэт остался при мне, в памяти.
Само знакомство продлилось от силы полдня. К вечеру он покинул город, никак не предупредив об этом. В то время мне и в голову не приходило, что люди могут информировать об отъезде заранее. Он был туристом, одним из многих моих недолгих знакомств. Туристы такие туристы, им только по барам и ходить.
Ловлю себя на мысли, что давно не видел настоящих застолий в барах, словно трудяги выбрали другое место, где разговорам за жизнь никто не будет мешать неподходящей публикой или слишком громким радио. Вряд ли мне хотелось всерьез наблюдать за о чем-то болтающими людьми вдали, но их исход не остался без моего внимания.
Мне стоит показываться на виду как можно чаще: это сделает мои шансы на успех стократ выше, чем если меня никто не будет замечать.
Эти интереснейшие случайные встречи знакомых лиц помогают мне знать, кто еще остался в Новом Амстердаме. Не укладывается в голове, сколько людей можно ненароком встретить; нужно только знать нужный час и нужное место, куда прийти.
В самые постылые дни я по-прежнему слышал все отчетливо, но словно в отдалении: уши стали куда менее чувствительны к звукам. Казалось, великолепие музыки и голоса людей доходят до меня в глухом, приглушенном виде. Словно в мои уши залили воск, который я не могу просто так вытащить. И такая глухота к звукам то спадала, то возрастала.
Бывали дни, когда я совсем становился непроницаем к шуму. Взрыв любой мощности казался мне не громче лопнувшего воздушного шарика. Однажды я проходил в паре минут от склада, в котором неподобающим образом хранили баллоны с гелием. Сперва раздался хлопок, потом — с двадцать таких же хлопков. Я слышал эту феерию взрывов не иначе как если бы деревянную бочку пива уронили на мостовую.
Я услышал их, но не обратил внимания; как сейчас помню, я даже не обернулся на взрыв, просто пошел дальше по своим делам. На следующий день утренние газеты писали об этом происшествии. Пожарные сообщили, что сперва рванул один баллон.
Следом взорвался и весь запас, что хранился на складе. От склада мало что осталось, из людей никто не пострадал. Кто-то даже меня спросил, слышал ли я об этой новости. Я с изрядной долей удивления в голосе сказал все как есть: что проходил рядом с тем местом в момент взрыва, но ничего не увидел.
Не помню человека, кто спрашивал, но он похлопал меня по плечу, сказал, как мне повезло, что остался цел, и нужно себя беречь. Только спустя дни я осмыслил эти слова и понял: я действительно в то мгновение мог пострадать, а пострадав — еще долго мучиться от травм и ожогов, но вместо паники я и глазом не повел.
Мне не приходит в голову называть себя бессмертным, но я полностью убежден, что не могу стать жертвой несчастных случаев и курьезов. На кого-то из людей падают метеоры, бьют молнии, сходит лавина или засыпает песчаная буря. Я точно уверен, что со мной ничего такого не произойдет, я даже знаю, что не произойдет.
Эта река кажется вполне чистой, пить из нее я бы никогда не рискнул, но если исследования просветителей-ученых верны, река Гудзон — одна из самых загрязненных и токсичных рек на континенте, если не во всем мире. В школе мне, как и остальным детям, втолковывали, что ни в коем случае нельзя даже рукой касаться этой воды, не то что плавать в ней.
Но как я ни подхожу к Гудзону, в ней постоянно кто-то плавает и, разбежавшись, прыгает с большой высоты. Почти все мои одноклассники хоть раз да купались в этой реке и чувствуют себя превосходно; такое чувство, будто только я один в ней не плавал, стоило хотя бы один раз попробовать.
Если бы я продолжал быть новичком, я уже никому не смог бы помочь, особенно себе. Впрочем, я сам того не заметив, избавился от этой вредной привычки развивать только то, к чему есть износостойкий талант. Теперь же «новичок» для меня — худшее оскорбление. Фраза “а раньше ты был…” хуже тесака, все равно что ковырять старые раны.
ГЛАВА 36. ФЕЛИКС
Мне вспоминается время, когда я в последний раз бывал в этом доме; тогда я был еще слишком мал для школы, а подслеповатые взрослые водили меня за руку по этажам, из комнаты в комнату, и тараторили напоминания. Я внимательно смотрел под ноги, не отходил, ведь такой крошке в таком большом доме легко потеряться. Спустя годы дом остался таким же большим и всего с одним выходом наружу; говорящие взрослые явно знали, что говорили.
Теперь, повзрослев, мне пришло время бродить в одиночку по этим пустым затхлым коридорам в разы дольше отведенного на это дело времени. На стене не хватает точной инструкции, как войти в это здание, и плана здания, как выбраться наружу. Состояние дома с того времени вовсе не улучшилось: когда я пробую на хлипкость ступени лестницы, под моим ботинком ступень выгибается и скрипит; подниматься по лестницам может плохо кончиться. Я стараюсь быть невероятно осторожным, теряю страх, что упаду с лестниц, на которых даже перил нет. Верю своим знаниям: как безопасно ходить по скрипящим ступеням, чтобы те не прогнулись под полом и я не свалился.
Ставлю шаг аккуратно, насколько это возможно, пробираясь почти что на ощупь в полной темноте, доверяясь чутью. Ощущаю, что заковылял по правильному пути: моя любовь к потемкам помогает мне определить правильные пути. Без особых натяжек дохожу до последнего, третьего этажа, где больше нет лестницы наверх.
Мое несколько необычное проведение досуга в этом доме продолжается, и я уже вовсе не знаю, когда придет пора выбираться. Находясь здесь уже долгое время, нос уже не улавливает застарелые запахи в доме, воздух пахнет как предгорья скалистых гор. Чую, словно я сейчас нахожусь посреди лесной поляны с запахом росистой травы, хотя и не отказываюсь от мысли, что в этом доме и правда могла поселиться флора, но пока ничего, кроме плюща и мха на фасаде, я не заметил. Но я не прошелся по этому дому полностью, и, может, в одной из комнат нет ничего, кроме дикорастущих растений, дверь в которую я просто не открывал.
Запах, что только что казался настолько свежим, теперь стал обретать болотистый оттенок тины. Дурной болотный запах не играл для меня никакой роли. Я прошелся вдоль и поперек, но эта вонь меня не покидала, словно была не от окружения, а вонял я сам. Зловоние исходило откуда-то из самого основания носа и не прекращалось; тогда я стал дышать ртом вместо носа, но ничего не помогало, словно мой язык стал чуять запахи не хуже носа. Должно быть, я и правда единственный, кто учуял эту гнилость, либо остальные сопровождавшие меня умело скрывают недовольство. Но им не привыкать к гнилым запахам, ведь если долго жить на отшибе жизни, то подобные запахи кажутся привычным делом и становятся частью и особенностью самого города.
В домах, как этот, не осталось ничего целого; к счастью, в отличие от этих зданий, и это единственная хорошая новость за сегодняшний день. Каждый дом ветхий по-своему, но на примете у меня этот самый дом. Именно в этом доме имеется знакомый, удушающий запах, унюханный мной еще с детства. Знакомая вонь, та, которую я не сравню ни с чем унюханным за последние пару лет, от которой приходится дышать только через рот. Глаза слезились, и первым делом я вышел в коридор отдышаться. У этой кладовки нет окон, а значит, единственный способ осмотреть ее — это заткнуть нос и быстро вынуть то, за чем пришел.
Даже время в этом доме словно сбоит. Пока я в этом доме, знать время мне без надобности, обо всем мне скажет тело: когда есть, когда спать и когда вернуться обратно в постель. Как для хижины с прогнившими стенами здесь довольно тепло. Даже если на улице летняя жара, ночью холодит и отдает октябрьским ветром. Но на втором этаже всегда словно одна, «своя», не меняющаяся температура.
Ощущаю себя облитым помоями, будто весь постыдно зарос грязью. Все же мне удается сделать глубокий вдох и не потерять сознание от зловонных запахов, и этого достаточно для меня. Окон здесь как таковых нет, лишь ставни, которые еле держатся на петлях: дотронуться до ставен пальцем — все равно что выломать. Даже удивляет, как такой пример некогда красивого дома, похожего на поросший склеп в запустении, еще выдерживает все непогоды и не рассыпается до руин.
Вспоминаю свой дом у дороги и, что важнее всего, панорамные окна моей квартиры выходят на, пожалуй, лучший малолюдный вид в городе; не будь такой панорамы города, и квартира не стоила бы ровным счетом ничего. Но в этой квартире есть все то же, что и в моей настоящей квартире — там, где теперь живут мои самые далекие родственники, которые красуются лучшими видами огней вместо меня.
Последние владельцы этого дома давно покинули наш мир. Пройдя пару шагов по скрипучему ветхому полу, я все же добрался до зала. Мне не узнать, какие раньше элементы декора и вещи стояли на первом этаже; сейчас же вокруг было пусто. Окна с подчистую выбитыми стеклами были широкими, поэтому было довольно светло. Вид из окон выходил на искусственное водохранилище, когда-то поставлявшее воду местным жителям, сейчас же без систем очистки оно больше похоже на зацветающее озеро. Но вид на озеро прямо из окон жилища — зрелище лучше, чем вид на пустырь.
Лунное светило словно ускорялось, с солнечной скоростью ускоряло вращение вокруг Земли. Глядя на цельно-черную стену, я десятки раз видел, как лунный свет отражает угловатые узоры синего цвета: сперва эти узоры были совсем примитивны, словно молодое дарование макает палец в краску и затем стучит им по листу бумаги, оставляя цветастые кляксы. Затем луч стал несколько короче и вырисовывал для меня одного те фигуры, которые меня точно удивят.
Луна предвосхищает желания малосильных; в миру моим вкусам так просто не угодить, и мне потребуется нечто большее, чем простые силуэты. Друг за другом сменялись и кукожились различные фигуры, которые только знает геометрия и названия которых мне не припомнить.
Мне захотелось проверить, останется ли это световое шоу, когда я отведу взгляд. Мне легко удалось направить зрачки смотреть на крайний правый угол от меня; я смотрел на, казалось, совсем неприметный угол, но расцвеченные лучи и не думали исчезать. Просмотрел так несколько минут и принял то, что мне не отвертеться от главного представления. Продолжил смотреть на весь калейдоскоп и, пристальнее вглядевшись, увидел, что стали меняться не только фигуры, но и цвета.
Луч утолщается и разбухает прямо у меня на глазах; теперь почти вся стена, кроме самых краев, объята потусторонним светом, словно на нее направили мерцающий прожектор. Цвет из синего стал постепенно ярчать и теплеть, становясь скорее аквамариновым, затем тускнеть и краснеть в алый. Все время, что я лежу словно пригвожденный к полу, мне не удается и пальцем пошевелить, только зрачки спокойно движутся. Легкие кое-как вбирают воздух, от вдыхания бронхи покалывают внутри меня. Такое представление… и все словно и вправду только для меня, никак иначе я это назвать не могу; я не хочу закрывать закисшие глаза, не хочу, чтобы этот свет гас и все вернулось в ту серость, откуда я вошел непрошеным в этот дом.
Личные кинотеатры готовы показывать киноленты для одного зрителя, по желанию повторные показы можно запускать снова и снова, если зритель сам того пожелает и пока бобина с кинолентой еще останется целой. Сегодня мой кинооператор — сама природа, а кинолента, видимо, то ли губительные силы Луны, то ли мой воспаленный разум. Мне нет дела до того, к чему все это происходит, почему именно со мной. Есть в жизнях людей единоразовые моменты, которые больше не повторяются. Мне остается только рыдать, надеяться, чтобы подобное не повторилось в будущем; а сейчас мне стоит пошире раскрыть веки, но я по-прежнему не вижу ничего, кроме переливов цвета и вариации оттенков.
В смятении я теряю рассудок… пытаюсь найти потаенные смыслы и значения различных цветов, все, что мог знать о свойствах и значениях, что придают различные культуры. Сперва кажется: цвета переходят один в другой под силой некоего алгоритма. Всякая структура, что поддавалась объяснениям, пропала. Теперь все делается неспроста, без видимой причины, но и без всякой логики или же по прихоти самой Луны, а ее превосходство надо мной несравненно. Потому решаю не оспаривать даже в мыслях ничего, что выводит мне цвет на стену, которая уже и не стена, а полноценный киноэкран.
С десяток минут смиренно просматриваю еще порцию этого очарования и задаюсь вопросом: в силах ли я это остановить или повлиять на него как человек, на которого снизошло такое… сияние? Не верю в то, что я пытаюсь делать, но я собираюсь с силами и закрываю глаза что есть мочи, тужась, морщу лицо в нелепой гримасе, на которую не могу посмотреть со стороны. Все же я не могу вот так пролежать вечность, смотря прямо перед собой; пожалуй, сейчас я уже вдоволь насмотрелся, а на цветовой палитре это явно не кончится. Стоит только немного надеяться, что я сам не закончусь следом за этим шоу.
Сжимая веки, я чувствовал и видел все сквозь них. Чувствую, как свет ударяется об уже закрытые глаза; понимаю, что такое зажатие глаз может безрезультатно продолжаться часами. Сколько угодно долго, покуда мои разноцветные глаза потухнут насовсем. Не нахожу ничего лучшего, чем полностью расслабиться, расслабить не только глаза, но отпустить все мышцы и клетки тела в свободном состоянии, когда ни одна мышца не должна мной чувствоваться, словно у меня больше нет тела. Луч сделал свое дело: сделал меня сперва обездвиженным, затем полым, и, наконец, становлюсь насовсем бестелесным…
Все только поддакивали, знали: чем дольше учитель говорит не по теме, тем скорее кончится урок. Кто-то даже пытался разговорить учителя на еще больший поток речей. Впрочем, в школах, где план обучения составляли сами директора без оглядки на любые нормативы, часть учеников и вовсе числилась как исправно ходящая, при этом никто не знал, где они пропадают. Проверки были единичны, и о них сообщали заранее. Моя память о школьных годах настолько прояснилась, что я наконец понял, почему так редко видел отдельных учеников: они это время проводили в более интересных местах.
Люди ничего не теряют и ничего не приобретают: все просто движется само собой. Многие судьбы тому подтверждение, а потому не сужу никакого бездействия. Люди топчутся на одном месте и затаптывают все, на чем топчутся. Природа берет свое и опутывает порывы людей вырваться из-под влияния планетарной родины. Небесное светило также не дает людям покоя, но не так, как родная Земля. Такие чуждые природе создания, как люди, надолго здесь не задержатся. Прискорбно, но мне даже нет нужды знать, что я прав. Нутром я чувствую это, чую эту правду на самых кончиках пальцев.
Многие годы я чувствовал и думал, что бессмертен. На самом деле эта уверенность в моей непобедимости, неугасаемости сохранилась во мне и поныне. В моем нынешнем состоянии эта мысль не покидала меня и даже усилилась. Со стороны могло казаться, что я уязвим как никогда, но именно сейчас ощущаю: мне прежде не было так хорошо и свободно, и это чувство свободы нарастает, обволакивает конечности. Я уже по-настоящему не могу пошевелиться, на глазах уже невольно выступали слезы, но так и не потекли. В один момент вся тоска исчезла и осталось кромешное ничто размером с мое тело. Я стал полностью пуст, только глаза могли двигаться, но и этого мне было уже достаточно.
Мне видятся несуществующие места… несуществующий Обратный Бруклин, где огни большого города падают только вниз, словно низко нависшие звезды, сошедшие с небес. Бруклин, подобно переполненному зверинцу, разросся до предела, и от упавших искр пожары вспыхивают на каждом углу. Железобетонные конструкции горят, как сухие поленья, и в мгновение ока квартал превращается в пепел и золу. Казалось, что все пожарные — укротители огня — куда-то исчезли, а у жителей и мысли не возникает взять в руки пожарный шланг, зато вокруг полно тех, кто просто смотрит и наблюдает. Право слово, это зрелище, подобно горению дубовых чурок в камине, завораживает, и мне сложно противиться желанию созерцать.
Спешная эвакуация началась без промедления: подойти к огню нельзя и на милю, он сыпуч и непредсказуем… В этом Бруклине не осталось места человеческим звукам, только природовластие с его шумом, плюханьем и бульканьем воды, что льется в неразделимую какофонию. Моря волнуются, колышутся, темнеют до почти битумной черноты. Из волн доносились рыбьи звуки, звуки чешуи и плавников; кроме них я вовсе не слышал никаких звуков.
Мне открылись виды моря, приморский берег и рыбаки на берегу… На берегу разбросаны кости рыб гигантских размеров, видимо, с этого моря можно выудить самую крупную рыбу. Судя по костям, море вырастило этих рыбообразных существ до небывалых размеров… рыбакам, должно быть, только в радость вылавливать рекордный улов… Рыбачить на тунцов размером с овцу — одно удовольствие…
Рыбаки вдруг принялись кусать и обгладывать кости рыб, которых поймали… как звери… Законам дикой природы есть где разгуляться… Звери в дикой природе едят только в безопасном месте. Люди же, напротив, поглощают еду в общественных местах и в любой момент могут подвергнуться атаке… Может, рыбаки уже не первый век вот так ловят и едят рыбу? Ужасная у них судьба: веки вечные ловить рыбу. Не то чтобы я был против, впрочем, поддержать их в начинаниях нет ни малейшего желания.
Мне стоит испытать и проверить пределы собственного тела? Разноплановые ситуации, наблюдаемые мной у других, показали, что пределы эти весьма безграничны (не считая крайностей). Мне незачем получать сквозные раны или получать любой вред здоровью, что несовместим с жизнью. Мое понимание вышло за рамки простых реакций на боль; упади на мое тело настенные резные часы с кукушкой внутри, что камнем вниз приземляются мне на колено, мои нервные клетки немеют, не заметят того, какой слом нанесен моему телу. Словно никаких часов не падало и часов с птицами внутри вовсе нет — не только на стене, но и в природе.
Мне не удается проверить «особое бесчувствие моего организма». Моя привычная, странная способность отнимать у себя чувство боли, что приходит, когда никакой немоты не требуется. С этим так легко просчитаться, перегнуть палку слишком легко, с трудом дальше удастся вернуть все как прежде.
Никакими уступками, ласке и жалости, не принести полного утешения. Утешение мне видится только в монументе. В памятнике «Памятник свободе творчества». Все недовольные прекрасно знают, что абсолютной свободы на Земле никогда не наступит, посему всегда будет повод, чему возмущаться. Никому нет до тебя дела, пока ты молчишь, а когда недовольные люди хотя бы шепчут, это уже словно наведенный свет прожектора.
Я слишком ценен для многих, более низких по рангу. Более простым людям приходится прогибаться под мои условия, если хотят и дальше «получать свое». Обсуждения творений плавно переключились на личную жизнь, впрочем, для них это давно слилось в единое пространство. Меня не назвать внимательным собеседником во всем, что касается мира высокого искусства, роли всего пьянящего красотой и положения красоты в мире. Спрашивали о всевозможных (своих) дилеммах.
Их проблемы казались мне такими близкими, такими не надуманными. Я припоминаю всю жалобность, все сожаление и боль, которую собеседники мне выговаривали. Словно с запозданием и без моего ведома каждая проблемность Мира обрела форму и стала рукой. У руки высунулся палец, что коснулся моего лба. Слишком много осознания на меня нахлынуло.
Но я выдержу… Разумистам не привыкать втягивать голову в панцирь и не бликовать на свету. Я отношусь к этому желанию как никогда терпимо и даже понимающе. Постоянное желание спрятаться и скрыться, даже не показываясь на улицах (они все равно на виду), не делает гениев изгоями.
Критики всего и вся предостаточно, рецензентам, что брали в оборот мои статьи, не составит труда втоптать все мои изложенные мысли в прилипчивую грязь, идеи трижды переврут, выпотрошат и исказят. Когда признанные авторитеты выскажут свое деликатное мнение, прикрываясь мнениями, у массы других рецензентов уже не найдется своих промежуточных мнений — найдется одна вторичность, которую я всю жизнь терпеть не могу.
Разве что мне придется выпустить отдельный вкладыш-глоссарий, где легчайшим языком все будет подробно описано: какая мысль для меня как автора что значит. Именно такой прозрачной понятности своих мыслей я и стараюсь избегать. Читателям моих письменных работ и не нужно меня понимать. Меня не нужно понимать, меня следует чувствовать, а кто меня не чувствует, тот и понять никогда не сможет. Только дают мне свое ложное. Все ложное мне вовсе ни к чему, особенно сегодня.
Лунный свет притупляет излишнее беспокойство, и всякий стресс сменился на вялую радость. Недовольство куда-то пропало, тяжесть тела притупляется, чувство бессрочной безмятежности становится ощутимо. Боль снялась, меня это устраивает. Мысли проносятся все медленнее. С той лишь разницей, что он не более нормален, чем я, а я ничуть не менее нормален, чем он или любой, на кого бы я показал пальцем.
Разумеется, «доказатели» запротестуют. Ничего по существу не смогут мне доказать. Вспомнив про указывания пальцами, я вспоминаю виды детских площадок, на которых шерудят дети. Дошкольники только и делают, что гогочут над другими детьми да высовывают языки. До сегодняшнего дня я многие годы ни на кого не указывал пальцем. Достоверно не помню даже, показывал ли я кому-то язык или плевался. Меня такие нелепости не веселят, да и оплевать лицо — значит гарантированно получить в ответ несопоставимо болезненный ответ.
Время не становится на паузу, все поджимает, проходит мимо людей. Время задело даже меня, оторвалось на мне и поколотило. Бьюсь об заклад, с увеличительным стеклом на мне можно заметить морщины, и вовсе не от смеха, а ведь я еще так молод. Молод, но уже видел временность, скоротечность и конечность. К счастью, потусторонность жизни я не наблюдал на собственном примере. Следует сохранить полноту памяти того немногого, с чем еще не готов расстаться, на другое у меня просто не хватит сил. Словно трубочисту, прочистить засорившийся дымоход щеткой. Если мой мозг и есть камин, то забившийся гарью и смолами.
Временами я был близок к пропасти, но все же успевал от нее отскочить к свету, не опускал руки. Яма тянулась ко мне, но Яме не хватило сил меня утащить, и сейчас не выйдет. Я сейчас замурован, пусть эта замурованность продлится днями, и допускаю, что мое «непребывание» может продлиться не один год. Немудрено, если чужие руки меня растрясут, мозг перещелкнет, и я просветлею, как каждый раз вижу свет поутру. Но завлечь людей… сюда? Никак… остается только лежать и терпеть…
Помутившийся мозг начинает бурлить с большей силой, что дает мне подняться и ходить от стены к стене. Поначалу я смотрел на них, но их облезлый вид только вгонял меня в тоску, приходилось продолжать переминаться по дому, еле открыв глаза. Внутри и не было никаких предметов, о которые можно было споткнуться, и я мог по желанию вовсе ходить, закрыв веки, в полной темноте.
Уже смеркается, час-другой — и наступит вечер, тогда уже мне придется встретиться с темнотой лицом к лицу независимо от неполноты целомудренного желания и провести в этом мороке до рассвета… Отныне я крошечное животное, зубастое, ослепленное и свернувшееся калачиком… животное, которому посмертие ложно кажется слаще любой жизни и всех жизненных удовольствий.
Многие хотят повременить со Смертью, но другие только рады Ей и, не в силах Ее дожидаться, изобретательно убыстряют наступление своего последнего дня жизни. Я же нахожусь где-то между… именно сейчас я все и ничего, и ни к чему себя не причисляю. Не имею на это сил, но если за мной придут, откачают, пробудят и потребуют ответа: «Кто я такой?», мне нечего будет сказать. Ничего, только стыдливо промолчать.
Я, как бестелесный призрак, следил за изменениями, следил за мерой допустимых новшеств и почти врачебным взглядом отмерял дозу перестановок. Изменения шатко принимались, потом оценивались, и введенный по ошибке закон возвращали на доработку. Сколько бы важных печатей ни стояло на указах, имена подписантов меня нисколько не беспокоили. По незнанию я был к этому равнодушен, да так, что и сейчас не в силах разрыдаться; хотя, казалось, в детстве я только и делал, что плакал. Мне жгло глаза, но плакать от этого меньше не хотелось…
Ведь не все рожденные дети желанны и рождаются в своей родне; вернее, только малая часть малюток рождается детьми желанными. Скорее, множество миллионов рождены по необдуманной родительской прихоти. Пускай их жизнь не должна была начаться. Пусть нежеланные дети хором споют свою «Оду к счастью» и прозвучат как песня, что не должна была начинаться и чей финал никто не допоет. Ничьи дети не будут в опасности. Люди — движущиеся и движимые создания, обреченные своим даром свободомыслия ежеминутно бороться за идеи и пытаться воплощать их в жизнь.
При прочих равных сотни тысяч определяют переулки Бруклина как наиболее желаемое место осесть, если не на всю жизнь, то надолго. К моему стыду, я никогда не замечал многого в Бруклине, пока не стал присматриваться к каждой мелочи, к разным разностям и каждой трещине на асфальте. Я болен близорукостью к великому.
Слишком много мест, городских пейзажей, которые стоит попробовать на зуб и ощупать руками. Словно старик-старьевщик, я не выбирался за пределы родного ранчо. Скоро в Новом-Амстердаме будет почитаться каждая выбоина, каждая ложбинка на дороге, заляпанные красками стены (стены, которые вандалы считают за искусство). Грязное наследие города, Мира крупных городов. Но какие города, таково и искусство.
Я вспоминаю: первое съеденное мороженое, поездку на старой канатной дороге — именно той, что приносила Новому-Амстердаму одни убытки. Канатную дорогу строили больше десяти лет и уже успели сдать в утиль. Построили на ее месте две электростанции по обе стороны реки. Но мне успелось прокатиться в кабинке, как и миллионам других людей.
Если припомнить все моменты, что подарили мне Новый-Амстердам и Бруклин, мне не хватит и года. Никогда не поверил бы, что у двадцатидвухлетнего может быть такой багаж воспоминаний о городе. До сегодняшнего дня я редко когда вспоминал Новый-Амстердам с теплотой. Теперь мне хочется никогда не покидать его, слиться с ним.
Похоже, это более чем выполнимая цель, но я не собираюсь умирать; сейчас у меня на языке неприятный вкус бессмертия, в моем случае бессмертие горчит, как лайм. Лайм, что выкован из металла. Это наиболее точное сравнение, самое близкое, с чем я могу сравнить этот никакущий вкус. У каждого вкус бессмертия свой, по крайней мере, мне хотелось так думать.
Следует приспосабливаться к окружению, успешному окружению, что всучивает людям шанс спасти себя или понести безвредное наказание за свою бездеятельность. Мысли о самоспасении кажутся глупыми, но только самооборона объясняет, как люди выживают в Мире, не прощающем ошибок. Стоит набрать номер, и тебя спасут. Даже нет нужды выбираться в магазин ради еды: курьеры приносят все, что нужно, были бы деньги. Пресечь всякие наивные надежды и получить хотя бы утешительный приз. В одночасье приходится понимать и полностью готовиться к провалу, которого боятся и избегают все, слишком проигравшие когда-то.
Мне не страшен любой из видов страха и проявлений. Провал подстерегает меня повсюду еще с роддома, словно мир так и выжидает, когда свалить промахи с мешка мне на голову. Мы с моим страхом — настолько давние и неразлучные друзья, что страх страха потерял всякий для меня интерес. В критические моменты страх словно по договоренности изгоняет напрочь боязнь и суеверие предков. Страхи помогают найти себя, отвлечься от вечной покинутости, пустоты и неуемного страха… Страха, что дарит мне самого себя.
При должной пропорции страха любые попытки командиров нацепить на меня свою волю просто перестают работать. Сама мысль смиренно подчиняться чему угодно уже смешит, как щекотка. Правы те охотники, что отпугивают волков огнем, которого те до смерти боятся, но если волку будет угодно напасть, никакой огонь уже не поможет. Да, меня ждут последствия, но свой главный хулитель и есть я. В хулительстве я абсолютный чемпион. Любые упреки начальства и на грош не приблизятся к моим упрекам.
Чувствую, как во мне иссякло любое сочувствие, сострадание к любым более слабым конкурентам. Впрочем, сострадания во мне было не больше и не меньше, чем у любого результативного бизнесмена. Мне явно не стоит соревноваться в сострадании к архиврагам. Перестать ненавидеть всех и каждого. Здравый голос рациональности подсказывает не только не подавать руки упавшим, но и спокойно добивать их, если на то есть возможность.
Выйти на околоземное из присвоенного человечеством мира, в котором случается… Все самые плохие величины внеземного пространства, где никто и не имеет понятия, кто или что такое «люди». Но наш общий земной мир все еще дышит и растет, он кое-как скреплен липкой лентой и английскими булавками. Сколько люди ни тянут Мир в разные стороны, Голубая планета еще не разошлась по швам. Заштопать все как было до хомо сапиенсов становится настоящей мечтой.
Сколько бы мои мысли не углублялись в годы прожитой жизни, призраки прошлого не возьмут надо мной верх, они ничего не могут, их даже не существует. Никто, кроме меня, не может почувствовать то, что я скрываю, — мои мысли, что принадлежат только мне. Это поистине единственные вещи, к которым я имею отношение независимо от желания, и другим этого у меня не отнять.
Единогласно принятые идеи, которые вторят новичкам, кажутся абсурдными; в ответ новички рождают новые идеи, которые безумны вдвойне. Но только этот балаган помогает в дальнейшем принимать более сдержанные предложения как осуществимые. Попытка сделать из разобщенных островков жизни, где каждый каждому наниматель или нанимаемый, сработала в лучшем виде.
Те, кто правят, будто им нет замены, на совещаниях директоров помахивают указкой перед публикой. Директируют, словно приговаривая, насколько идеален и красив их город и красивым он будет во веки веков. Если уважаемые господа как следует поймут, куда дует ветер, и расщедрятся на новый порт в придачу к недавно открытому…
На глазах моих ровесников переменчивая абсолютная красота мира становится все более обезображенной и непостоянной, уже ничего не выйдет как раньше… Искусство опошлилось своей доступностью, слишком много молодых неумелых рук принялись делать свои полотна. Простое невежество столичных жителей делает прекрасные галереи полупустыми, пока не появляются вездесущие приезжие, что приезжают в Бруклин заполнить собой те особые места. Банальности, посещать которые местные жители считают дурным тоном…
На моих глазах и ресницах все твердотельное во вселенной ходит ходуном, изменяется с ударной силой. Даже звезды во вселенной то рождаются… то, набухаясь изнутри, взрываются, унося за собой целые перечни планет. Но нет, старьевщики продолжают преклонять колени и поклоняться пеплу давно потухшего костра. Укорщики уже забыли, что значит не знать очевидных истин, непреложных фактов, которые кажутся само собой разумеющимися.
Аматорам с их низенькими мыслишками же все кажется в новинку. «Спасатели» стремятся реализовать новые идеи, чтобы сделать мир лучше, а на выходе получается одна низкопробность. Абсолютно малая часть показанного в смотрительных залах станет достоянием на все времена; большая же часть распродается по малой цене, но чего только не сделаешь… Продавцам бесконечного потока полотен — лишь бы не переполнять мертвым грузом место на складе.
Меня (как и многих других прохожих) пытались грабить, но каждый раз у меня нечего было украсть, и, быть может, все люди, кто пытался, давно получили по заслугам. Я человек привыкший и уже свыкся быть начеку, всегда готовиться к чему-то худшему, чему-то нечто большему, чем простая потеря кошелька.
Поистине, если бы мне правда было нечего терять, страха воров и погодных явлений для меня не существовало бы; вернее, они существовали бы только для других. Сейчас все страхи расступились, а их место заняли одни видения невиданной красоты, по нарастающей обогащающие мой разум, и никакого абсурда. Слишком многое может дать преломление лунного цвета. Не могу сказать, что взял из него хоть что-то. Все такое темное и непроглядное, что единственное место…
Единственное место, где я сейчас могу находиться, — мой собственный ум. Увиденные вещи бывают (и должны быть) не потроганы руками. Человечество видит солнце, видит каждый, только его никто и пальцем не коснулся.
Я смотрю на него, на «мир далекого»… стал настолько механическим, что и почва сделалась шестеренчатой, а по ней разгуливают механические болванки, простые механизмы. «Высшая жизнь», что выполняет свою работу настолько механически, насколько это только возможно. Стоит только не забывать смазывать, не изнашивать до поломки и подзаправлять своего стального работника. Всеми своими повадками и заторможенными движениями он словно хотел поставить под сомнение свое пребывание в теле из плоти и крови, а не проводов и прорезей для новых перфокарт.
Я не подвергаю сомнению, что, схватив его за руку, роботическая будет такой же теплой, как моя. Механизмы станут людьми, и больше ни один автоматон не отдаст мою кожу калечащим холодом, словно стетоскоп врача. Механические заменители людей получат мясистые кожаные конечности в точности как у меня, или даже лучше… К сожалению, я кожаный мешок, испещренный нервами, капиллярами, громоздкими органами, которые едва помещаются во мне и накрываются сверху кожным покровом. Ни один механизм не отнимет у меня мою человечность…
Такие послечеловеческие мысли сейчас занимают слишком многое в моем разуме. Эта переполненность меня не пугает, а только дает понять, что я не консервная банка и не консервный нож — рожден матерью. Пока бьется сердце, я еще чего-то да стою. Мне не мыслится, что на планете обитают подобные людям существа (гомункулы) или созданные людьми механизмы, которые по-настоящему могли бы совершить масштабную обновку в жизни каждого человека. Сейчас не существует многого, и почти все бытовые вещи прибыли совсем из другого мира, джентльменской эпохи с ее модой на продолговатые цилиндры, пенсне и трости из слоновой кости. Неужели все внечеловеческое — фантасмагория? Просто воображаемость и широчайшего масштаба иллюзия?
Словно бы я взлетаю все выше. Могу наблюдать за настолько полнокровным разгулом даже на такой дистанции; за милю прекрасно видно людей, которые точно заметят мое появление и тут же донесут об этом. С моей высотой в росте меня видно почти отовсюду, и я становлюсь прекрасной мишенью на открытом пространстве. Мне остается только смотреть по сторонам, сидя в жилой застройке, как в старые добрые дни, с той лишь разницей, что на этот раз не высовываюсь в целях безопасности.
Мне некого об этом спросить, и остается только вопрошать себя, но еще долго все механическое так и останется ведром с болтами и вычислительными машинами, что способны только служить бухгалтерам, выдавать расчеты и упрощать гуманитариям борьбу с арифметикой. Разве что мне следует только радоваться первобытности в людях и всем, что меня окружает, и радоваться, что меня еще не скоро заменят механизмы, если и заменят когда-либо, чего бы я совсем не был прочь дождаться… за мной вот-вот подоспеет помощь… я знаю, я-то знаю.
ГЛАВА 37. РОБИН
На Феликсе не осталось живого места, ноги покрыты коркой. Руки и шея Феликса покрыты сыпью. Мне не хотелось разглядывать его тело, а тем более прикасаться. Я смутно понимал, что не заражусь, но испытывать на себе болезни — вещь неблагодарная; к тому же я не один. Умелые руки Егеря годятся для осмотра куда лучше моих рук. Пожалуй, мы прибыли вовремя, и у Феликса еще есть шанс встать на ноги. В какой-то момент казалось, что он не дышит; но, повернув голову набок, Феликс рефлекторно откашлялся и задышал полной грудью.
Егерь, по большому счету, выполнил всю грязную работу; моей помощи он не просил и делал все ловко и быстро. Похоже, опыт охоты и снятия шкур с животных пошел его моторике рук на пользу, только вместо шкуры — несколько слоев одежды. Егерь расстегнул пуговицы и, сложив две ладони в одну, резкими движениями сжимал ребра Феликса. От этих спасательных движений из глотки Феликса раздалось шипение, словно высвободился поток скопившегося в теле воздуха. Феликс задергался и зашевелил руками, пытался оттолкнуть Егеря от себя.
Егерь добился своего и сделал все, что мог; встал с коленей. Осталось только вызвать врачей и оставаться на месте, пока они не появятся. Нельзя оставлять его в таком положении — лежать на полу и дальше. Егерь приподнял его за плечи и подтащил к стене дома, где усадил на пол, поскольку в пустом доме не было другого места.
Теперь Феликс в безопасности, только если не считать болезни других страждущих ухода пациентов, которые он может подцепить. Пожалуй, люди из Компании решат все вопросы с оформлением и заплатят за такого важного пациента. Теперь Феликс сможет покинуть госпиталь только по свидетельству врача, а пока он пробудет там столько, сколько врачи клиники посчитают нужным.
В клинике, куда отвозят Феликса, редко кому удавалось выписаться не вылеченным или совершить побег из-под наблюдения, да и нет резона бежать. Эту больницу назвать маленькой язык не повернется; скорее, это целый комплекс зданий, напоминающий полукруг, способный уместить население мелкого города. При надобности заполняемость больницы может доходить до пятнадцати тысяч человек, включая персонал. Бывшие имения стали облагораживаться и передаваться из рук в руки, пока не попали под патронаж городских властей, превративших участок земли в рекреационную лечебную зону.
Медперсонал поможет Феликсу вправить мозги, насколько это возможно: несмотря на дороговизну и тяжесть, каждый может пройти это. Худшее, что может произойти с пациентами, осталось далеко в прошлом. Сейчас меня ожидает только гармония и порядок.
Сперва Брюс слег в клинике под капельницы и надсмотр медбратьев, теперь еще и Феликс слег на лечение; даже в этом он весь пошел в Брюса, хотя и общался с ним меньше всего. Но не удивлюсь, что и общался он с ним неохотно, слишком уж похожи по духу они были. Не знаю, передается ли привычка осторожничать, кроме как от биологических родителей. Видимо, и опекуны дарят приемышам свои же врожденные недуги. Нерешительность вовсе мне не противна. Я пронесу по жизни убежденность, что, хотя в этом мире есть место робости, в людях робость совершенно неуместна.
Этот день замарался приездом реаниматоров; повезло еще отмолчаться и не стать подозреваемыми в причинах его состояния. Егерь позвонил нужным людям, и никого, кроме пострадавшего, там не обнаружили. Даже не знаю, что бы я ответил, если бы пришлось давать показания, отвечать на обстоятельные вопросы: как Феликс туда забрел, как мы его нашли и зачем вообще ходили рядом с тем домом? Мне самому невдомек, как он оказался в том доме и что он там делал. Пожалуй, людям не нужны особые причины, чтобы упасть. Может, его хватил внезапный сердечный или солнечный удар, или что похуже, я не врач, не мне судить о здоровье других людей.
ГЛАВА 38. РОБИН
Телефон звонит с час не переставая; неохотно просыпаюсь, ума не приложу, кому настолько понадобился разговор со мной, но звук все не прекращается, поэтому такой дозвон меня злит, потому я даже пальцем не пошевелил, не возьмусь взять трубку, чтобы наконец прекратить звон в ушах. Но полчаса спустя этот проклятый телефон все не дает мне покоя, и притворяться, что меня нет дома, становится уже просто невыносимо. Кое-как поднимаюсь с постели, тут же обуваю ботинки, которые брошено лежат на полу прямо возле кровати.
Отряхиваю брюки, готовясь спуститься в холл. Сегодня телефон стал моим будильником; я бы все равно сегодня проснулся, и не так важно, когда это случится. Никакого голода нет, как и всегда в первые часы, когда я просыпаюсь и выхожу за дверь. Наступит день, когда начнут продавать телефоны, в которых будет видно номер звонящего, и мне уже не придется гадать, кто пытается до меня дозвониться, друг или недруг.
Висящие на стене в коридоре часы подсказывают, что я спал по меньшей мере десять часов; это помогает гнать мысли, что я слишком мало спал. После сна остается только легкая вялость после вчерашних часов ходьбы куда только можно.
Кому посреди ночи понадобилась моя компания? Среди знакомых только у меня есть желание проводить ночные часы на пике бодрствования. В дверь кто-то настойчиво стучится, и я ума не приложу, кому посреди ночи понадобилась моя компания. Подойдя к двери, я спросил, кто в нее так стучится.
Знакомый голос Марии, сказала только имя. За дверью послышался знакомый голос Марии, она сказала только свое имя, я прокрутил фиксатор в дверной ручке, и она тут же открылась. Воительница Мария зашла и прошла внутрь моей комнаты с потерянным видом и толком не обращала на меня внимания, пока не оказалась почти посередине жилья. Теперь она только стояла и смотрела в мою сторону, на мой усталый вид и заспанные глаза, но я уже знал, что она может и станет рассказывать.
Она все повторялась про тот злосчастный сожженный дом: знаю ли я что-нибудь про это? Я выдал все как есть, только несколько путано: что выезжал из дома за покупками рано утром и пробыл в магазинах до полудня, а когда хотел было отнести еду к дому, то возвращаться уже было некуда, и от дома остались только зола и догорающие обломки.
Тут я договорил и уже хотел задать встречные вопросы, но, на удивление, она сама стала про все рассказывать, словно заранее знала все, что я могу спросить. Оказывается, к дому подъезжала экспертиза сведущих в пожарах людей из страхового агентства, которые определили, что это был несчастный случай. Ее отец уже про все знает, но среагировал только тихим мычанием в трубку. Добавил, как рад, что его дочурка осталась цела и невредима, а сгоревшего, запаутиненного дома ему не жалко. Но Марии следует теперь самой разбираться с новым жильем, переезжать в дом получше.
Собственно, меня она ни в чем не обвиняла, и все мои опасения, что сожительницы взвалят ответственность за пожар на меня, не оправдались. Даяна не стала приходить ко мне за компанию, по секрету сболтнула, что также не особо горюет по утрате дома. Похоже, всем безразличен пожар, кроме меня самого, да и мне, по правде говоря, нет никакого дела до погорелого дома Марии.
Мне было нечего добавить. Проговорил вслух очевидное: что никто из нашей троицы не пострадал. Сострил неуместную шутку, что огонь «нашего дома» перешел и на соседние дома, поэтому не только жилью Марии досталось. На что Мария согласилась и даже издала неловкий смешок. Пожалуй, Марии, как и мне, приятно сознавать, что не одна она осталась со сгоревшим домом.
Нам обоим уже нечего было добавить, я так и не решился спросить, какую сумму она получит. Только простоял, не двигаясь, с минуту и много моргал. Мария все поняла и не стала задерживаться; выходя в коридор, вполголоса сказала, что не хотела беспокоить и могла позвонить с утра, но про дела такого рода лучше обговаривать с глазу на глаз. Я выразил согласие понимающим кивком, закрыл за ней дверь и завалился обратно в постель.
ГЛАВА 39. РОБИН
Пугающие слухи ходят по городу, как городские легенды, но что, если они — правда? Похоже, этот подручный блондин Ирвина действительно пришел с повинной, и теперь каждая газета в городе объявит именно его вором документов. Совсем скоро на всех первых полосах появится фотография, где его ведут с заплаканной рожей и в наручниках в зал заседания суда.
Мне стоит лучше смотреть по сторонам, особенно в темных закоулках: не исключено, что самые опасные люди бредут прямо за мной, сокращая дистанцию. Но сегодня лень победила разумный страх, и я иду прямым путем, не обходя темные места.
Этот добряк, который взял на себя мою вину… чужую вину… Кто бы мог подумать, что в таком смазливом парне увидят главного виновника? Помню, как этот тюфяк только и делал, что жирел. Мог отстоять шесть раздач еды за день, хотя уже еле помещался в дверные проемы, — нищета как она есть. С того дня, как я впервые заговорил с ним на перемене в старшей школе, детская пухлость с его лица не спала; внутри он сохранил детский неисправимый оптимизм, что никак не отмирает. Кто не принимает ничего близко к сердцу и не копит обид в памяти, а все удары учебной системы принимает по касательной, те могут по-настоящему быть жизнерадостными.
Мне же не удалось уберечь себя от неисчислимых школьных побоев и упреков тогдашним детским умишком, которые я заработал в разных школах; моя детская наивность сходила настолько постепенно, что я будто ничего не терял и не замечал этой утраты. Хотя в средней школе был абсолютно уверен, что именно мне удастся даже в сорок лет ходить без бесконечных травм, которые заработал в реальности, а защита в виде холодности и флегматизма никак меня не уберегла.
Остальные признаки большого ребенка также налицо. Для меня его попытки держать нос по ветру, пока все остальные плачутся ему в жилетку, вполне объяснимы; есть ведь и среди мужчин люди, которые нянчат детей не хуже их мам, но никаких детей у него нет (кроме тех внебрачных, о которых он и сам может не догадываться). Вот Дядя обложил себя со всех сторон однолетками-отщепенцами, у которых проблем больше, чем полевых цветов на лугу, и утешает их, как может: словно чуткая, заботливая нянечка.
Еще та горилла, и может отправить меня в нокаут с одного удара, стоит ему только захотеть. В глазах тех, с кем он возится, он станет немалым авторитетом по жизни, и стоит только надеяться, что через пару лет он не сколотит свою банду из людей, с которыми он возился… Одним словом, Ирвин умеет набирать себе помощников.
Никаких внешних признаков виновности у подсудимого не было, скорее, таким смазливцам самое то в кондитерской работать, а не документы воровать. Скулеж не помог разжалобить судей, главный виновник все же был «найден»; кто бы опознал в этом приятного вида пареньке главного виновника? Взял ответственность на трезвую голову: либо это шутка, либо он не понимал, что делает. Глупейшее решение в жизни, но за покладистость срок сократят. Назначили ему комфортабельный особняк с участком — для заключенного условия королевские, туда ему и дорога.
Добряк на трезвую голову взял всю ответственность на себя; осталась надежда, что это шутка или он и правда не отдавал отчета в своих действиях. Если это правда, то это, пожалуй, глупейшее решение в его жизни. Впрочем, какие бы причины ни были у явки с повинной, его жертва вскоре забудется; за сделку со следствием и покладистое поведение его срок могут на порядок сократить. Если он рассчитывал своим признанием получить место под солнцем, то его план удался. Ко времени, как его срок подойдет к концу, он еще поблагодарит своих надсмотрщиков.
Дикторы на радио ближе к полднику только и трубили вести, что в конечном счете он как подсудимый вступил в сделку со следствием, полностью признав себя виновным по всем жиденьким пунктам обвинения; взамен ему гарантирован домашний арест с правом на досрочное освобождение.
На деле он мог не опасаться за личную свободу: его жилище находилось в такой глуши, что ему негласно предоставлялась свобода передвижения, которой он так и не воспользовался. Также к нему не применялся ряд других ограничений; не высовываться и не подавать вида на публике считалось достаточным наказанием. Несмотря на то что ему в домашней арестантской обстановке было суждено прожить немало месяцев, прежде чем его отпустят, по договоренности он, славный парень, найдет себе применение по выходу на волю.
В Новом-Амстердаме я выполнил почти все планы, и запланированное досрочно, отчего список желаний истончал до неприличия. Не знаю, что делать дальше после отъезда, но точно знаю: мое место не здесь. Поступал так неоднократно, облегчения это не приносило, но это был мой выбор. Пока внутренний голос на моей стороне, нет причин признавать ошибки.
Некому помочь, а те, кто способен, не поймут того, что мне дорого. Все дорогое — в моей голове. Я обошел чуждые моральные истины, принимая только свои выдумки о мире. Нет способа доказать неправильность поступков, если сам себя не убеждаешь в этом. Отгоняю покаянные мысли — так я невиновен до конца дней. Список тех, кого поставил в неудобное положение, можно выстрадывать, читать часами, но я не буду.
Время разбило поджарого атлета, каким когда-то был Дядя. Теперь он проживает стариком, чей вид кричал о ветхости: пигментные пятна на коже, впалые щеки, сплошь потрескавшиеся губы и прыщи на подбородке не добавляли здорового вида. Рукопожатие вышло вялым. Похоже, если бы я в шутку сжал его руку, это принесло бы ему немало боли. Подол обношенной рубашки не заправлен и на его костлявом теле колышется, словно короткое платье. А ведь в последний раз, как мы встречались, он был даже толстоват. Такого резкого старения никому не пожелать.
Жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на такое печальное зрелище; прогулка с людьми такого вида — уже действенный способ не всасывать в себя эту дрянь. По дороге он выплевывал желтоватую слизь. Закрыв глаза, сжимал ладонь в кулак и кашлял, потом этой же рукой открывал дверные ручки.
Неловкая похмельная походка бывает даже среди самых трезвых людей, в этом нет ничего достойного порицания. Его помятый вид только придает шарма и скрашивает остальные несовершенства внешности. Дядин бархатный, потрепанный черный пиджак приковывает все внимание, отвлекая от переходного вида своего владельца. С нашей последней встречи волос на его голове поубавилось, но отрастить их до плеч было удачной идеей.
Я только следовал за ним, ничего не касаясь руками, но и без того чувствовал, как бациллы окружили меня, как только оказался внутри дома. Пепельниц нигде не было видно. В доме вовсе не пахло табаком, при этом все нутро Дяди выдавало в нем завязавшего на старости лет кутилу. Могу поверить, что он бросил курить сигары, но при желании никотин можно получить любыми способами, даже не через рот.
В доме мы были совершенно одни, даже без вечно снующих помощников, которых он набирал толпами. Хотел уже задаться вопросом, где они, но он меня опередил, сказав, что отправил всю свою прислугу по домам. Дядя говорит, что у него нет сил терпеть своих помощников: как они ничем не могут ему помочь, кроме как отвлекать. Теперь горничные наведываются к нему раз в день на час и оставляют одного, а под рукой всегда есть кнопка, на которую стоит нажать, и охрана прибежит проверять состояние своего босса.
Дальше я выложил Дяде все как есть: что приехал еще в апреле, а теперь покидаю постылый город и заглянул к нему на прощание; через несколько часов назначен отъезд, и не могу сказать наверняка, когда еще загляну. На удивление, он принял эту новость с пониманием и даже шутил, что это наша последняя встреча. Но шутил не из грусти, не из жалости к своему перезрелому, больному телу.
Милой беседы не получилось, ограничилось кратким перечислением того, что я делал все эти месяцы, почему не заглянул к нему раньше, и прочими вопросами, на которые я отвечал довольно холодно и без интереса. То ли меня смутил его вид, то ли мне действительно нечего было ему сказать. Но он сам это с собой сделал; хотя кто доживает до почти столетнего рубежа, не избежит участи выглядеть похожим образом. Поэтому его вид не вызывает у меня ни капли сострадания — только отвращение, что такой человек может до сих пор своей ссохшейся рукой переставлять пешки на шахматной доске.
Мало того, молодые люди (моложе меня) считают, что Дядя всего в жизни набрался и добился. В самом что ни на есть правдивом описании он уже не жилец, чахнет и чуть ли не кашляет в носовой платок кусками легких. Я прикинул: если проведу здесь час-другой, он и меня инфицирует целым букетом заболеваний и утащит за собой, оттого я все рвусь быстрее покинуть Дядю.
Прощаясь со мной, его словно потряхивало, словно он действительно сумел вобрать в себя все хронические болезни этого мира. Его девяностолетняя жизнь сложилась настолько бурно, что нет никаких ясных объяснений, как ему удалось дожить до таких седых времен.
Мне не привыкать иметь дело и прощаться с подобными людьми, как мой Дядя, да и он не так отвратителен и вовсе не мерзок. Не так страшен, чтобы бояться и переходить на другую сторону дороги, лишь бы не пересекаться. Против меня ничего не делал, не выказывал, наоборот. Возникает масса вопросов, которые мне хотя и следует задать, но они совсем необязательны.
Весь тогдашний разговор казался крайне важным; о чем говорилось, я в тот момент вообще не имел представления и забыл пару минут спустя, как мы разошлись. Бывает, в голове застревают мысли, настолько никчемные для одного, но все эти десять лет он томил эту мысль в подкорке. Годы юношества я провел по уши в бытовой трясине, и мозг был забит идеей вырваться из болота любой ценой и без промедлений. Даже сейчас я из него не выбрался до конца, а только судорожно трепыхаю ногами в стороны.
С момента прибытия, когда мои ноги вступили на знакомую ново-амстердамскую почву, силки болота обвились вокруг них с новой силой.
По-хорошему я уже должен быть занят последними приготовлениями к отъезду, готовить вещи (которые давно как сложены и пылятся в чемодане), заготавливать билеты, но сейчас самая пора свернуться в незаправленной кровати и хорошо обдумать дальнейшее. Стоит ли мне показываться со всей уже готовой написанной работой, а если стоит, то в какой город податься потом? Это явно не мысль, что приходит в последние дни перед отбытием, но я верю, что именно в последние моменты и приходит понимание, куда следует держать путь дальше.
Если Манчини и впрямь говорит дело и скоро отъедет топтать целик Амазонии вместе со своей неразлучной девушкой, мне стоит им позавидовать и держать цепкую связь на расстоянии. Пока мне неясно, как я могу связаться с ним, если он еще сам не знает, что должно произойти, куда именно отплывет, и уж точно Манчини не будет знать адреса, куда мне посылать письма, и не будет знать, на какой номер мне звонить.
Наступило время отбытия. Не считая себя, на перроне стояли с сотню-другую человек — смешное число пассажиров для многомиллионного города; многие так и не пришли, хотя погрузка завершилась уже больше часа назад. Я ничуть не возражаю: никто не обязан стоять рядом с вагонами и наблюдать, как они отправляются на запад к пунктам назначения. И хотя я не сижу внутри, мог бы назвать себя одним из пассажиров.
Могу присоединиться к оставшимся в любой момент, меня ничто не удерживает, кроме собственного нежелания. Циферблат показывает восемь утра без двух минут. Я отхожу назад на шаг и готовлюсь продолжить свои дела, что и сделаю в ближайшую минуту. Манчини тоже не сел в вагон и стоит чуть поодаль, как обычно. По привычке он смотрит в карманные часы, а не на башенные. Вряд ли наши времена сильно отличаются. Что касается звонков, то мне действительно нужно сообщить пару ласковых слов, чтобы персонал Компании озаботился покупкой билетов за меня. Пусть это будет последним одолжением, что мне сделает Новый-Амстердам до отъезда. Наступает время моего отъезда, и мне больше нечего бояться.
ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Данная книга написана для и про людей в которых есть желание отдышаться, облегчиться и наконец вдохнуть тот самый малополезный свежий воздух во время прогулок
Если вам неприятно или даже больно видеть в персонажах отражение себя я, как автор и человек, могу порекомендовать на время отложить книгу в сторону и продолжить чтение уже на трезвую голову. Но только в ваших интересах высмотреть в книге нечто большее, прочитать ее так, как вы считаете нужным или как принято в двадцать первом веке: прослушать каждое слово, сказанное диктором. От прочтения породить в мыслях те чувства, от которых что-то да зависит и направит вас к лучшему пути и лучшей жизни
Мне не узнать каким образом и по какой причине вы, как читатель, открыли данную книгу, но, раз уж вы пришли к этому, могу только порадоваться за ваш верный выбор и по возможности не отказаться пожать вам руку.
Для всех же, кто открыл для себя данную книгу по чистой случайности, чтобы скоротать время и развлечься приятной историей, я в силах только соврать и приободрить.
В этом предисловии не будет сказано о жизни и личности автора. Все что вам следует знать обо мне, так это то, что я на вашей стороне, и все время, что вы читаете данную книгу, пусть вас самих не покидает ощущение, что сегодня вы выбрали именно ту книгу, которую стоит прочесть до конца, и вы выбрали ее читать по своему желанию. Прошу вас, позаботьтесь о себе, насколько у вас хватает сил, и пусть эти силы никогда вас не покидают, берегите себя.
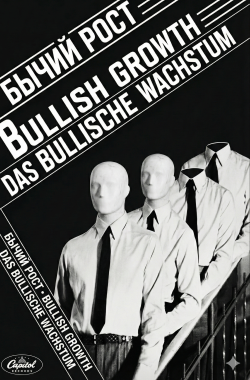





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

