Ничего нет
К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено.
Фобия. Глава 1.17. Бейрут
Полный текст первой книги романа «ФОБИЯ» доступен по ссылке
Роман "Фобия" (книга первая)
Глава 17.
Бейрут
Над ливанской мирной хатой
Гордо реет жид пархатый.
Иосиф Бродский
Бейрут и его история
Ближний Восток.
Буйство красок и ландшафтные изыски…
И, тем не менее, — предельно противоречивое место. Здесь кругом — сплошные противоречия. Но одно несомненно: Бейрут[1] — славный город со славной историей и один из самых красивых городов не только Ближнего Востока, но и, пожалуй, планеты. Его кварталы настолько органично вписаны в окружающий пейзаж, так удачно сочетаются с заливом и окружающими горами, что в целом город воспринимается как одно из чудес света. С высоты птичьего полёта, разноцветные крыши домов, спускающиеся со склонов Ливанских гор к напоённому густой лазурью заливу, напоминают огромную пёструю чашу, искусно изукрашенную причудливым орнаментом яркой восточной глазури.
Впрочем, неудивительно.
Арабы — известные мастера украшать, но куда больше… — приукрашивать. С их лёгкой руки, Бейрут имеет при своём имени, помимо других цветистых эпитетов, традиционных для большинства местных городов (вроде «Города Городов» и «Жемчужины Востока»), ещё, как минимум, четыре неофициальных названия: Город Колодцев, Ближневосточная Швейцария, Париж Востока и Город-Феникс.
Впечатляет?.. И правильно! И что с того, что по значимости своей истории столица Ливана[2], уступает своим не менее древним соседям — Иерусалиму и Дамаску. Пусть!
Ей и без того есть чем гордиться.
Возможно ли в один день спуститься в сказочный подземный мир или, почувствовав себя птицей, взлететь на покрытые снегом вершины; прогуляться по Парижу Ближнего Востока и перенестись на восемь тысяч лет назад, пройдясь улицами первого поселения в истории человечества?..
Возможно ли это? В Ливане — вполне!
Если верить финикийским мифам, то эта удивительная земля была рождена богами морей и гор. С ней, и в самом деле, мало кто может сравниться. Она плодородна и богата минералами, запасами пресной воды и нефтяными месторождениями. Нефть, впрочем, пока ещё новость, как для самих жителей Ливана, так и для их соседей. Совсем недавно считалось, что здесь её нет.
Ко всему прочему, страна, сочетающая в себе восточный колорит и европейскую свободу, — это истинный рай даже для самых привередливых туристов. Посудите сами — тут есть всё: горнолыжные курорты, отели на теплом средиземноморском побережье, мягкий климат, обилие прекрасно сохранившихся памятников истории и уникальных творений природы, гостеприимные местные жители, простой визовый режим, проверенная веками самобытная кухня и обилие экзотических фруктов… Нет, что бы ни говорили, а Бейрут — удивительный город, в котором есть на что посмотреть, куда сходить и чем заняться. Тут, разве что, климат для русского человека непривычный.
А чего вы хотите? — близость к экватору…
Растительность Ливана — не менее удивительна. Гранат — на улице, просто в виде дикой заросли у забора. Финиковые пальмы — по всему побережью, на равнине — банановые плантации, виноградники — в горах. В парках — диковинные деревья с по-инопланетному фиолетовыми листьями. И повсюду — хвойные деревья, совершенно непонятного происхождения: вместо высоких стройных елей, привычных для нашего глаза, — здесь это невысокие деревья с круглой кроной, либо с шишками, но чешуйчатыми листьями вместо иголок. Эндемики, не иначе. И, кажется, что нет такого растения, которое бы не цвело.
А хотите ассоциаций?..
Больше всего окрестности прячущейся среди гор столицы Ливана напоминают горные курорты Швейцарии. И здесь, и там — словно один мастер с одними и теми же лекалами потрудился. Те же затканные зеленью горные отроги, те же прячущиеся в распадках долины, та же, выверенная веками, неспешность и основательность бытия.
Неповторимое очарование образу ливанской столицы придали французы. Благодаря им, восточная пестрота и суетливость, яркость и колорит Бейрута органично переплелись с европейской обустроенностью этого города, так недостающей большинству восточных городов.
Изюминка Бейрута — его Центр.
ДаунТаун.
Здесь так много роскошных магазинов, сверкающих бутиков и элитных ресторанов, что, оказавшись в центре Бейрута впервые, поневоле усомнишься — не в Париж ли попал? Или, всё же, в Рим? На улицах, за столиками кафе, на укрытых элегантными навесами уютных верандах — повсюду отдыхают нарядные люди, не торопясь пьют экзотического вида напитки, лакомятся вкуснейшими блюдами ливанской кухни, общаются и неспешно потягивают кальян.
И хорошо им!
Правду говорят: то, что однажды легло на душу, даже если оно привнесено извне, остаётся в нашем сердце навсегда. Уже следующее поколение неофитов искренне полагает, что привычное для них — не менее привычно и их родителям, более того — существовало в привычном виде чуть ли не от начала времён. К таким явлениям, привнесённым французами в местную жизнь, но ставшим уже привычными, относится и излюбленное место прогулок местных жителей — городская набережная. Это ухоженное и приятное во всех отношениях место, с множеством уютных кафе, ресторанчиков и смотровых площадок. Оно и называется на французский манер — Корниш[3].
Именно с Корниша открывается прекрасный вид на Голубиные скалы. Эти два маленьких необитаемых скалистых островка, со всех сторон омываемых неистовым пенным прибоем, считаются визитной карточкой Бейрута. Особый шарм им придаёт вымытый волнами сквозной проход в одном из них. Любой из жителей Бейрута охотно расскажет вам несколько историй, связанных с Голубиными скалами. Все они будут заканчиваться тем, что разочаровавшиеся в жизни влюбленные прыгают с этих скал и разбиваются.
Каким образом эти сумасшедшие туда попали — у местных лучше не спрашивать.
Влюблённым законы не писаны. У них один закон — любовь.
И что пред нею какие-то неприступные с виду скалы?
Фото 1. Голубиные скалы.
После Первой мировой войны и распада Османской империи, Ливан на долгие четверть века стал подмандатной территорией Франции, лишь в 1946 году получив независимость, вместе с оккупированной теми же французами Сирией (итого, без малого, — 2000 лет жизни в качестве колонии, под пятой тех или иных завоевателей).
Много это или мало?.. Наверное, много. Плохо или хорошо?.. Время решит. Или излечит.
В результате последнего завоевания, многие из старшего поколения ливанцев до сих пор вполне сносно говорят по-французски и, при случае, могут подсказать дорогу на языке Гюго и Вольтера. Помимо постепенно забываемого языка, в наследие от французов Бейрут получил многочисленные банки и ипподром, а также ту свою часть, которая сейчас называется «старым городом».
Наследие пришлось в строку. К 1970-му году ливанская столица разрослась, набрала вес и окончательно утвердилась в качестве банковского центра всего Ближнего Востока. Долгое время именно банковская и финансовая деятельность приносили Ливану основной доход. Но завистники не дремлют. Всё в очередной раз рухнуло и пришло в запустение в результате очередной гражданской войны. В этот раз боевые действия продолжались долгих 17 лет — с 1975 по 1992 года. Но, поскольку эта война случилась позже описываемых здесь событий, останавливаться на ней мы не будем.
Как бы там ни было, но уже более полувека столица Ливана представляет собой непроходящий контраст из многочисленных кварталов, чуть ли не сплошь состоящих из разрушенных домов, к которым подступают ослепляющие своей роскошью современные гостиницы и банки. Нынешний Бейрут — это симбиоз небоскребов и ухоженных жилых комплексов, зданий в стиле колониальной французской архитектуры, зелёных парков и особняков классического средиземноморского стиля. Здесь трендовые бары и манящие яркими вывесками ночные клубы вполне мирно сосуществуют с традиционными арабскими кофейнями и кальянными.
Нехарактерную для жителей Востока любовь ливанцев к игре на скачках привили им всё те же французы. Теперь по воскресеньям чуть ли не весь Бейрут играет на ипподроме, отстроенном неугомонными галлами сразу же после Первой Мировой. Правда, во время последней гражданской войны и он пришел в запустение. В лихое время людям становится не до ипподромов и не до игр на тотализаторе.
* * *
Как мы и говорили, в Бейруте было жарко.
Много жарче, чем в оставшемся за двумя морями и пятью часами лёта Севастополе.
Припекало не по-детски. Если не знать, что на исходе первая декада октября, нипочём не скажешь, что раскинувшееся вокруг половодье садовой, парковой и прочей зелени — самая настоящая осень. Тем не менее, дела обстояли именно так. Осень. По местным меркам, конечно.
Другой осени в этих краях не бывает.
Здешняя — это волшебная пора сбора олив[4]…
Всякое в эту пору бывало. Случались времена, когда на это время прекращались войны…
Вполне вероятно, именно благодаря этому, уходящему в века обычаю, оливковая ветвь теперь воспринимается как символ мира. Именно её принёс голубь Ною в знак того, что гнев Бога на людей утих, а очередной (и — как всегда — чисто профилактический) Всемирный Потоп — прекратился. Ветвь оливы стала своеобразной вестью о мире между Богом и человеком.
От притчи, связанной с потопом и Ноем, как от общего корня, отталкиваются в своей официальной мифологии практически все монотеистические религии. Олива признаётся священным деревом у иудеев, у христиан и у мусульман. В исламе, где олива получила мистический статус Древа Жизни, она — одно из двух запретных деревьев рая и, к тому же, считается эмблемой Пророка. Да и сам Ной, которого мусульмане называют Нухом, почитается ими как один из первопророков ислама. В античной Европе священная олива была символом победы, мира и сопутствующей им радости; воплощением плодородия и изобилия; эталоном чистоты и целомудрия, а также эмблемой бессмертия. И по сей день, во многих странах оливковыми венками, наряду с лавровыми, украшают победителей и триумфаторов.
Одним словом — легендарное дерево, эта самая олива, и удивительное место — этот самый Ливан. Чего здесь только не растёт, и чего только не происходило. Вы удивитесь, но именно ливанские горы подарили человечеству одну из самых известных и знакомых всем нам легенд, прокравшуюся в сказки многих народов мира, и адаптированную там под местные реалии до такой степени, что теперь воспринимается как своя в доску.
Как такое получилось? Какими путями ливанское стало нашим? Приблудилось, наверное. Как и многое другое. Как вариант — с торговыми караванами Великого Шёлкового Пути.
Итак, легенда.
Неподалеку от города (теперь знаем какого), в холодном горном озере с хрустально-чистой водой, жил себе поживал страшный дракон. И вот, как-то раз, решил он, по какой-то, не упомянутой в легенде причине, разнообразить приевшееся ему персональное меню, в виде жалобно блеющих жертвенных ягнят, молчаливых фиников и прочих скупых на слова сухофруктов. Решил, значит, и пригласил на ужин дочь местного царя. Причём, не разделить его холостяцкую трапезу предложил, поддерживая согласно этикету светскую беседу, сиречь погурманствовать в его приятной компании, а в качестве главного блюда пригласил. Не удивляйтесь. У людоедов — своеобразные причуды. Впрочем, все мы в той или иной степени грешны, и, когда чудес не случается естественным, то бишь явочным порядком, чудим понемногу сами. Ну, а с кем не бывает?.. У каждого из нас могут быть странности, а если у тебя их нет, то ты — странный.
Ну ладно. Не пригласил дракон эту самую принцессу явиться лично, а потребовал от местных жителей обеспечить её доставку к оговоренному сроку, предъявив в оригинальной упаковке и в положенной по статусу паспортной комплектации. То бишь — живым весом и в откормленном состоянии. Причём, сделал всё это безаппеляционно и бескомпромиссно.
Как положено.
Возмущены?.. Зря. Ей богу — зря! Если вы не безликий, скачущий промеж горящих покрышек майдаун-свидомит, которому в базарный день красная цена — пятачок за пучёк, а вполне состоявшаяся огнедышащая рептилия — можно и не такое отчебучить.
Прокатит, будьте уверены.
И частенько прокатывало.
Но, не в этот раз.
В шестерёнки веками отлаженного ближневосточного гастрономического механизма попал маленький, но на удивление твёрдый, словно дамасская сталь, камушек. Нашёлся-таки храбрый юноша, вызвавший потерявшего берега дракона на бой, победивший его и, тем самым, спасший царевну от неминуемой гибели в миазмах драконьего желудочного сока.
Чем, собственно, и прославился.
Звали юношу Георгием. Много позже он был канонизирован христианской церковью. Причём, не столько за описанный выше гламурный подвиг, сколько за последовавшее за этим подвигом праведное житие.
Отсюда, граждане, мораль: не связывайтесь, дорогие мои, с драконами да ящерами! Будьте прозорливее и осторожнее. Мало ли чем ваша встреча закончится? Ладно ещё, ежели эта прожорливая пакость просто схарчит вашу неосторожную тушку, а потом и как звать не вспомнит. Но если, не приведи Господь, сами победите оборзевшую ящерку? Ненароком. Восторженные обыватели тут же запишут вас за это в аскеты и праведники, отлучив от всевозможных грехов и связанных с ними удовольствий и радостей жизни. А вам оно надо?
Итак, в древнем Ливане или, если быть точными — в Финикии (именно так назывался тогда нынешний Ливан) образовался собственный герой. Вымышленным же он был персонажем или вполне реальным — теперь не важно.
Главное, что герой этот здешнего, местечкового розлива.
Для аборигенов он значим ещё и потому, что стал символом. Из тех, что на века. Типа персиянских Фархада и Ширин[5] (авторство поэмы о которых оспаривает чуть ли не дюжина усопших авторов) или наших Ивана Сусанина и поляков (авторы оперы о Сусанине известны с куда большей определённостью, хотя и не так многочисленны — но тем, кто знаком с реальными датами жизни вполне реального Ивана Сусанина, от этого не легче).
Короче, славного героя, доставшегося агарянам в наследство от завоёванных ими филистимлян и венедов, современные ливанцы за собой застолбили. Что тут скажешь — молодца!
Ну а теперь сядьте, если ещё стоите. На Руси этот смельчак известен как… Георгий Победоносец. Именно он изображён на гербе Москвы. Он же присутствует и на гербе России. Несколько портит эту легенду лишь один-единственный неудобный факт — легендарное «драконье» озеро так и осталось не найденным. То ли сгинуло в результате не попавшего в летописи катаклизма, то ли эти россказни за принцесс и драконов — лишь плод воображения неизвестного любителя розыгрышей... Кто знает?
Как бы там ни было, но за каждой легендой обязательно стоят её авторы. Не бывает, чтобы их не было. Они есть, даже если их имён история не сохранила. А вот состоится ли рассказанная ими легенда и как долго проживёт, состоявшись, заранее не понять.
Если повезёт — состоится. Если очень повезёт — проживёт века.
Но какова степень её достоверности?..
У истории с драконом и Георгием, за древностью событий, свидетелей не осталось, а умело прячущийся горноозёрный плезиозавр — не признаётся, хоть тресни. Впрочем, местом обитания страшного дракона вполне можно считать живописное подземное озеро в пещере Джейта, из которого берёт начало знаменитая Собачья речка. Как оно было на самом деле — не столь и важно. Главное, жива древняя, но при этом очень романтичная легенда.
Жива не только в бывшей Финикии. Ливанский пострел Жора ещё много где поспел.
И залив Святого Георгия, на берегу которого расположена столица Ливана, назван так в его честь, в честь того самого Георгия — покровителя Москвы и Лиссабона.
Любую историю пишут не авторы исторических хроник и не проигравшие, а победители. Это они назначают героев реальных и вымышленных баталий, объявляя свои деяния праведными. Мерзавцев назначают они же, подбирая их из стана проигравших и из числа коллаборационистов. После зачистки несогласных с таким раскладом очевидцев, страсти утихают, а написанные по указке сверху легенды приобретают статус истины в последней инстанции.
Почему в последней?..
А в какой ещё, если других-то и не осталось?
Кто знает, может и наши герои, побывав на Ближнем Востоке, дали повод к рождению одной из таких легенд? Пока неизвестно, кто её напишет, и кто будет назначен нанимателями автора в благородные победители. Но, пока этих господ нет в обилеченной денежными знаками реальности, то, как следствие, ничего не известно и самому автору…
Но, не будем отвлекаться.
Мы о прибывшей в Бейрут группе спецназа.
Об их приключениях в Сирии и в Ливане. И ни о чём более.
Отож. Романы, у которых спонсоры есть, десятилетиями не пишутся.
7 октября 1973 года.
14.30. Время московское.
Бейрут. Аэропорт, вблизи залива Святого Георгия
Со временем любая сложная структура с запутанной иерархией превращается в скопище разгильдяев. В основном, они лишь изображают бурную деятельность, но на деле заняты чёрт знает чем, но только не тем, чем им положено заниматься. И вот, по части самого махрового похренизма — Ближний Восток бил и ещё долго будет бить все рекорды неорганизованности и бардака. Броуновское движение, мгновенно возникающее здесь вокруг любого дела и выделяемых на него средств — у местных это в крови.
Бардак и казнокрадство — как традиция и образ жизни.
Исключения из этого общего правила не случилось и в этот раз.
Приземлившийся на пыльную бейрутскую взлётку Ил-18-й битых сорок минут гоняли с одной рулёжки на другую, пока не загнали в богом забытый тупик за приютившимся на отшибе лётного поля пыльным ангаром.
Местные диспетчеры — это что-то. Похоже, у арабов генетическая профнепригодность к такого рода профессиям.
Неистовое южное солнце, довольно живо напоминавшее шовную сварку непрерывного цикла на автомобильном конвейере, встречало спускавшихся по самолётному трапу спецназовцев восторженным осатанелым оркестром, пуская солнечные зайчики и заставляя щуриться, задерживая дыхание, и закрывать глаза ладонью. В накалившемся как сковорода самолёте было душно, но и на трапе, где их встретили порывы осязаемо плотного перегретого ветра, было не легче. За спиной каждого из Вовкиных товарищей обретались внушительные рюкзаки со снаряжением, что тоже не добавляло им настроения. Душно и жарко было и вблизи технического сарайчика, в скудную тень которого они переместились чуть ли не бегом.
Оружия у спецназовцев не было. Его предстояло получить потом — на пути следования в Сирию, в пока ещё не названной точке предстоящего маршрута. И в самом деле, раздача оружия у трапа самолёта, едва приземлившегося в формально невоюющей стране, выглядела бы странно.
Их группу встречали.
Кто именно?..
Сформулируем так — встречали те, кому положено.
В сложных делах, без проводников и консультантов, хорошо ориентирующихся в местных реалиях, без поддержки профессионалов и подстраховки со стороны компетентных лиц — никак. Иначе можно запросто провалить любое задание, банально не вписавшись в какую-нибудь неочевидную со стороны мелочь.
Группа встречи состояла из нескольких офицеров в добела выгоревшей на местном солнце форме. Несмотря на глубокий загар, цвета хорошо пережжённого кирпича, было видно — свои.
После обычных в таких случаях приветствий и ознакомления с предъявленным Феником предписанием, содержащим вполне ожидаемую, хотя и предельно расплывчатую формулировку про «выполнение специального задания», группа встречи улетучилась. Куда?.. Скорее всего, в здание аэровокзала, в котором работали кондиционеры. Готовиться к встрече ещё кого-то, сосланного на очередную войну по не менее важным причинам и поводам.
Ага, за орденами и лампасами. Или — как их группу — за трофеями.
Ну и за личным интересом. Куда без него?
С Вовкиной группой остались двое — меланхоличный светловолосый майор с медицинскими эмблемами на погонах и темпераментный стройный капитан, больше похожий на смуглого испанца. Или на армянина. Короче, как посмотреть.
Эмблемы у капитана были лётными.
В ходе знакомства и обмена новостями, выяснилось, что капитан прилично говорит на французском и арабском языках. А служит советником командующего сирийскими ВВС по вопросам транспортной авиации. Это, если официально. Неофициально же он подвизался воздушным извозчиком при высокопоставленных лицах сирийского командования. Чаще — в роли личного пилота командующего сирийскими ВВС. При этом одинаково хорошо летал на всех доступных типах самолётов и вертолётов.
К слову, командующий сирийскими ВВС и сам умел летать, предпочитая реактивные истребители. И, любил это делать, что называется, «неподеццки». Но, в нынешней высокой должности, это было «невместно», или — выражаясь по-русски — «не по статусу». К тому же, политикам дорога на небеса заказана. Во всех смыслах.
Профессия такая. А также сопутствующие ей грехи и прегрешения.
Тем не менее, в то время число бывших лётчиков среди высших чиновников Ближнего Востока — зашкаливало. Действовавший на тот момент президент Сирии, Хафез Асад — тоже в своё время летал на истребителях. Столь славному делу будущий президент обучался, ещё будучи капитаном, на лётных курсах в СССР, в Киргизии[6]. Предпочитавший простой и надёжный МиГ-17, Асад долгое время по-праву считался лучшим лётчиком Сирийских ВВС.
Теперь — он не того полёта птица, чтобы летать. Как и его египетский коллега, Хосни Мубарак, закончивший Фрунзенское авиационное училище во Фрунзе и Академию того же Фрунзе в Москве. В 73-м он командовал ВВС Египта, а в 81-м и сам стал его президентом. Но… ради высокой должности забросил пилотирование бомбардировщиков в не знающем нелётной погоды египетском небе.
За всё в этой жизни надо платить.
Самая высокая цена — за кормушку и кресло при этой кормушке.
Выбор невелик. Либо ты служишь своей мечте, либо Мамоне.
И, наверное, это правильно.
Ну а то, что дерьмо не тонет, а чиновники не летают, — проблема общая. Да и проблема ли? Вода и небо — отторгают подобные субстанции по-определению. Тем не менее, историю не удивить тем, что орлы перестают летать по карьерным причинам.
Там, где главенствует карьера — призванию не место.
Орлы, понимаешь ли… И не таких с неба ссаживали!
А вот капитан — тот выглядел орлом.
Ко всему прочему, он был ещё и нештатным пилотом-инструктором малой и транспортной авиации Сирии. Весьма удобное сочетание должностей для сотрудника спецслужб под прикрытием, не находите? С большими правами, но при совершенно необременительных обязанностях. Добавьте сюда доступ к самой конфидициальной информации и дипломатический статус военного советника. Мечта, а не должности. Так что, однозначно — орёл!
Однако сопровождающим в возглавляемую Феником группу назначили не орла-летуна, а светловолосого майора-медика. Капитану же было по пути с ними лишь до обзорной РЛС, прячущейся где-то в ливанских горах. Именно там встречающая сторона собиралась вооружить и доэкипировать новоявленных «туристов». Чем Аллах послал. Так, чтобы те, в случае чего, могли сойти за местных. Ну, хотя бы издали.
Обеспечить спецназовцев собственным транспортом собирались там же.
На этом обязанности летуна в отношении Вовкиной группы заканчивались — он должен был остаться на РЛС, где начинались его обязанности по выдаче данных целеуказания сирийским истребительным эскадрильям, действовавшим на южном участке фронта. Полезная, а, главное, нужная работа. Особенно если знать, как ею заниматься. И, само собой, если хорошо знать язык, на котором разговаривают сирийские лётчики.
Какой именно?.. Ну что вы, право…
Конечно же, арабский.
Но мало ли кто там, за штурвалом, окажется?
В шкуре говорящего на французском вьетнамского лётчика капитану бывать уже приходилось. Да и взбодрить работу ливанцев, обслуживавших РЛС дальнего обзора, было не лишним.
Война на дворе.
Не удивляйтесь. Совсем недавно капитан был боевым лётчиком, а на транспортники и прочую летучую мелочь пересел после не совсем удачного катапультирования из сбитого во Вьетнаме истребителя. С учётом того, что война во Вьетнаме закончилась только что — в марте — ему, можно сказать, повезло. Других в подобных ситуациях списывали вчистую.
Но, может, причина была вовсе не в везении, а в звонке отца капитана своему старому другу. Президенту Асаду, которого он когда-то учил пилотировать МиГи? Ну а после этого — ещё долго служил советником. Нет, не в Сирии. Но в не менее экзотических местах.
Что тут скажешь?.. У хороших советников и дети — советники.
Звали лётчика просто — Павлом. Да и фамилия у него была простая — Андреев. Правда, смуглому облику капитана эта фамилия не соответствовала. Впрочем, дело это житейское — фамилия достаётся нам от отца. Ну а кто был матерью лётчика — история умалчивала.
В отличие флегматичного медика, капитан явно нервничал, то и дело украдкой посматривая на циферблат импортных часов. Определив время, он недовольно хмыкал и, чертыхаясь под нос, принимался выстукивать подошвою щеголеватых неуставных туфель одному ему ведомый мотив. Бетон аэродромной плиты, украшенный мелкой сеткой противоскользящего узора, отзывался на этот перестук неожиданно звонко, словно фарфоровый.
— Что-то не так? — спросил Феник. Он не любил неожиданности.
— Автобус, — ответил летун, — он уже должен быть здесь.
— Как давно? — уточнил Феник.
— Полтора часа как…
— Хреново… — нахмурился майор.
— Никакой организованности! — буркнул подошедший к ним курчавый и, со свойственной ему беспардонностью, поинтересовался. — А советники много получают?
— Не в деньгах счастье, — улыбнулся капитан. — Но мне хватает.
Из дальнейшей неспешной беседы советников и Феника прояснилось не многое. Разве что все они чуть ближе познакомились с назначенным им в сопровождение светловолосым военным медиком. Звали его Василием Барановским. И был главным санитарным врачом Сирийской армии, в официальном статусе советского военного советника. Впрочем, главврачом он числился неофициальным и нештатным. Но, тем не менее…
Штатных санитарных врачей в сирийской армии на тот момент не было. Не созрела она тогда до таких материй. Во всяком случае, настолько, чтобы самостоятельно с ними управляться.
Ситуация располагала, и такая вакансия появилась. Грех было не воспользоваться.
Вовка хмыкнул: похоже, за границей, чуть ли не все наши военспецы шифруются под разными легендами, На деле же — чем только эти казаки-разбойники не занимаются.
Хотя, почему бы и нет, если одно не мешает другому?
* * *
Деньги на карманные расходы, по 300 сирийских сури, и по 200 ливанских фунтов на брата, спецназовцам выдали без какой-либо ведомости. И правильно — лишние улики ни к чему.
Выдачей денег занимался медик. Просто достал из коричневого кожаного портфеля безликие белые конверты без надписей на них и без почтовых марок, и раздал их. Правда, перед выдачей, тщательно пересчитывал находившиеся внутри банкноты, дежурно предупреждая подходивших за столь приятным авансом спецназовцев, что суммы в конвертах не слишком большие, но на сувениры друзьям и близким хватит.
— Из Прибалтики есть кто? — поинтересовался медик, на автомате вскрывая последний из конвертов и пересчитывая находившуюся в нём тощую стопку красочных бумажек с усатыми персонажами восточной наружности на аверсах.
Вопрос был из категории малоожидаемых. И это, мягко говоря.
Офицеров-прибалтов в войсках почти не было. И народ делал выводы. Кто как мог.
Вовремя отметив изумлённо приподнявшуюся бровь Феника и озадаченные лица его подопечных, майор тут же отставил свои подсчёты и замахал выставленными вперёд ладонями.
— Отставить, мужики! Вы неправильно поняли! Из терских казаков я. Причём, потомственных. Предки мои ещё с шестнадцатого века, со времён Кавказских войн, в Ставропольском крае, да в Кизляре с Моздоком и на Сунже осели, — и, коротко выдохнув, добавил: — Но замениться хочу в Эстонию. Как-никак, последняя замена. Там и осяду. Устал таскаться по забытым богом гарнизонам и точкам. Хочется пожить в тихом и спокойном месте. С цивилизацией. И без дурацких авралов. Служба — это четверть века Родине, а пенсия — весь оставшийся век и для души. Сколько бы там ни намеряли. Желательно бы, конечно, подольше. Без революций и потрясений. С их беспределом и трупами штабелями.
— Я тоже против радикальных перемен, — пожал плечами Феник. — Но, ничем помочь не могу. Среди нас нет отпрысков эстонских эсэсовцев и внуков латышских стрелков. Русский спецназ, да ещё и в чужой стране — это самые тихие и миролюбивые туристы. Особенно, когда полностью состоит из евреев и чеченцев. Такие вот пироги. С халяльной зайчатиной.
— И кошерными котятами, — поддержал майора Асланов. — Впрочем, даже у спецназа — хрен редьки не чаще. Хотя и толще.
Что уж там имели в виду майор и Рустам Асланов — история умалчивает.
Но, похоже, их поняли.
Во всяком случае, тема Прибалтики больше не поднималась.
Октябрь 1973 года. Ближний Восток.
Событийный фон Войны судного дня.
Действия ВВС и ПВО арабской каолиции
6 октября 1973 года ВВС Сирии и Египта начали боевые действия.
Сирийская авиация нанесла массированный бомбово-штурмовой удар по опорным пунктам, радиолокационным постам и пунктам управления противника на Голанских высотах. Позиции ЦАХАЛа штурмовали 80 самолетов. В этот же день была успешно осуществлена поддержка тактического десанта, захватившего важный разведывательный пост израильской армии на горе Джебель-эш-Шейх (Хермон).
Ошеломленные внезапным нападением, израильские ВВС действовали мелкими группами. День для них складывался неудачно — только на Сирийском фронте было сбито 43 израильских самолета, из них 12 — в воздушных боях.
Спланированная на скорую руку, операция «Дугман-5»[8], призванная уничтожить сирийскую ПВО, или, хотя бы, нанести ей максимальный урон, не задалась и фактически провалилась.
7 октября арабская авиация наносила повторные удары по ряду объектов противника, поддерживала и прикрывала свои войска, отражая воздушные налёты израильтян, которые,
быстро завоевав господство в воздухе на Египетском фронте, сделать то же самое на Сирийском не смогли. Действия сирийских летчиков вынудили израильтян отказаться от массированных налётов и перейти к работе мелкими группами по отдельным объектам. Их воздушное доминирование в Сирии сорвалось, не начавшись (слишком дорогой оказалась цена вопроса), и потому, после прекращения малоэффективных, но предельно самоубийственных ударов по сирийским аэродромам, начались демонстративные действия израильских истребителей над Ливаном. Здесь их потери были вполне терпимыми.
Всего с 6 до 24 октября сирийские ВВС произвели 5814 боевых вылетов, из них:
— на авиационную поддержку сухопутных войск — 1044 самолётовылета;
— на прикрытие сухопутных войск, тыловых объектов и обеспечение ударных групп истребителей-бомбардировщиков — 4658 самолётовылетов;
— на воздушную разведку — 12;
— на перевозку, спасательные действия и эвакуацию раненых — 70 вертолётовылетов;
— на высадку тактического воздушного десанта — 30 вертолётовылетов.
Были нанесены удары по аэродромам, нефтеперерабатывающему заводу, мосту через реку Иордан и пунктам управления, расположенным в глубоком тылу территории Израиля.
В течение 18 суток войны, только над Голанскими высотами и Ливаном, сирийскими лётчиками было проведено 260 воздушных боев, в результате которых потери противника составили 105 самолётов и вертолётов, а их собственные — по различным данным — 52…57 (соотношение 2:1). При исходном равенстве сил, успех сирийцев был обусловлен более качественной подготовкой лётного состава и хорошо продуманным тактическим обеспечением, вопросами которого занимались советские военные советники.
Лишь к 21-23 октября израильское командование изменило тактику использования собственных ВВС, попытавшись добиться успеха в локальных воздушных боях. Вторгшись на небольшую глубину в воздушное пространство Сирии, "Миражи" пытались вызвать на себя дежурные группы МиГ-21, а затем ввести в бой замаскированный резерв, получив, таким образом, тактическое преимущество за счёт быстрого наращивания усилий.
Это улучшило положение дел, но не радикально.
Всего ВВС Сирии потеряли в ходе войны 43% боевых самолётов (от этого количества в воздушных боях сбито — 18%, средствами ПВО противника — 16% и собственными средствами ПВО — 3%, потеряно в результате 52 ударов противника по аэродромам — 6%). Потери личного состава среди лётчиков — 16%, вертолётчиков — 41%.
7 октября 1973 года.
Ливан. 16.00. Время московское.
Операция «Дугман-5». Вид со стороны
Итак, об эротике. И её фатальной роли в истории Ближнего Востока.
Любые следствия всегда имеют свои причины.
Всё. На этой фразе эротика кончилась и началась история.
Бейрут не назывался бы Городом-Фениксом, если бы мир в здешних краях длился дольше и случался чаще, чем война. 73-й год — исключением не стал. В этот раз воевали у соседей, но крошечного сирийского неба летунам не хватало, и довольно скоро ожесточённые воздушные бои шли как над многочисленными заливами и бухточками Средиземного моря, так и над формально нейтральным Ливаном. Сбитые самолёты, в полном соответствии с законом Ньютона, падали в солёную воду Средиземки и на плодородные земли ливанских долин и предгорий.
Вот и сейчас, высоко в небесной сини, над юго-восточной окраиной Города колодцев, буквально над головами Вовкиной группы, разгоралось очередное воздушное сражение. Быстрые звенья короткокрылых «МиГов» энергично атаковали рассыпавшуюся под их натиском группу «Миражей». Минута, и на глазах увлёкшихся непривычным зрелищем спецназовцев задымили два израильских самолёта. Стремительно теряя высоту, оставляющие тёмные хвосты остроносые серебристые треугольники потянули в сторону моря.
— Куда это они? — изумился курчавый. — Там же вода?..
— Правильно, — кивнул загорелый до черноты капитан с лётными эмблемами на погонах. — Залив там, с тёплой водичкой. И в ней — катера Армии обороны Израиля. А у каждого сбитого еврейского пилота — парашют, надувной жилет с радиомаяком и сигнальные дымы. Мореманы их на шесть сек запеленгуют. И выловят — те даже простудиться не успеют. Слегонца промокнут, не без этого. Но здесь это не смертельно.
Меж тем, со стороны залива донеслись хлопки заглушенных и тут же захлебнувшихся воздухом реактивных двигателей. Дымные хвосты словно ножницами отрезало, и истребители, апатично клюнув носами, завалились вниз — к мерцающим на солнце водам залива. Подхваченные восходящими потоками тёплого бриза, напоённого характерными запахами йода и созревающих олив, в небе закачались ослепительно белые парашюты катапультировавшихся израильтян. Всё, как и предсказывал капитан.
Происходящее было предельно реалистичным, даже осязаемым, но, тем не менее, оставляло явственный привкус нереальности. Помните, как это бывает в хорошем кино, когда, что бы там ни происходило на экране, твёрдо знаешь — лично тебе это ничем не грозит. Но, тем не менее, если это и в самом деле хорошее кино, сюжет, собака такая, пробирает. И глаз от происходящего не оторвать. И дыхание при каждом повороте этого сюжета перехватывает. Опять же, не будем забывать, что из любой, взятой наугад, пары остросюжетных шоу — лучшее не то, что круче, а то, которое доступно нашему вниманию бесплатно. То бишь, на-шару.
Продававших билеты самоназначенных кассиров поблизости не наблюдалось, и спецназовцы, занявшие лучшие места в этом театре абсурда, ничуть не скрывая своего интереса, наблюдали за повисшими над их головами незадачливыми асами. Асов сносило в залив.
— Почему в них не стреляют? — заинтересовался прагматичный Асланов.
Судя по азартно горящему взгляду и сосредоточенно поджатым губам, сам он ни за что бы ни отказался от такого развлечения.
— Евреев стрелять?.. — удивился капитан. — Зачем?.. Да и за что?.. Формально Ливан ни с кем не воюет. Ну а то, что над нами кого-то сегодня сбили — дело, в общем-то, житейское. И не такое бывает. Опять же, кто-то из них, вполне возможно, ещё вчера учился со мной в одном классе. А я в друзей детства не стреляю.
— Это не наша война, — поддержал его Феник.
— Почему? — встрял в разговор неугомонный курчавый.
— Потому что, — устало вздохнул майор. — И вообще — давайте исходить из того, что мы — это мы. А они — это они. К тому же, мародёры воюющей стороной не являются. Жаль только, что это никогда и никого не останавливало. Более того, в плен нашего брата не берут. Не принято. Так что, дорогой Макс, береги честь смолоду, а жопу — круглый год!
— А чего я?.. — обиделся Макс. — Я — ничего!
— Вот и я о том же, — улыбнулся майор. — Каждый из нас, вроде бы, и не причём. Да и дела наши, на первый беглый взгляд, обстоят неплохо. Ничего себе так обстоят. Но, всё равно, как бы чего не вышло.
Меж тем, события словно с цепи сорвались. Азартно шебуршась и демонстрируя нешуточную динамику, они продолжали сыпаться, как из рога изобилия. Любители азартных игр знают — такое бывает, когда кому-нибудь из игроков «попёрла масть».
Знать бы ещё — кому?
Впрочем, первые выводы и предшествовавшие им события говорили за себя сами.
В этот раз не повезло израильским пилотам. Впрочем, как сказать. Живы — и слава Иегове!
Ещё одно подтверждение прозорливости капитана ждать себя не заставило: из-за скалистого мыса, показались израильские катера. Огибая купавшиеся в пенном прибое Голубиные скалы по широкой глиссаде, они устремились к сбитым израильтянам, увлечённо пускавшим оранжевые дымы. Пиротехники, блин!
— Наш полёт закончен, — копируя тональность объявлений на борту гражданских авиалиний, сообщил лётный капитан, — табло «Пристегнуть ремни» погасло. Можно сниматься с ручника и зачехлять оптические прицелы. Багаж выдадут в багажном отделении по багажным биркам!
— Водные процедуры завершены, — подхватил этот спич майор-медик. — Санаторий программу откатал. Граждан отдыхающих просим освободить занимаемые плацкарты! Занавес!!!
После слов этих клоунов, спецназовцев и в самом деле отпустило. Они заулыбались, заговорили все разом, загалдели, оживлённо делясь впечатлениями и обсуждая увиденное.
Лиц израильских спасателей и поднимаемых ими из воды лётчиков видно не было, но Вовка был уверен — они тоже улыбаются. По-голливудски белозубо и весело. Ну и что, что Ливан — не Голливуд, и все они — не звёзды? Люди — везде одинаковы. Почему бы простому вояке и не поулыбаться, когда костлявая уже успела похлопать его по плечу, но вдруг передумала и оставила в покое? И плевать, что кого-то из летунов пронесло во всех смыслах. И в том, о котором вы только что подумали — тоже. Морская вода смыла и этот конфуз. В земные моря сливается столько дерьма, что им не привыкать.
А вас, кстати, не сбивали высоко в небе, эдак в паре-другой километров над джунглями? Или над скалистыми горами? Тоже не сбивали? А над морем?
В момент, когда вы закладываете отчаянный вираж, пытаясь уйти от настигающей вас ракеты, вам совсем не до смеха. Перегрузка издевается над вашим телом и делает мозги вялыми. Она выдавливает съеденное из желудка и выпитое из мочевого пузыря, перекручивая ваш организм, словно хлипкий тюбик с зубной пастой. Но всё впустую…
Что?.. Вы филолог, и по этой, весьма уважительной причине, сбить вас не могли? Более того, вы не в курсе таких ситуаций, однако же, желаете и впредь иметь обо всём на свете своё собственное, ничем не обоснованное мнение?.. Ваше право.
Но в описанной ситуации вам всё же лучше помолчать в тряпочку и молча порадоваться за тех, кто в этом дерьме побывал. А, побывав, тем не менее, умудрился выжить.
Так вот, сбивают сейчас просто, даже прозаично. Наводящаяся на тепловое излучение головная часть влетает в сопло вашего двигателя, и… после этого остаётся лишь гадать — сработает ли катапульта? Но, когда она сработала и парашют раскрылся, а спасатели — вот они, на подходе, — можно перевести дух и улыбнуться.
Всё плохое уже случилось, но вы, тем не менее, живы и даже не искалечены.
Допивайте свою колу и доедайте поп-корн. Пора на выход.
И улыбайтесь, господа! A happy end again.
Кино закончено.
6-24 октября 1973 года.
Сирийский и египетский фронты.
Борьба Израиля с ПВО арабской коалиции
Нет приёма против лома.
Попытка израильтян действовать «в лоб» против реорганизованной на современный лад системы сирийской ПВО привела ко вполне закономерному поражению. Тактические приёмы, применявшиеся в конце 60-х годов, в изменившейся обстановке оказались неэффективными.
Завоевать господство в воздухе не удалось, а потери самолётов аналитики ЦАХАЛа оценили как неоправданно высокие, в сравнении с причинённым сирийцам ущербом.
Использование израильской авиацией малых высот и рельефа местности стало в этой войне чуть ли не единственным успешным способом преодоления сирийской ПВО. Голанские высоты и горный хребет, протянувшийся через весь Ливан, вдоль побережья Средиземного моря, стали естественной защитой для «Фантомов».
Уже 7 октября израильская авиация активизировалась, нанеся ответные удары по войскам на восточном берегу Суэцкого канала, по переправам, шести аэродромам Египта, средствам ПВО Порт-Саида, а также по радиолокационным постам и средствам ПВО Сирии. В одновременных ударах участвовало до 60 самолетов «Фантом» и «Мираж». Израильские «Фантомы» пытались подавить противодействие арабских средств ПВО, но, в результате наскоро спланированных бомбардировок, был выведен из строя лишь один-единственный радиолокационный пост в горах Ливана, обеспечивавший обзор в сторону моря в интересах ПВО арабской коалиции, действовавшей на Северном фронте. Потери, потребовавшие проведения восстановительных работ, понесли несколько второстепенных зенитно-ракетных дивизионов, прикрывавших сирийские войска и дальние подступы к Дамаску. Передовые радиолокационные посты на юго-западном направлении пострадали незначительно, и поэтому действия израильской авиации стали наиболее результативными лишь с юга, со стороны моря.
Сложившееся положение дел сохранялось до самого окончания этой войны.
Теперь бомбить Сирию летали с юга. «Фантомы», прорвавшиеся к аэродромам и другим объектам в глубине территории Сирии, и уходить предпочитали в сторону моря. Этому благоприятствовали сразу несколько факторов: во-первых — вдребезги разбомбленная обзорная РЛС в горах Ливана восстановлению не подлежала, во-вторых — там, вдоль побережья Ливана, курсировали катера спасательной службы ВМС Израиля, подбиравшие летчиков, катапультировавшихся с подбитых самолетов. Приём был заимствован у американцев, уходивших в ещё не успевшем покрыться пылью прошлом, после налетов на Ханой и Хайфон, в сторону Тонкинского залива, в зону действия импровизированных, но достаточно эффективных морских спасательных средств.
7 октября 1973 года.
Принц Бейрут и его нищие
Примерно через час не очень томительного ожидания, за спецназовцами, прятавшимися в куцей тени технического сарайчика, приехал автобус ярко-песочного цвета с нейтральной надписью «School bus». Выполненная крупным шрифтом надпись красовалась на всех его бортах, на кургузом капоте и даже на крыше.
Водитель этого несерьёзного рындвана загодя развернулся на узкой бетонной дорожке и довольно долго сдавал задом, остановившись только тогда, когда задний бампер оказался в тени. Автобус словно датчиком освещённости управлялся. Точнее — датчиком отсутствия этой освещённости.
А что?.. Бывает и такое.
Чего только в наш просвещённый век не придумают!
— Это школьный автобус, — пояснил очевидное медик. — Их сюда из Штатов получили. По гуманитарной программе. А любая гуманитарка, если кто не в курсе, — это впаривание бомжам и другим маргиналам разной рухляди. Типа просроченных лекарств или продуктов. Держи, Аллах, что нам не ах! В Америке эти таратайки списали вчистую, как отслужившие все мыслимые сроки, а потому — потенциально опасные. Но местные и этому рады.
К слову, водитель автобуса был из этих самых местных. Правда, особой радости на его лице не читалось. Привык, наверное. Сирийцем же он был или ливанцем — без поллитры было не разобрать. Дочерна загорелый, тощий и флегматичный. При этом какой-то потёртый и неприметный. Не человек, а функция.
Араб, короче.
Тут они все такие.
Рассаживались в автобусе в произвольном порядке, благо, что свободных мест было в избытке. Правда, садиться к окнам никому не захотелось — уж больно там, за ними, припекало. На эти места спецназовцы определили рюкзаки со снаряжением. Едва Вовкина группа разместилась в чреве перегретого на солнце ветерана американского автопрома, как тот судорожно хрипнул включаемой передачей, вздрогнул, чихнул сизым облачком непрогоревшего выхлопа, и неожиданно бодро покатил к городу, смазанная картинка которого тонко подрагивала в потоках поднимавшегося от земли горячего воздуха.
На открывавшиеся из окна автобуса виды спецназорвцы глядели во все глаза.
Экзотика, итить её.
Да и где ещё увидишь такие палестины?
К слову, по прямой до Палестины было девяносто километров. Всего ничего. Если не знать, что на этом маршруте религии и конфессии сменяют друг друга каждые десять километров. А желающие отрезать вам голову за непонятно в чём заключающееся оскорбление чувств — и того чаще. Впрочем, ливанцы на удивление терпимы в этих вопросах. Только вот откуда пришлому европейцу знать — где перед ним ливанец, а где — кем-то обиженный беженец?
Временами их здесь — каждый второй.
Ладно. Не парьтесь. Со временем, все там будем.
* * *
Экскурсоводом выступил Феник.
Вещал он спокойно, с какой-то привычной отстранённостью, ничуть не смущаясь непривычным для него амплуа, с эдакими характерными интонациями заправского гида. У не знавших майора людей могло создаться впечатление, что он всю свою жизнь только и делал, что водил по местным развалинам дисциплинированно разевающих рты и щёлкающих затворами дешёвых фотоаппаратов нарочито восхищающихся туристов.
Профессионал, ити его в кочерыжку. И этого не отнять.
Правда, в этот раз туристы были привычны совсем к другим затворам. После их передёргивания и нажатия на спуск, на волю вылетают совсем другие птички. Очень быстрые, фатально бескрылые и обескураживающе свинцовые. Зачастую, в медной оболочке.
Облачённый в оливковую форму экскурсовод тоже вполне предсказуемо наводил на размышления, упрямо выпадая из картины, привычной для экскурсионных реалий. Да и кто из нас, в здравом-то уме, устраивает экскурсии на войну?
Впрочем, не место красит человека. И, тем более, не места проведения экскурсионных туров. И не одёжка, по которой нас встречает лишь слабый пол, падкий на визуальные и акустические эффекты и прочие дешёвые понты. Венец всему — квалификация индивидуума. И его эрудиция. Или наоборот — сначала эрудиция? Впрочем, не важно. Всё равно одного без другого не бывает. А добра этого у майора Феника было более чем. То есть, в избытке.
Меж тем, стихийно возникшая экскурсия продолжалась. В последующие полчаса спецназовцы узнали от майора много удивительного. Оказывается, в истории ливанской столицы был период… русского владычества! Всего полгода, но в XVIII веке… прекраснейший из восточных городов и в самом деле принадлежал России! Было, оказывается, в нашей истории и такое.
5 августа 1773 года, во время очередной русско-турецкой войны[6], сводный морской отряд под предводительством капитана 2-го ранга Михаила Кожухова подошёл к хорошо укреплённому турками Бейруту. После двухмесячной осады крепость пала. Во время штурма русским морпехам очень помогли восставшие против турок друзы.
— Впрочем, к чему это я?.. — прервав рассказ, хитро сощурился подкованный в местных реалиях майор. — Не догадываетесь?.. Вспомните детство! И прочитанные в этом детстве пиратские романы, в которых сидящий на плече одноглазого пирата здоровенный носатый попугай орёт, словно его режут: — Пиастры! Пиастры!.. Вспомнили?.. Так вот, 15 января 1774 года, оставляя Бейрут, морпеховский капдва Кожухов продал его друзам за 250 тысяч пиастров!
— Продешевил, — прокомментировал этот факт курчавый. — Хотя не удивлён. Наш Паниковский и тут всех купил и продал!
Есть люди, которые ведут себя так, словно они в каждой бочке затычка, ничуть не задумываясь, что очередная из бочек может принадлежать золотарю. Так что неудивительно, что и на эту провокационную реплику неугомонного Макса Феник не отреагировал. Тема уже вела его, и на попытки сбить с мысли он не отвлекался. Майор был занят. Он нёс в массы знание. В чём-то познавательное, в чём-то забавное, но знание это отчего-то горчило. Бог его знает почему. Впрочем, умножая знания — нередко промахиваются со специями…
Ещё через четверть часа изумленные спецназовцы узнали, что Бейрут — до сих пор представляет собой рода культурологический Ноев Ковчег нашей цивилизации. И по сей день на его борту вполне комфортно чувствует себя довольно многочисленная христианская конфессия, абсолютное большинство которой составляют православные христиане. Помимо православия, местный христианский мир представлен целым ворохом куда более мелких, временами, и вовсе экзотических течений. Чуть ли не сект. Что характерно — они вполне мирно уживаются друг с другом. Такая же картина наблюдается и по части других конфессий[9]. И у каждой из них — свой храм, и своё, не совпадающее с соседями, расписание служб.
Всего в Ливане — на четыре миллиона человек — 17 конфессий. Неудивительно, что призывы к молитве раздаются над Бейрутом чуть ли не поминутно.
Вот и сейчас, уже на въезде в город, автобус с новоявленными туристами встретил густой перезвон православных колоколов. В ясный безветренный день их мелодичные голоса отчётливо слышны на протяжении десятков километров ведущих в город дорог и на кораблях, находящихся в любой точке залива Святого Георгия. Импровизированный колокольный концерт без заявок настойчиво повторяется много раз на дню. Меж тем, этот характерный для Бейрута акустический Бедлам и сопровождающее его Вавилонское столпотворение звуков воспринимаются на удивление органично.
Да и не настолько мы разные, чтобы такое, веками выверенное действо вызывало у кого-нибудь из нас неприятие или дискомфорт. Люди не делятся по национальности, партиям и на фракции, а также по исповедуемой религии. Они делятся на умных и дебилов.
А вот дебилы делятся. На национальности, фракции, партии и религии.
И всё равно, необычное это место — этот Бейрут. И время здесь такое же — необычное.
Сегодня и в самом деле был не совсем обычный день. Война.
События сыпались как из рога изобилия. Колокольный перезвон и усиленные микрофонами призывы муэдзинов к молитве неистовым крещендо сплетались с рёвом насилуемых перегрузками реактивных двигателей и плыли над городом, словно ещё один реквием великого Вагнера, вдруг воскресшего у этой забытой Богом колыбели человеческой цивилизации, ужаснувшегося ей и откликнувшегося на происходящее всей мощью своего гения.
Английский поэти проповедник Джон Донн[10] одним из первых заметил, что реквием по человечеству никогда не перестаёт звучать. И звучит всегда и повсюду. Во всех пределах. Но на Ближнем Востоке — он по-праву у себя дома. Вход в Царство Мёртвых для целой плеяды минувших и до сих пор находящихся на плаву цивилизаций находится именно здесь.
Вот и сейчас, словно ещё одно подтверждение этой мысли, над древним Бейрутом неспешно разгорался очередной воздушный бой. Правда, вскоре стая реактивных самолётов, сцепившихся, словно дворовые псы, огрызаясь росчерками ракет и очередями скорострельных пушек, сместилась в сторону залива. Минуту спустя она и вовсе пропала из видимости, заслонённая крышами приближавшихся высоток. Автобус въехал в пригород.
Его пассажиры ещё раз оглянулись на звуки не утихавшего воздушного безобразия, но, похоже, в этот раз отнеслись к происходящему в небесах довольно равнодушно. Эффект новизны притупился, сменившись апатией пресыщения.
На Востоке множество дорог, но так уж он устроен, что к нужному месту ведёт лишь одна из них. От силы две. Путь новоявленных «туристов» лежал на восток, в сторону Дамаска. Но, перед тем как выбраться на трассу, ведущую к столице соседней Сирии через Мухафазу Горный Ливан, им предстояло проехать чуть ли не всю восточную часть города.
— Всё не как у людей. Припёрло ж нам переться в Сирию через Бейрут… — скривившись, бурчал энергично вертевший головой курчавый. — Через Дамаск оно не быстрее было бы? Там — тоже аэропорт. И тоже — международный. Или его уже разбомбили?
— Может, и разбомбили, — пожал плечами Феник. — Или разбомбят ещё… Это Восток… — тут на всё воля Аллаха. Нам же лучше придерживаться мест, где нас никто не ждёт. Сотня миль — для бешеной собаки — не крюк, а тренировка. Здоровее будем.
— Всё через жопу… — продолжал нудеть курчавый. — Ну, ни хренашеньки интересного! Везде одно и то же. Скучно мне с вами, господа перестраховщики! И тошно!
— Безобразий захотелось? — наклонив голову к плечу, заинтересовался Феник. — Что ж… Будут тебе безобразия. И разнообразия будут. И плюшки с плюхами. И зрелища — разные и досыта. До отрыжки с оскоминою, — потом хмыкнул и, подумав, продолжил. — Но ты, голубь мой, из тех, у кого даже лучший горный мёд — кислит. Ты, похоже, и под бомбами скучать будешь! Нет, бомбёжку я, конечно, никому не обещаю. Не приведи Господи такое счастье! Но апокалипсических зрелищ будет в избытке! Бескровных войн не бывает!
Обещания майора по части леденящей кровь экзотики стали сбываться в первые же минуты следования наших героев через город. Точнее — начали становиться ею. Изобилие шокирующих зрелищ, в пересчёте на квадратный метр реальности, зашкаливало.
Ухоженный район, плотно застроенный сверкающими небоскрёбами, промелькнул в одно мгновение, сменившись живописными трущобами. Недавно отстроенные дома соседствовали здесь с целыми кварталами, разрушенными очередной войной, в развалинах которых, наскоро обустроившись, ютилась местная беднота.Целые улицы напоминали документальные хроники развалин послевоенного Сталинграда.
Вопрос, как можно «живо» напоминать нечто неживое, более того — нежилое, оставим за кадром. Просто, выгоревшие на солнце пыльные остовы обобранных мародёрами строений и в самом деле выглядели настолько заброшено и неуютно, что от них хотелось отвести взгляд, словно от покрытого язвами неухоженного калеки.
Сотворить такое могла только свирепая стихия — слепая на оба глаза и не соизмеряющая сил. Стоящие впритирку старые и новые здания оставляли двойственное впечатление, выглядя нелепо, словно прогуливающиеся под руку расфранчённый аристократ и давно махнувший на себя рукой бомж. Не город, а классический «принц и нищий».
Фото 2.
Бейрут.70-е годы.
Фотография из архива телепередачи «Вокруг Света».
«Человек, для полноты своей жизни, должен испытать бедность, любовь и войну, — сказал как-то по схожему поводу О. Генри. Однако же, немного подумав, добавил. — Но не всё сразу».
Вряд ли бы он так считал, побывав на Ближнем Востоке.
Дело в том, что тут такое смешение жанров — норма.
— Землетрясение? — предположил обескураженный Вовка.
— Апокалипсис, — вздохнул Асланов. — Долбаные хроники покинутых городов.
— Война это, — не оставил сомнений Феник. — Здесь — от сотворения мира — война.
— Чего им тут делить-то? — усомнился курчавый. — Нищета же голимая… Средневековье и антисанитария…
— Это средневековье и делят… Когда порядка уже нет, но пока ещё есть что делить, — сложно удержаться от соблазна. Ресурсы никогда не остаются бесхозными. Политики делят нефть, нищие — горбушку.
Развивать столь безнадёжную тему спецназовцы не стали. Ну её нафиг! В их жизни и без того слишком много политики. А так… услышали, прониклись, приняли к сведению. В таких ситуациях полезнее руководствоваться местным опытом, благоразумно утверждающим, что окружающая нас действительность — это лишь иллюзия. Хотя, порою, и очень стойкая.
Никто больше не спорил. Только Макс никак не мог угомониться.
Есть люди, которые готовы трясти томатами, пока не огребут по самые помидоры.
— А если в этот раз всё разбомбят уже не в щебень, а в мелкую пыль? — поинтересовался он. — Неужели местные и тогда упрутся рогом и всё восстановят? Не проще ли всё бросить и построить новый город на новом месте?..
— Упрутся, — равнодушно кивнул Феник и, хмыкнув, пожал плечами. — Этот город не зря называют Фениксом.
— Точно, Фениксом? Не Феником и не пенисом? — попытался сострить курчавый.
Шутка была из разряда «ниже пояса» и явно не удалась, поэтому никто на неё не отреагировал. Да и на что там реагировать?
Тем более что в этот момент автобус остановился, и майор-медик объявил, что у них есть сорок минут на приобретение сувениров и подарков близким.
— В Сирии сейчас война, — пояснил он ситуацию. — И там вряд ли на это будет время…
— Вещи и снаряжение можно оставить, — подняв два пальца вверх для привлечения внимания, добавил лётный капитан. — Я присмотрю.
— Сколько раз можно восстанавливать руины? Какое-то ослиное упрямство... — неодобрительно кривился курчавый, тем не менее, шустро продвигаясь на выход.
Оглянувшись, Вовка с удивлением увидел у него в руках пустой вещевой мешок.
Шустёр, бродяга!
Против ожиданий, центральные улицы Бейрута выглядели не так, как в других странах Ближнего Востока, тех, где ислам — главенствующая религия. Куда-то спешившие женщины были одеты и накрашены вполне по-европейски.
— Что это за место? — ступив на городской асфальт, спросил Вовка. — Как называется?
— Л`Этуаль… — меланхолично ответил остановившийся рядом с ним Феник, чиркая зажигалкой. И, выпустив длинную струю дыма, добавил. — Площадь Звезды… — майор был какой-то не такой, он словно бы был здесь, рядом со всеми, но при этом думал о чём-то постороннем.
Пока он прикуривал, курчавый успел улетучиться.
— Сорок минут. Время пошло, — последнее, что успел от него услышать Вовка.
Когда старшина обернулся, Макса рядом уже не было.
К слову сказать, в этой части города и ливанцы, и окружающие здания смотрелись вполне современно.
Ещё одно напоминание о Париже—центральная площадь Старого Бейрута, и в самом деле была схожа со знаменитой парижской площадью. Причём, не только своим названием, но и тем, что была спроектирована и построена французскими архитекторами в форме звезды, от каждого из лучей которой берёт начало своя улица.
Именно так выглядит в Ленинграде знаменитая Площадь пяти углов.
Раньше, в древние времена, на месте бейрутской Площади Звезды располагался римский Форум. Теперь в центре площади красовалась башенка с часами.
Фото 3. Вид на Площадь Звезды в Бейруте
Количество магазинов и всевозможных лавочек на ведущих от Площади Звезды улицах поражало. Первые этажи примыкавших к проезжей части зданий представляли собой сплошные витрины самых разнообразных бутиков и ресторанчиков. Но главной неожиданностью оказалось обилие на этих витринах спиртных напитков и их рекламы. К слову заметим, что спиртное и по сей день продаётся здесь заметно дешевле, чем у нас или ещё где-либо. Граждане других государств региона, тех, где алкоголь запрещен официально, приезжают в Ливан, что называется, оторваться и попробовать знаменитого местного арака.
Секретами изготовления самого крепкого арака владеют представители крупнейшей христианской общины Ливана — марониты. Один из его сортов приготовляется с освежающим мятно-анисовым вкусом, но при этом очень крепким — 51 градус.
Сейчас церковь маронитов — это ответвление римско-католической церкви, признающее верховенство Папы, но имеющее собственного патриарха. Своё название община получила от имени известного сирийского аскета Марона, жившего в этих местах в конце IV, начале V века. Так вот... теперь последователи маронитской аскезы изготавливают водку. Причём, отменнейшую!
В направлении маронитского квартала и пропал неугомонный Макс. Остальные спецназовцы разбились на группки и разбрелись только после разрешающего кивка Феника.
Сам майор продолжил неторопливо курить. Он явно никуда не торопился.
Куда потратить ливанские фунты, Вовка и ещё несколько его товарищей долго не гадали.
В бутике, украшенном логотипами «Lee» и «Wrangler», он приобрёл первые в своей жизни джинсы и украшенную клёпками чёрную кожаную куртку. Двухсот фунтов хватило впритык.
Поначалу владелец магазинчика запросил за всё это великолепие пятисотку, но потом сдался под Вовкиным напором, попеременно призывавшем, то на английском, то на персидском языках в свидетели то Аллаха, то Иблиса, в зависимости от того, чья цена в ходе торга озвучивалась. Вопрос решился за счёт опта. Ещё четверо Вовкиных товарищей взяли такие же джинсы и куртки. Судя по довольной физиономии хозяина бутика, можно было уронить и эту цену, но от добра добра не ищут — отведённые на шопинг сорок минут заканчивались.
Когда спецназовцы вернулись в автобус, курчавый уже был там. И вид у него был как у обожравшегося сметаной кота. Или как у Юрия Никулина в не так давно вышедшем на экраны фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Помните эпизод этой славной комедии великого Леонида Гайдая, где его герой, Балбес, вполне предсказуемо проявил «инициативу», прихватив бутылочку портвейна на подлежащем разграблению складе?
Именно так выглядел курчавый.
На его сиденьи лежал до отказа набитый армейский вещмешок. За вещмешком, ближе к окну, как и у остальных спецназовцев, располагался принадлежавший Максу рюкзак с его личным снаряжением. Самому хозяину вещмешка места не осталось. Он стоял рядом.
Как часовой у знамени. Или как пионер у вечного огня.
Пересесть на другое место курчавый не решился. Для этого ему пришлось бы оставить свои покупки и пройти в конец салона. Похоже, он всерьёз опасался за сохранность содержимого вещмешка. Что же такое он там приобрёл?
Да и бог бы с ним. Каждый баран сам носит свои яйца.
Удивил Феник.
Он, похоже, никуда не ходил. От слова вообще. Ничего не приобретая, пробездельничал с сигаретой около автобуса и расположенной поблизости достаточно скромной забегаловки, рассеянно наблюдая за происходящим на площади.Правда, в процессе этого наблюдения, перед ним, словно по волшебству, появился бумажный пакет с пирожками, запотевший стакан сока и шаверма.
Наверное, из той самой забегаловки принесли.
К слову, пакет с пирожками был полуведёрного размера, а сами пирожки — с бараниной.
Разложив это великолепие на подвернувшемся под руки пустом алюминиевом кеге, с брутальными надписями «Beer» и «Tiger» по его окрашенному в нежно-голубой цвет борту, он вынул из кармана газету и аккуратно расстелил её на пыльном дорожном бордюре. Затем невозмутимо уселся прямо на бордюр или, если хотите, на газету, чуть ли не под ногами куда-то спешащих ливанцев. И теперь, не торопясь, с чувством и расстановкой, вкушал умопомрачительно вкусно пахнувшую шаверму, запивая её свежевыжатым апельсиновым соком.
А ещё он созерцал. Чуть ли не медитировал.
В автобус Феник зашёл последним.
И тут же удивил во второй раз.
Напрочь проигнорировав вопрос курчавого о том, как ему там сиделось — на зассанном аборигенами бордюре, майор пустил свой пакет по кругу, честно предупредив, что покупал это скромное угощение от души, хотя и из расчёта по три пирожка на брата.
Успевший занять своё место и даже переложить бумажный свёрток с покупками в рюкзак, Вовка чутко прислушался к своим ощущениям и с удивлением отметил — щедрый презент командира группы был, что называется, к месту. Да что там — более чем к месту!
Ранний завтрак после вчерашних возлияний никому не пошёл, а потом, уже на борту военного транспортника — во время перелёта — не кормили.
— Спасибо! — спохватился он, успев откусить изрядный кус от одного из своих пирожков.
И мысленно отметил — вкусно! Что-что, но готовить баранину на Востоке умеют.
— А чем запивать? — поинтересовался курчавый, запуская в добравшийся до него пакет широко растопыренную пятерню.
— На последнем сиденьи — два ящика пива! — откликнулся Феник. — По паре бутылок на брата — самое то, чтобы поправить здоровье после вчерашнего. Ну и вообще… питие по погоде и обстоятельствам.
— А какие у нас обстоятельства? — насторожился курчавый.
— Трагические! — свирепо оскалился Асланов.
— Сухой закон? — предположил в развитие темы Вовка.
В самом деле, что может быть трагичнее для их организмов после вчерашнего?
— Именно! — подтвердил эту апокалипсическую версию майор, принимая чашечку кофе от появившегося в дверях автобуса официанта. Благодарно кивнул ему, сделал тщательно выверенный маленький глоток, зажмурился от удовольствия и, открыв глаза, уточнил: — До самого отъезда — ни единого грамма. Ни при каких обстоятельствах. Никому. Все возлияния — дома. Когда вернёмся. Это пиво — последнее.
Волнующий аромат настоящей арабики возвращал к реальности, словно мощный разряд дефибриллятора, и лучше всяких клятв подтверждал серьёзность слов майора.
— Джаляб! — прокомментировал Макс озвученные Феником условия.
Добравшись до пива, он перестал себя контролировать. Причём, совершенно.
Ладно, спецназовцы. Но даже арабы — официант и водитель — сделали вид, что не заметили последней реплики несдержанного на язык курчавого.
И правильно. Бывают ситуации, когда поверить в услышанное — себе дороже.
Что касается невозмутимости Феника, то, даже на их фоне, ей можно было позавидовать.
Автобус ещё не тронулся, а он уже продолжил прерванный, было, рассказ о местных достопримечательностях. Речь зашла о расположенных рядом с Площадью Звезды храмах Святого Ильи и Святого Георгия. С восточной и юго-западной стороны площади улиц нет, именно там стоят два этих собора — католический и православный. Главный православный храм Бейрута, собор Святого Георгия, разместился буквально возле здания парламента Ливана. Это старейшая церковь ливанской столицы. Первый православный храм на этом месте был построен ещё в начале IV века. Но Восток и христианство здесь тесно переплетены не только исторически. Сам храм довольно обычный, необычно его соседство с арабской мечетью. Впрочем, для центральной части Бейрута это, скорее, характерно.
Фото 4. Храм Святого Георгия в Бейруте, На заднем плане видна расположенная рядом с храмом мечеть Омара
Необычность старого Бейрута ещё и в том, что он стоит на руинах древних поселений.Мы привыкли, что города растут в высоту за счёт небоскрёбов. Но тысячелетиями этот процесс шёл куда более естественным путём. Слой за слоем. Как в Бейруте. Под землёй, буквально под храмом Святого Георгия, под ногами прихожан и посетителей, расположен музей, который даёт представление, сколько и каких культурных слоёв расположено здесь друг над другом. Внутри храма, перед алтарём, лежит ковер, под которым скрывается стеклянный пол. По рабочим дням, осторожно загнув уголок этого ковра, а затем, немного приглядевшись и привыкнув к царящему внутри полумраку, можно прямо из храма понаблюдать за работой археологов и ведущимися ими раскопками на территории музея. Ну а так, чтобы посетить музей обычным порядком, необходимо обойти храм влево от его входа и найти спуск на цокольный этаж. Вход в музей платный, а экспозиция небольшая. Разве что культурные слои там продолжены стендами, на которых подробно расписаны события каждой эпохи. Информации на стендах много и поэтому её никто не читает. Куда интереснее следить за работой музея из храма, доступ в который совершенно бесплатен. А история буквально лежит у вас под ногами. Как своеобразное продолжение экспозиции подземного музея воспринимаются сохранившиеся рядом с собором римские колонны.
Вторая особенность этого и многих других православных храмов Ливана в том, что служба в них ведётся на арабском языке. И надо признать, поющий на арабском клир звучит завораживающе красиво. Сомневаетесь в реальности описанной картинки? Зря. Здесь и не такое увидишь и услышишь. Как, к примеру, вы бы отнеслись к Библии на арабском языке? А, между прочим, в этой ипостаси она появилась гораздо раньше, чем на кириллице.
Фото 5. Библия на арабском
От солирующего на арабском православного хора, майор вполне логично перешёл к расположенной рядом с собором мечети Омара. Названное именем праведного халифа Омара Бен Хаттафа, старейшее в Бейруте здание — Великая мечеть Омара — не всегда было мечетью. Изначально это — римский храм Юпитера, потом византийцы перестроили его в свой храм. В 1187 году султан эд-Дин повелел переделать здание в мечеть, но в 1197 году крестоносцы вновь изменили его профиль, сделав на этот раз католическим храмом. Мусульмане получили здание обратно почти через сто лет, в 1291 году. Его названия, уже как мечети, тоже несколько раз менялись, от Фарух аль-Ислам («Победа Ислама», а точнее — победа армии первых халифов над крестоносцами), до мечети пророка Ехьи (то есть, Иоанна Крестителя).
Ещё одна достопримечательность Площади Звезды — дворец Гран Сарай, когда-то бывший резиденцией османских наместников. После обретения страной независимости, здание превратилось в Дом правительства (в настоящее время — резиденция премьер-министра Ливана). Тут же расположена и Национальная Ассамблея — законодательный орган Ливанской республики.
Когда автобус покинул столь именитую площадь со всеми её красотами и достопримечательностями, майор обратил внимание невольных экскурсантов на бейрутский археологический парк, где можно воочию лицезреть ископаемые римские бани.
— Откуда вы всё это знаете? — не выдержал майор-советник.
— Я здесь уже был.
— Когда? — удивился лётный капитан.
— Это не важно, — ответил Феник и отвернулся.
Справки:
[1] Бейрут — название города происходит от одной из транскрипций финикийского «берит», что означает — родник, колодец. Меж тем, сам город появился гораздо раньше его нынешнего названия. Первое упоминание этого мегаполиса можно найти в древнеегипетском Телль-эль-Амарнском архиве, датируемом XV веком до нашей эры. С тех пор город был заселён непрерывно. Сколько в нём жителей — неизвестно, с 1932 года в Бейруте не проводилась перепись населения.
Раскопки показывают — первые люди на территории Бейрута стали селиться ещё во времена палеолита. При финикийцах (уже называясь Берит) город ещё ничем не выделялся, находясь в тени соседних Библоса, Тира и Сидона, но вскоре история местных городов была пришпорена и понеслась вскачь. Да… Если бы в дела Ближнего Востока не вмешивались пришлые персонажи — это была бы славная, хотя и сравнительно спокойная история… Но разве можно оставить в покое тех, на чьей земле растут пряности, а под ногами плещется нефть?
Мало какой город претерпел столько разрушений. До основания столица Ливана была разрушена, как минимум, семь раз. Стоит ли удивляться, что начали это славное дело известные мастера разрушать и отстраивать заново — римляне?
В 64 году до нашей эры Бейрут захватили войска Помпея. Через неполную сотню лет город оправился и римское владычество пошло ему во благо. Через какие-то двести пятьдесят лет, во II веке, император Септимий Севр основал в нём школу римского права. За сто лет она стала крупнейшей в империи. Именно в ней был составлен знаменитый Кодекс Юстиниана — свод законов и императорских распоряжений, принятый в 534 году византийским императором Юстинианом (Justinianus, около 485-565), и поныне лежащим в основе так называемого «континентального права», являющегося одним из краеугольных камней современной правовой системы Европы.
Потом город был завоеван арабами, находился под властью многих династий и, в конце концов, перешёл к Османской империи. И те, и другое не преминули его разрушить.
Ну а потом всё смешалось и теперь во всём этом без бутылки арака не разобраться. От римского владычества Ливану остались живописные развалины, от арабского — ислам, от османского — земельное и имущественное право.
[2] Ливан — от слова «Левант», означает «Восток». Это древнее общее название стран восточной части Средиземного моря, поскольку в доарабские времена, во времена Византии, весь этот регион так и назывался — «Восток» (по другому «Анатолия»). Более того, термин «Восток» фигурирует в титуле Антоихийского греко-православного Патриарха. Сама же страна и её столица — чуть ли не антиподы, настолько разительно они отличаются друг от друга. Ливан — бедное государство, живущее за счёт туризма и своей столицы. Бейрут же — самобытный и самодостаточный процветающий город. Население страны — чуть более 3,6 млн. человек, и треть из них живет в столице. На гербе Ливана и на его флаге красуется ливанский кедр, из прочной древесины которого когда-то строились чуть ли не все средиземноморские корабли. Что ещё… Долгие годы СССР поддерживал Ливан как стратегического партнера в борьбе против Израиля, и многие ливанцы учились в нашей стране. Сейчас они большей частью работают в быстро растущей сфере туризма.
[3] Корниш (от франц. corniche)— карниз, горная дорога.
[4] Оливки и маслины — это плоды одного и того же оливкового дерева (маслины культурной). Их цвет зависит от степени зрелости и времени сбора урожая. Загляните в словарь Ожегова. Никакой смысловой разницы между оливкой и маслиной в нём не приводится. Да её, собственно, и нет: просто олива — слово заимствованное, а маслина — русское.
[5] Фархад и Ширин — героико-романтическая поэмаклассика персидской поэзии Алишера Навои (1441-1501 гг.). Поэмы и пьесы с аналогичным названием и схожим сюжетом написаны едва ли не дюжиной восточных авторов.
[6] Президент Сирии Хафез Асад проходил военную подготовку в СССР — на Центральных курсах по подготовке и усовершенствованию авиационных кадров (5-е ЦК ПУАК), а потом стажировался как лётчик-истребитель на авиабазе Кант, Киргизской ССР.
[7] Речь о Русско-турецкой войне 1768-74 годов.
[8] Операция «Дугман-5» (ивр. #1491;#1493;#1490;#1502;#1503; 5 ) — операция, проведённая ВВС Израиля во второй день Войны Судного дня. Цель — уничтожение сирийской системы ПВО вдоль Голанских высот и со стороны Ливана. В налёте было задействовано более 100 самолётов, вооружённых кассетными бомбами и ракетами. Из-за отсутствия обновлённых разведданных и поспешности планирования, операция провалилась — израильтяне потеряли 6 самолётов, ещё 6 было повреждено, при этом был уничтожен лишь один сирийский зенитно-ракетный комплекс и повреждён ещё один. В целом этот день для ВВС Израиля сложился на редкость неудачно: всего, по некоторым данным, 07.10.1973 г. на сирийском фронте было сбито 43 израильских самолёта.
[9] Конфессии Бейрута. Ливан — это страна с крайне запутанным делением по религиозному признаку. Основных конфессий две: христианство (46%) и ислам(54%), но в каждой из них есть свои направления, последователи которых нередко настроены друг против друга. Ливанские христианепринадлежат к маронитам (местная ливанская церковь, признавшая главенство Папы Римского в 1445 году); католикам; православным и отделившимся от них несторианам; халдеям; яковитам; приверженцам Армянской церкви; американским протестантам. Кроме того, в Бейруте существует негласное разделение на исламский Западный Бейрут, населенный суннитами, шиитами, друзами и палестинскими беженцами, и на христианскую восточную части города, где компактно проживают маронитская, православная, армянская и католическая общины.
300 000 тысяч граждан Ливана принадлежат к его греко-православной общине, что составляет приблизительно 9% от его населения. Среди мусульман наиболее многочисленны сунниты, шииты и друзы.
[10] Джон Донн(англ.John Donne;1572—1631)—английский поэти проповедник, настоятельлондонскогособора Святого Павла, крупнейший представитель литературы английскогобарокко(«метафизическая школа»). Автор ряда любовных стихов,элегий,сонетов,эпиграмм, а также религиозных проповедей. С переводов Донна на русский язык начал свою литературную карьеру нобелевский лауреатИосиф Бродский.
Широко известны строки Джона Донна из его стихотворения «По ком звонит колокол» (Whom theBellTolls): «…смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством,
а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол; он звонит и по Тебе». Выражение стало популярным после выхода в свет романа «По ком звонит колокол» (1940) американского писателя Эрнеста Хемингуэя (1899—1961).
[10] Храм Святого Георгия в Бейруте— современное здание собора было выстроено в 1772 году в характерном византийском стиле. Его центральный портал украшен изящной аркадой, а интерьер расписан многоцветными фресками начала XX века. Наиболее интересной деталью внутреннего убранства храма является резной иконостас восемнадцатого века, высота которого составляет восемь метров.
Литература:
1.Потери авиаперсонала ВВС Израиля в Войне Судного дня. Аналитическая справка.
http://www.waronline.org/IDF/Articles/history/yom-kippur-war/iaf-airmen-losses
2.Анатолий Сергиевский. ВВС в войне "Судного Дня" http://old.vko.ru/article.asp?pr_sign=archive.2006.28.07
3. Фильм «Начало Войны судного дня 1973 года». https://youtu.be/Z6x3fdyLKmU
4. Друзья и враги за Кавказским хребтом / Чичкин А.А. — М.: Вече, 2013. — 288 с.: ил. — (Военный архив)
5. ШЛА БЫ ТЫ… Заметки о национальной идее / Евгений Сатановский. — Москва: Издательство «Э», 2016. — 512 с. — (Актуальная тема)





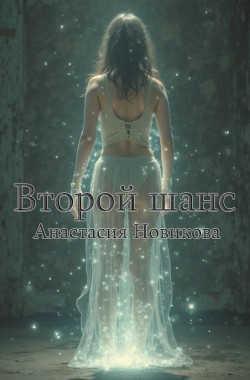

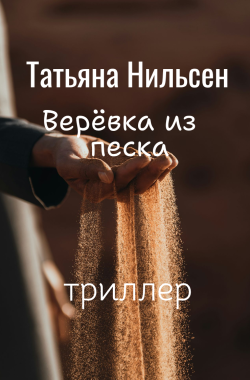



 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что


Комментарии отсутствуют
К сожалению, пока ещё никто не написал ни одного комментария. Будьте первым!