
Ничего нет
К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено.
популярных книг!
-
По жанрам
Жанры
-
По тегам и меткам
Теги
-
По персонажам
Персонажи
- Авантюристы
- Авторские расы
- Вампиры
- Ведьмы
- Гномы
- Добрый волшебник
- Драконы
- Животные
- Злой волшебник
- Зомби
- Исторические личности
- Киборги
- Клирики
- Клоны
- Книжные герои
- Люди
- Маги
- Мифические животные
- Мифические существа
- Мутанты
- Нечистая сила
- Оборотни
- Орки
- Пираты
- Последний герой
- Призраки
- Принцессы
- Пришельцы
- Прогрессор
- Роботы
- Рыцари
- Спаситель
- Старший Брат
- Супергерой
- Существа из прошлого
- Темный властелин
- Чужие
- Шпионы
- Эльфы
ЗАПИСКИ КОРЕННОГО ТБИЛИСЦА(продолжение)
ДРУЖИЛИ – И ВСЁ!
Сколько уже лет прошло с тех пор, как ушло поколение дяди Арто, унесшее с собой многое, чем отличался седой Тифлис. Но неужели старые традиции полностью изжили себя?
Мой приятель, сын известного грузинского поэта Заза Лебанидзе, с которым я вырос в одном дворе, ныне уже палеонтолог с высокой научной степенью, поныне сохранивший в себе юношескую горячность, как-то раз накинулся на меня с упреком:
- Небось, Гоге Иванову одалживаешь послушать джазовые кассеты, диски, а мне ни разу не предложил!..
Мне никогда в жизни не приходилось слышать такого сочетания имени и фамилии, и от неожиданности я даже растерялся.
- Какому Гоге Иванову?! – искренне удивился я – Такого не знаю!
- Как так «не знаешь»?! – мигом вспыхнул Заза. – Не знаешь Гогу Иванова?
- Ей-Богу, не знаю!
Теперь уж у Зазы поднялись от удивления брови:
- Так ты утверждаешь, что не знаком с Гогой Ивановым? С тем Гогой Ивановым, который всякий раз тебя упоминает, когда у нас заходит речь о музыке!?
- Меня упоминает?! – опешил я. – Ты хоть скажи, что именно, какую запись я одалживал ему хоть когда-нибудь? – так и не смог я взять в толк, о ком ведет Заза речь.
- Запись биг-бэнда… – запнулся он, забыв название оркестра, но через несколько секунд наставил на меня палец и, сощурив глаз и побаговев, спросил тоном злого следователя:
- Признайся честно, или и это станешь отрицать? Ты ведь был недавно на концерте приезжего музыканта!
Я стал лихорадочно перебирать в памяти свои последние культурные вылазки:
– Ты наверно имеешь в виду приезжего дирижера?
- Возможно, да… Дирижера…
- Такое было! Концерт дирижера из Прибалтики. Его фамилия Саул! Он продирижировал оркестром Джано Кахидзе. Исполнили «променад»-программу: разные фокстроты, марши, вальсы… Я получил огромное удовольствие.
- Такс-с-с!.. – Заза довольно потер руки, продолжая сверлить меня взглядом. – А кто сидел рядом с тобой в зале?!
- Аааа!.. - сразу вспомнил я, о ком идет речь!
Гоги!.. Мой старый знакомый Гоги, которого я знаю уже лет сорок, еще со студенческих лет, со времен первого в Тбилиси молодежного джаз-клуба «Мерани», что открылся под тогда недавно построенным мостом имени Бараташвили.
Хорошо помню, как Гоги впервые пришел туда вместе со своим приятелем Валерой Джорбенадзе – таким же, как и он, сам славным парнем. Оба они были из Дигомского массива и являли собой истинно тбилисских, довольно продвинутых интеллигентных парней. И как было горестно, когда разнеслась весть, что он погиб от тока высокого напряжения, когда взялся исправить какую-то неполадку в служебном помещении джаз-клуба, который скоро и сам приказал долго жить. Тогда, сразу после событий в Чехословакии 1968 года наши идеологи зажали гайки, и уже и каких таких публичных джазовых импровизациях могла уже идти речь?!
Мы обычно встречаемся с Гоги на каких-то концертах или выставках… говорим о музыке, об искусстве. В прежние годы нередко видел его в городе с фотоаппаратом в руках. У него было хобби снимать на пленку лепнину старых городских зданий. Каждый раз он с гордостью сообщал, что его коллекция все увеличивается и уже насчитывает, наверно, около тысячи снимков. И по-прежнему мы заводим с ним на улице беседы о джазе, о разных городских культурных событиях… Но я никогда и понятия не имел, что в университетских кругах он всем известен как Гога Иванов.
Спустя еще какое-то время после того как Заза раскрыл мне эту подробность, я встретил Гоги на какой-то выставке, и лишь тогда спросил у него фамилию его погибшего друга Валеры. Она оказалась Джорбенадзе.
БЕРИ ЛОЖКУ, БЕРИ ХЛЕБ!..
Когда мои родители в очередной раз вознамерились послать меня во время летних школьных каникул отдыхать в один из пригородных детских санаториев, я взбунтовался: «Хочу в пионерский лагерь!» Такое желание у меня зародилось довольно рано, когда наша семья еще ездила на дачу в Коджори, где располагались коттеджи Тбилисского авиационного завода, на котором мой отец работал начальником жилищно-коммунального отдела. Ну, могло ли не захотеться мальчику окунуться в романтику жизни пионерлагеря, когда откуда-то из-за леса до его ушей по нескольку раз в день доходили разные сигналы задорного пионерского горна. Когда звучало: «Тру-ту ту-ту, тру-ту-ту!..» я уже знал по объяснению сведущих, что это призыв: «Бери ложку, бери хлеб, и садися за обед!» Или: «Тру, тру, тру-ту-ту!» вместе с барабанной дробью – сбор, «Ту-туру-ру-ту, туру-ту!..» - на линейку становись!»…
И вот моя давнишнее желание – хоть раз попасть в пионерлагерь – наконец было услышано моими родителями, для которых слово «санаторий» было куда приятнее чем «лагерь», видно, вызывавшее у их поколения совсем иные ассоциации! После долгих колебаний отец уступил мне и принес-таки путевку в чудесное горное курортное местечко Джава, неподалеку от Цхинвали. Там мои ожидания оправдались уж хотя бы тем, что дни проходили не так бесцельно. Пионервожатые вовсю старались наполнить наше пребывание особым смыслом. Основательно готовили к знаменательным датам, к походу к какой-нибудь развалине старинной крепости, к спортивным соревнованиям. Мне особенно запомнился пионервожатый, товарищ Шурик, – высокий крупный мужчина в берете и с бородой а ля Фидель Кастро. Под его руководством мы с энтузиазмом репетировали разные номера к дню 26 июля – празднику Кубинской революции, учили бравурный марш: «Бандера росса, полярис тосса - триум вера!..» А главное, коллективно составляли поздравительное письмо самому коммандосу Фиделю.
Но все это было бы воспринято мною гораздо бесцветнее, если б не духовой оркестр, придававший нашей лагерной жизни праздничную обстановку. Музыканты, в основном сололакские ребята, многие из них – ученики 66-й школы, пользовались в лагере особым почетом и уважением. И если большинство пионерских отрядов располагалось в больших брезентовых палатках, то наша «творческая интеллигенция» жила автономно, в отдельном домике на отшибе, и чувствовала там себя весьма вольготно. Руководил оркестром известный в городе маэстро Чичинадзе. Он часто уезжал по делам в Тбилиси и вместо него в оркестре верховодил трубач по имени Альберт, возрастом постарше всех остальных музыкантов. Он умело поддерживал дисциплину. Строгая, почти армейская дедовщина соблюдалась неукоснительно. «Авторитетами» в оркестре были не только старшие по возрасту, но и все первые голоса. Пренебрегая общением с нами - их «фанами», обычными пионерами из отрядов, они деловито репетировали в беседке, рядом со своим общежитием, не бросая и взгляда на нас, проникновенно вслушивавшихся в завораживающе-торжественные звуки медных труб и кларнетов. исполнявших главные мелодические партии. А когда вступал еще и баритон с его бархатным тембром и придавал мелодии дополнительные оттенки, а ему, совместно с тенорами, поддакивали альтушки: «И-та, ис-та, ис-та-гда-тта!», и в нижних нотах, в основе всего этого движущегося звукового построения, в такт с грохочущим барабаном и звонкими тарелками, солидно шествовал бас, лично у меня пробегали по телу мурашки … В отличие от «стариков», музыканты рангом пониже поддерживали с нами, «обычными пионерами», самые добрые отношения. Одного из них звали Рафик. Он играл на трубе первую партию и не зазнавался. И даже позволял подуть в его инструмент, но только без мундштука, который, как известно, посторонним позволять прикладывать к губам не положено.
РАФИК
Судьба вновь свела меня с ним, когда поступил в Грузинский политехнический институт. В одной группе со мной оказался Вова Грядунов, который учился еще и в Тбилисском первом музучилище, в то время располагавшемся на улице Энгельса. Выяснилось, что у Вовы и Рафика один и тот же педагог, Отар Кутателадзе (которого за спиной почему-то звали Костой, а спустя годы я узнал, что по паспорту он Александр). Так и возобновилась наша дружба с Рафиком. Кстати сказать, по их примеру я и сам поступил в музучилище, только, во второе – что было на проспекте Плеханова, прямо напротив моего дома. Я был принят туда на ударные инструменты благодаря директору Эдуарду Савицкому, светлая ему память. На приемном экзамене он проверил всего только мой музыкальный слух и ритм и поверил моему честному слову, что я когда-то ходил на фортепьяно в музыкальную школу и бросил после четвертого класса, не поладив с въедливой учительницей. Она гениально сумела привить мне отвращение к игре на фо-но. Но об этом разговор отдельный, скажем, то и дело требовала брать пример от ее старательных учениц, с показным старанием, тошнотворно, опускавших и поднимавших над клавиатурой скругленные кисти…
Как-то раз, после затянувшихся лекций в институте, мы с Вовой развеивались прогулкой по проспекту Руставели. Вова вдруг вспомнил, что накануне Рафик говорил о предстоящем в их в семье застолье. Вову всегда там встречают с теплотой, и что случится такого, если мы пожалуем туда вдвоем?! «Пойдем непременно!» – не колеблясь, сказал я, тут же почувствовав, как у меня засосало под ложечкой, и что охотно отведал бы у них армянской долмы в виноградных листьях.
Мы на всех парусах помчались в старейшую часть города, куда-то возле Хлебной площади. Вова уверенно завел меня в какой-то тесный дворик. Дверь нам открыла кто-то из Рафикиных родственниц и радостно крикнула в глубь квартиры: «А вот и Вова пришел с товарищем!». Впустив нас, в переднюю, тотчас освободила место на переполненной вешалке, предлагая снять пальто. Расстегиваясь, мне бросилось в глаза ярко сиявшая в гостиной громадная хрустальная люстра. Под ней, на накрытом длинном столе почему-то горели толстые стеариновые свечи в высоких шандалах. «Им что, освещения не хватает?» – удивленно подумал я. Я успел заметить и то, что у мужчины в пировавшей компании сидели в головных уборах: в фуражке, кепке, меховой шапке… На улице стоял ноябрь, люди уже ходили в зимней одежде, но мы с Вовой, как и большинство тогдашней молодежи, ходили с непокрытыми головами. «Что там происходит, – метнул я растерянный взгляд на Вову, – а как быть нам?!..». Он и сам замешкался. Мы медлили. Я вынул расческу и, не спеша приводя в порядок тогда существовавшую густую шевелюру, громко спросил у все еще улыбавшейся нам женщины:
- А где наш друг, Рафик?
- Он в подвале, разливает вино… А вы проходите в залу.
- Идите сюда, идите! – выкрикнул кто-то из гостиной, – Рафик сейчас придет!
Мягко подталкивая в спину, женщина подвела нас к столу, где, чуть потеснившись, нам сразу высвободили место и поставили свежие столовые приборы. Тут появился и Рафик. С двумя большими тяжелыми кувшинами, с головой, ничем не покрытой, что мигом сняло с нас неловкость. Обрадованный нашим приходом, он радушно придвигал нам разные кушанья. Однако, на обильном столе армянская долма отсутствовала. Зато были другие, тоже национальные, как оказалось, кошерные блюда. Не все на мой вкус привычные. Но, главное, приготовленные со стараньем и любовью, из самых добротных продуктов.
Когда тамада объявил перерыв, и мы вышли покурить, Рафик познакомил нас со своим братом Герценом, который намедни приехал из Перми, где учился в медицинском институте. С ним был его вроде бы однокурсник. У него на затылке, каким-то чудом удерживалась малюсенькая тюбетейка, как я позже узнал, настоящая еврейская кипа… Интересно, помнит ли сам Рафик Алелов тот наш визит спустя столько лет? Он уехал с семьей в Израиль еще в начале семидесятых, увы, уже прошлого века и никаких сведений о нем никто не имел. Единственное то, что по Тбилиси и Еревану упорно ходил слух, будто Герцена сразила на войне арабская пуля…
И только совсем недавно, ныне уже житель Нью-Йорка, Семен Крихели, беседуя со мной по скайпу, приятно опроверг этот слух. Он сообщил, что Герцен преуспевает по всему Израилю как архитектор, да еще и Семен узнал мне номер Рафикиного телефона!..
ВОВА
Что касается Вовы Грядунов, он бросил и Политех, и Тбилисскую консерваторию, став ведущим трубачом тбилисском джаз-оркестра радио и телевидения под управлением Гиви Гачечиладзе. Тот уговорил его переехать с ним в Киев, работать в тамошнем биг-бенде РТ. Вряд ли тогда нашелся бы во всем СССР трубач, который сумел бы как Вова сыграть с оркестром Гиви Гачечиладзе знаменитую сюиту «Оле» на испанскую тему прославленного американца Мейнарда Фергюсона, которого всячески копировал... Такие трубачи – вообще редкость, способные играть в таком высоком регистре и брать аж ноту «до» четвертой октавы. Когда Гиви возвратился в Тбилиси, Вова, уже обзаведенный семьей, свалил в Америку. Говорили, главной причиной этому был его сын, у которого, после Чернобыля, появились проблемы со здоровьем. За океаном это «до» четвертой октавы оказалось никому не нужным. Он стал работать водителем-«дальнобойщиком», купил собственный дом. Потом пришла трагичная весть: с Вовой случился обширный инфаркт. Говорят, не пережил, что не углядел сына, ставшего безнадежным наркоманом.
Отар Кутателадзе по сей день хранит память о своем ученике, всякий раз приводя его в пример своим нынешним питомцам.
12.12.2004
.
Шутники с улицы Чехова
Эта тихая улочка в самом центре Авлабара впервые получила название в честь военного губернатора Тифлиса С. Тучкова. После революции 1917 года, когда улицы с именами российских царских вельмож стали переименовывать в честь идейных вдохновителей новых властей, и там сменили на домах таблички. И вот, в одном ряду с Верой Фигнер, Иваном Каляевым, Николаем Кибальчича, Верой Засулич – организаторов покушений на генерал-губернаторов, обер-полицмейстеров, а то и на самого государя, появился Антона Павловича Чехов. Улица Тучковская получила имя этого выдающегося русского писателя. Кстати сказать, предшественники большевиков – грузинские меньшевики, тоже не отказали себе в удовольствии менять названия улиц. Первым делом они поспешили переименовать второй по значению в городе проспект имени великого князя Михаила, придав проспекту имя своего коллеги, социал-демократа Георгия Плеханова. И чему удивляться, когда уже в наше время советские названия тбилисских улиц стали получать новые, пока еще непривычные имена. И разве не забавно, что некоторые из улиц и площадей в течение меньше чем одного века сменили свои названия аж по шесть раз! Хотя, особенно удивляться не стоит – ну, как было не сбить таблички, скажем, с именем Лаврентия Берия?!
Но вернемся ко времени, когда в сознание авлабарцев – в основном армянских рабочих и ремесленников, кустарей-одиночек, мелких торговцев, и разной другой городской бедноты, большевики стали внедрять новые наименования и имена! Чем объяснить в такой среде отчаянных бомбистов-террористов присутствие скромного русского интеллигента, великого писателя? Наверно, чтоб его фон передал всем им такой же благородный оттенок?! Нынче эта улица продолжает носить имя Чехова, и благо, что ее жители имеют о нем четкое представление. Зато и семидесяти лет не хватило жителям улицы якобинца Марата уяснить, какой брать с него им себя пример? И кто из жителей улицы Робеспьера смог бы точно сказать, в честь которого из двух братьев, Огюста или Максимилиана, казненных термидорианцами в 1797 году, названа их улица? Вспоминается популярный тбилисский анекдот советского времени: Серожу влепили на политзанятиях двойку за то, что он не знал кто такие Маркс и Энгельс. Он обиженный буркнул преподавателю: «У вас свой, а у меня свой круг! Вы ведь тоже не знаете моих друзьях Мишика и Гришика.»
Немало таких, вот, Серожев, Мишиков и Гришиков проживало и на улице Чехова. О случае, который произошел там, когда по-соседству с ними жил другой коренной тбилисец, профессор русистики Нодар Поракишвили. Он сам рассказал мне об этом.
В те времена в городе для перевозки грузов широко пользовались не только гужевым транспортом. Запросто можно было нанять мушу, амбала – носильщика, готового понести на собственной спине поклажу чуть ли не через весь город. Я и сам помню, как один из них часто таскал фисгармонию, обслуживая некоего музыканта, игравшего на панихидах. Да что фисгармония? Говорят, знамениты авлабарский амбал Айро, беженец из Карса, был способен взвалить на себя аж даже пианино!
Как-то, летним днем, на улицу Чехова тоже завернул муша. Весь, запыхавшись и обливаясь потом, он принес цинковый ледник – такую вот, большущую лохань, в которую укладывали покойника, обложив его льдом, прежде чем переложить в обычный гроб, перед отправкой в последний путь. Подтягивая веревкой то и дело сползающий груз, носильщик приблизился к группке к бирже местных уличных завсегдатаев. Те, исчерпав обсуждение новостей политики и спорта, в который раз перемалывали косточки соседа, мясника Дарчо. Тот, оказывается, и сам перестал приглашать соседей даже на обычную пирушку, которую нередко организовывает с какими-то неизвестными им людьми. Уже в который раз его не видели – будь это свадьба или даже поминки… Неужели не понимает, что рано или поздно и перед его порогом опустится на колени печально известный верблюд? К кому же тогда ему, в первую очередь, придется обращаться за помощью, как не к соседу?!.. И когда носильщик спросил у уличной компании, куда конкретно доставить ношу, кто-то, недолго думая, и не моргнув глазом, указал прямо на дверь, где жил Дарчо: «Видишь, на первом этаже три крашеные деревянные ступеньки…Там и поставь!» Кто знает, чем бы закончился такой розыгрыш где-нибудь в других краях? Не исключено, что какой-нибудь современный европеец или американец подал бы жалобу чуть ли не в Страсбургский суд. Но на улице Чехова такая шутка завершилась всего только легким испугом носильщика от тотчас же появившегося Дарчо и закатившего семиэтажный мат из классического репертуара авлабарских кинто, разом на армянском, грузинском и русском языках. Да еще и выдал такие страшные проклятия на головы шутников, что те тотчас в страхе ретировались и весь день не появлялись на бирже. Зато какая «прекрасная» тема для веселых воспоминаний – на много лет вперед!
А когда, в конце концов, и у порога мясника Дарчо опустился тот самый верблюд, унесший его туда, откуда обычные смертные не возвращаются, то общепринятая местная традиция приглашать на поминки всех, кто пришел пособолезновать, нарушена не была. Наследники предусмотрели дополнительный стол, за которым уместилась вся уличная биржа. Там все тосты тамады, не только в честь покойного, но и тех родственников, что встретят его на том свете, и здравствующих близких, пились исключительно стоя.
15.07.2006
Комментарии

Успей купить!
А вы верите в жизнь после смерти? Вот и я не вверила, а она есть! Но второй шанс дается не каждому. Мне повезло начать все сначала.Легкая сказка на вечер))) (Эту книгу я написала очень давно одной из первых, поэтому в ней будет немного корявый слог)))
Сибирь вымерла. Но кошмар — жив.Алексей, Влад, Света, Гриша и Катя выжили в аду первых дней катастрофы, найдя временное убежище в бункере «Рассвет». Но затишье оказалось иллюзией.Тени, что скрывались во мраке, изменились. Они стали тише. Умнее. Холоднее. Теперь они охотятся не инстинктом, а расчетом, словно управляемые незримым, безжалостным разумом.Чтобы выжить, героям предстоит не просто сражаться. Им нужно понять врага, чей замысел скрыт за ледяной шифровкой древнего арте...
Жизнь Алисы неожиданно разделилась на до и после! Она имела стабильную работу, сына, собачку и безоблачное будущее! Страшные и необъяснимые события начали происходить после того, как она вернулась из отпуска. Кто-то проникает в квартиру и жестоко убивает собаку. От страха за жизнь маленького сына, она отправляет его к своей матери в деревню, а сама обращается к частному детективу, для того, чтобы с его помощью разобраться в том, что происходит!



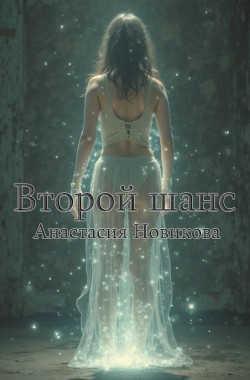

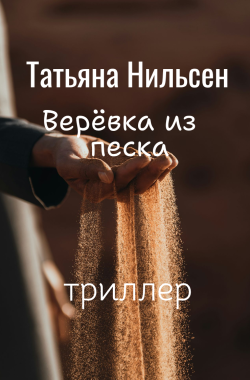



 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что


Комментарии отсутствуют
К сожалению, пока ещё никто не написал ни одного комментария. Будьте первым!