Ничего нет
К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено.
Гераклит
Учение
«Тёмный» или «светлый»?
Влияния
Не мне, но логосу внемля...
Вечно живой огонь
Огонь и душа
Многие — плохи, немногие — хороши
Этика, эстетика
Немыслимо вне времени
По какой бы дороге ты ни шел, не найдешь границ души, настолько глубока ее основа.
Гераклит
— Тише, — сказал я душе, — пусть тьма снизойдет на тебя.
Элиот
Безрассудны и жалки, я думаю, те,
Кто продлить хочет жизнь свыше меры.
Ибо долгая жизнь только долгая скорбь,
Каждый день умножает страданье.
А покоя ни в чем все равно не найдешь,
Если слишком ты многого хочешь.
После истины, говорил мой учитель, нет ничего прекраснее вымысла.
Великие поэты — это неудавшиеся философы.
Великие философы — это поэты, верящие в реальность своих поэм.
Великие философские метафоры бессмертны, как поэтические творения. Река Гераклита, шар Парменида, лира Пифагора, пещера Платона, голубь Канта и т. д., и т. д.
Свидетельство Диогена Лаэрция:
Был он высокоумен и надменен превыше всякого, как то явствует и из его сочинения, в котором он говорит: «Многознайство уму не научает, иначе оно научило бы и Гесиода с Пифагором, и Ксенофана с Гекатеем». Ибо есть «единая мудрость — постигать Знание, которое правит всем чрез все». Так же и Гомеру, говорил он, поделом быть выгнану с состязаний и высечену, и Архилоху тоже. Еще он говорил: «Спесь гасить нужнее, чем пожар».
Гордое одиночество Гераклита — плод его интровертности, самосозерцания, обнаружения в себе (а не вовне) вечного демона, связующего персональное со всеобщим, вечным.
Необходимым спутником [eгo] гордости была печать скромности и смирения, выраженная в словах: все знание о вещах преходящих находится в вечном потоке, как и сами эти вещи. Игрой называет Гераклит вечный мир, но он мог бы назвать его и величайшей серьезностью. Но это слово избито, благодаря применению его к земным переживаниям. Игра вечного сохраняет в человеке ту жизненную уверенность, которую отнимает у него серьезность, возникшая из преходящего.
Просьбою эфесцев дать им законы он пренебрег, ибо город был уже во власти дурного правления. Удалившись в храм Артемиды, он играл с мальчишками в бабки, а обступившим его эфесцам сказал: «Чему дивитесь, негодяи? разве не лучше так играть, чем управлять в вашем государстве?»
Возненавидев людей, он удалился и жил в горах, кормясь быльем и травами. А заболев оттого водянкою, возвратился в город и обратился к врачам с такой загадкой: могут ли они обернуть многодождье засухой? Но те не уразумели, и тогда он закопался в бычьем хлеву, теплотою навоза надеясь испарить дурную влагу. Однако и в этом не обретя облегченья, он скончался, прожив 60 лет. О нем есть такие стихи:
Часто я, часто дивился несчастной судьбе Гераклита —
Как он вытерпел жизнь, чтобы потом умереть?
Ибо злая вода налила его тело водою,
Свет угасила в очах и темноту навела.
По словам Гермиппа, он спросил врачей, могут ли они осушить ему внутренности, выведя воду. Те отказались, и тогда лег он на солнце, а рабам велел обмазать его навозом; и, лежа так, он умер на второй день и был погребен на площади. А по словам Неанфа Кизикийского, он не смог уже очиститься от навоза и, оставшись как был, сделался добычею собак, которые в этом виде его не узнали.
Сам он ставил себя выше Гесиода, Пифагора, Ксенофана и Гекатея, в одном из своих стихов прозрачно намекая на то, что все они не имели разума, ибо не придерживались его, Гераклита, учения.
Почти все, что известно о жизни и смерти потомка Кодридов, — это клеветнические издевательства ненавистников и измышления врагов. Ложь — всё: и суемудрие юноши, и отказ от трона, и анекдот о «греющемся» Гераклите, и миф о его смерти в хлеву. Нет, не ложь — месть.
Смерть Гераклита дала повод для особенно изощренных и издевательских басен. Их создатели явно хотели всячески унизить философа, помещая его в такие ситуации, в которых он волей-неволей должен был действовать или против своих убеждений или себе во вред.
Время оставило от него лишь немногие фрагменты. Почти все, что известно об этом олимпийце, мы знаем из трудов его ниспровергателей.
Если представить, что стало бы с любым из современных философов, если бы он был известен только через полемику с ним его противников, становится ясным, насколько досократики должны были быть замечательны, что даже через туман злобы, распространяемой их врагами, они кажутся все же великими.
Но разве не так поступают со всеми диссидентами во все времена? Вначале уничтожают, затем клевещут. Ибо чем меньше остается от мудреца, тем легче его придумать.
Вот я вопрошаю, что стало б с мудрецами, если бы мы судили о них по трудам ниспровергателей? А как мы совсем недавно судили о нынешних Гераклитах? Это еще благо, коль по трудам врагов — большей частью по умолчаниям, по проклятиям, по анафемам. Еретиков все же читали. С нашими дело не доходит до читки — сразу «смерть бешеным псам».
«Для души смерть — стать водою», — учил Гераклит, и ему мстят водянкой. «Влажное высыхает, и в фекалиях тоже есть боги», — и его обваливают в дерьме и укладывают на солнце. Врачи режут и жгут и причиняют страдания, требуя за это мзды, — и его вынуждают обращаться к эскулапам, но те отворачиваются от хулителя. Самолечение, конечно же, оказывается безрезультатным — теории философа бессильны его спасти. Очень тонкая месть.
Надо признать, древние умели ёрничать и издеваться, не гнушаясь ничем: ни клеветническими баснями (вспомним бедных киников), ни высоким искусством (Эпихарм, Аристофан, Лукиан), ни философскими пародиями (Лаэрций).
Излишне говорить, что приведенные (как почти и все прочие) легенды о Гераклите лишены какого бы то ни было исторического основания. Они сфабрикованы примерно таким образом: известно, что Гераклит резко отзывался о большинстве людей, сограждан, предшественниках и современниках; он бичевал тягу многих людей к плотским наслаждениям. Следовательно, будучи в разладе со всем миром, Гераклит возненавидел людей; не в состоянии переносить далее окружение своих сограждан, он удалился в горы, стал вести образ жизни отшельника и питаться травой и кореньями. Согласно его учению, душа немногих лучших огненна и мудра, а большинства — влажна и глупа. Вследствие нездорового питания он заболел водянкой; вместе с тем, он знал, что «психеям смерть — стать водою». Иначе говоря, поняв, что ему грозит смертельная опасность, он вернулся в город, чтобы спросить совета у попрекаемых им врачей. Философ, оставаясь верным своему стилю, т. е. говоря загадками, обратился к врачам с вопросом о том, можно ли превратить ливень в засуху, но они не могли понять, чего он от них хочет. Тогда Гераклит, исходя из тезиса, что «влажное высыхает», изобрел собственный способ лечения: забравшись в хлев, он зарылся в навозе (по другой версии, облепил себя навозом), надеясь, что теплый навоз спасет его. Однако его надежды не оправдались, и он умер. Фигурирующие в другой версии легенды собаки могли быть заимствованы из фрагмента Гераклита, согласно которому «собаки лают на тех, кого они не знают», а навоз — из фрагмента «трупы следует выбрасывать скорее, чем навоз».
Современные исследователи выяснили, что собранные Аполлодором и Лаэрцием побасенки и анекдоты об Эфесце вполне отвечают античным представлениям о юродивости мудрецов, а также о соответствии их поведения и образа жизни собственным учениям (хотя почти вся философия свидетельствует об обратном). Именно древние представления о гении как человеке не от мира сего породили великую книгу Диогена Лаэртского, представляющую собой сводку остроумных и забавных происшествий, как нельзя более оживляющих и очеловечивающих древних учителей человечества.
Что есть правда в легенде о Гераклите? Его одиночество. Его жажда созерцательной жизни. Он — отшельник, непонятый одиночка, аскет, схимник. «Таким, полуодетым, обросшим и нечесаным, но в то же время преисполненным духовной силы, предстает он перед нами на гортинской статуе».
Еще — его темнота. Как затем Мифотворец, Эфесец афористичен и парадоксален. Среди его фрагментов в одном ряду с крылатыми фразами стоят темные, полные эзотерического смысла изречения. По свидетельству того же Диогена Лаэрция, Сократ, прочитав Эфесца, сказал: «То, что я понял, превосходно. Думаю, что таково же и то, чего я не понял».
Не торопись дочитать до конца Гераклита-эфесца —
Книга его — это путь, трудный для пешей стопы,
Мрак беспросветный и тьма. Но если тебя посвященный
Вводит на эту тропу — солнца светлее она.
Или:
Я — Гераклит. Что вы мне не даете покоя, невежды?
Я не для вас, а для тех, кто понимает меня.
Еще — молчаливость. Когда его спросили, почему он молчит, он ответил: «Чтобы вы болтали».
Еще — его презрение к роскоши. Повздорили как-то эфесцы из-за денег. Придя на собрание, Гераклит залил водою ячменную муку в кубке и выпил кикеон, показывая, что нужно стремиться к умению довольствоваться своим.
Еще — амбивалентность: то он полон вольтеровской желчи, то по-христиански смиренен.
Гераклит Дарию, сыну Гистаспа, здравия желает.
Люди попирают и истину, и правосудие. Ими движет непрестанно ненасытное желание богатства и славы. А я, я всячески избегаю гордости, зависти, суетной заботливости, спутницы величия; я отказываюсь быть при дворе Сузы; умею довольствоваться малым, и этим малым располагаю, как хочу.
Гераклит родился в малоазийском Эфесе в середине или последней трети VI века до Р. Х. и умер между 484 – 475 годами. Его отца звали то ли Блосоном, то ли Гераконтом, и он принадлежал к царскому роду, восходящему к основателю Эфеса басилевсу Андроклу, сыну афинского царя Кодра. Согласно легенде, Гераклит уступил царский титул (либо право первородства) своему брату, удалившись в храм (уйдя в схиму). Мотивы отказа неясны: то ли это был протест против восторжествовавшей в Эфесе демократии, то ли, наоборот, таким образом он пожелал «влиться, на равных правах с прочими «лучшими» гражданами, в гущу политических событий».
Видимо, его влияние в полисе было достаточно велико: если даже версия о сложении власти тираном Меланкомом по совету Гераклита неверна, не вызывает сомнения активное участие Эфесца в политике, его поддержка Гермодора и предостережения против несвоевременной борьбы с могущественной Персией.
Все попытки установить роль Гермодора в истории Эфеса и причины его изгнания пока не дали никаких результатов; и мы в сущности не располагаем никакой заслуживающей доверия информацией, кроме той, которая идет от самого Гераклита: «Следовало бы всем взрослым эфесцам удавиться и оставить город подросткам, ибо они изгнали Гермодора, мужа меж них наиполезнейшего, сказав: «Пусть не будет среди нас ни один наиполезнейшим, а если такой найдется, да будет он на чужбине и с чужими».
В поисках ответа на вопрос о причинах изгнания Гермодора (вероятно, посредством остракизма) ряд исследователей (например, Маркович) предполагает, что Гермодор, возможно, претендовал на единоличное правление, о чем с некоторой долей уверенности можно заключить из демократически звучащей мотивировки изгнания: «пусть не будет среди нас ни один наиполезнейшим» (то есть пусть ни один из граждан не будет единоличным правителем, даже если он пользуется наибольшим влиянием и в этом смысле является «наиполезнейшим»). В этой связи исследователи обращают внимание на высказывания Гераклита, в большинстве случаев одобряющие единоличную форму правления. Как бы там ни было, само изгнание Гермодора могло произойти в условиях демократии.
Видимо, нелады Эфесца со своими согражданами не ограничились разногласиями из-за изгнания Гермодора, свидетельством чему являются его часто повторяющиеся обличения народа в разнообразных пороках, а также отказ составить законы из-за нежелания поддерживать «дурное правление». Видимо, неудачи на политическом поприще, а также личные обиды вынудили темного во всех отношениях мудреца уйти с политической арены и отказаться от участия в государственных делах.
Даже враги не могли отказать ему если не в политической, то в жизненной мудрости. Выражение «я знаю только то, что ничего не знаю», приписываемое зрелому Сократу, на самом деле принадлежит юному Гераклиту. Правда, повзрослев, он скажет, что знает всё, а другие не знают ничего.
Гераклит-бичующий — вот еще один облик человека: плачущего.
Демокрит и Гераклит — два философа, из которых первый, считая судьбу человека ничтожной и смешной, появлялся на людях не иначе как с насмешливым и смеющимся лицом.
Гераклит же, у которого тот же удел человеческий вызывал жалость и сострадание, постоянно ходил с печальным лицом и полными слез глазами.
Настроение первого мне нравится больше, не потому, что смеяться приятнее, чем плакать, а потому, что в нем больше презрения к людям, и оно сильнее осуждает нас, чем настроение второго; а мне кажется, что нет такого презрения, которого мы бы не заслуживали.
Хотя Монтень ста страницами ранее утверждает, что мы смеемся и плачем от одного и того же, его комментарий к «двум философам» свидетельствует о поверхностном знании текстов, в частности, нижеследующего, приписываемого Гераклиту:
О, люди, а вы не хотите узнать, почему я никогда не смеюсь? Не из ненависти к людям, а из ненависти к их порочности... Вы дивитесь тому, что я все еще не смеюсь, я же дивлюсь смеющимся, которые, творя беззакония, радуются этому.
К сожалению, история чего бы то ни было — даже одного человека, даже многотомная — всегда слишком легковесна. Чего ей не хватает? Самого этого человека! Его полноты, его глубины. Мои истории — перышки, пушинки. Да и как углубиться в недра, пред которыми недра звезд — простота?.. Мало знаний, мало любопытства, мало фантазии, дабы постичь «темноту» Гераклита, Эмпедокла, Плотина. Нужно стать ими, узреть их глазами, пережить их чувствами, выстрадать их болью. Но как, когда они — прах?..
Подвижность его сознания роднит Эфесца с философами жизни — Паскалем, Бергсоном, Тейяром де Шарденом. Ни великий Платон, ни энциклопедичный Аристотель не обладали той живой многозначностью или полнотой жизни, из которых затем вырос плюрализм. Ни у одного мыслителя — ни до ни после Гераклита — нет столь органичного единства образа и понятия, интуиции и умозрения, мифа и логоса.
И если верна мысль, высказываемая учеными вслед за М. М. Бахтиным, согласно которой в наши дни назрела потребность замены категории точности категорией глубины проникновения, то с уверенностью можно сказать, что Гераклит Эфесский является одним из таких философов прошлого, «диалог» с которым не просто испытывается, но диктуется современной эпохой.
Философия Гераклита тождественна мистике: его невозможно понять вне древнегреческих мистерий, «тайных учений», глубинного внутреннего света. Этого не может скрыть даже предельная лаконичность его максим. Не случайно уже в древности учение Эфесца характеризовали как «неприступный путь»: приближающийся к нему без посвящения увидит только «тьму и мрак», но мысли его станут «ярче солнца» в мистическом освещении. Когда говорят, что Гераклит оставил свою книгу в храме Артемиды, это значит, что она предназначена для посвященных этого храма. Само его прозвище — «тёмный» — свидетельствует о таинствах, заключенных в его учении.
С мистической точки зрения ключевая мысль Гераклита «все течет» означает призрачность видимого, уничтожение преходящих вещей. Добрая половина максим Эфеcца может быть понята как противопоставление вечного и небесного временному и земному. «Как можем мы сказать о нашей повседневной жизни: «мы существуем», когда мы знаем, с точки зрения вечного, что мы «существуем и не существуем».
Гневные филиппики Тёмного философа в адрес древних «физиков» тоже легко понять в устах миста: исследовать законы движения преходящих вещей — пустая трата энергии. Ведь «гармония мира обращена внутрь себя» — искать ее вне себя недостойно мыслителя. Афоризм «Бессмертные смертны, смертные бессмертны, живя их смертью, их жизнью умирая» может быть понят лишь в применении к высшему, духовному миру.
У Гераклита нет понятия первородного греха, но звездному мыслителю ясно: отвращаясь от вечного и духовного в пользу временного и телесного, человек утрачивает высшую ценность, превращает Бога в гробницу.
Глубокой мистикой пропитано и гераклитовское понятие пламени, огня. Огонь — это всепорождающий дух, от которого все происходит, который живет в небе и душах — людей. «Та сила, которая физическим образом действует в огне, на высшей своей ступени живет в душе человека; в своем тигле она расплавляет чувственное познание и производит из него созерцание вечного».
Гераклит легко может быть понят превратно. Он объявляет вражду отцом вещей. Но она является для него отцом именно только «вещей», но не вечного. Если бы в мире не было противоположностей, если бы в нем не жили наиболее разные и противоречащие друг другу стремления, то мир возникновения, мир преходящего не мог бы существовать. Но то, что открывается в этой вражде, то, что разлито в ней, это не война, а — гармония. Именно потому, что во всех вещах заключается вражда, дух мудреца должен, как пламя, возноситься над ними и претворять их в гармонию. В этом пункте вспыхивает великая мысль Гераклитовой мудрости. Что есть человек как существо личное? Гераклит находит ответ на этот вопрос, исходя именно из этой мысли. Человек смешан из враждующих стихий, в которые излилось божество. Таким находит он себя. Так узнает он в себе духа, того духа, который исходит из вечного. Но сам этот дух рождается для человека из вражды стихий, и он же должен примирить их. В человеке природа творит нечто выше себя. Это та же всеединая сила, которая вызвала вражду и смешение и теперь мудро должна устранить эту вражду. Здесь мы имеем вечную двойственность, живущую в человеке, вечную противоположность между временным и вечным. Благодаря вечному он стал чем-то вполне определенным; и вот, исходя из этой определенности, он должен начать творить нечто высшее. Он одновременно и зависим, и независим. Он может стать причастным вечному духу, созерцаемому им, лишь в меру того смешения, которое произведено в нем этим духом. И именно потому он призван из временного слагать вечное. Дух действует в человеке. Но он действует в нем особенным образом. Он действует, исходя из временного. В этом особенность человеческой души, что временное действует в ней как вечное, побуждает и борется как вечное. Поэтому душа одновременно подобна и Богу и червю, и из-за этого человек стоит между Богом и животным. Это стремящееся и борющееся в нем есть его демоническое. Это то, что рвется наружу в нем и из него. Поразительно указал на это Гераклит: «Демон человека — судьба его». (Демон имеется здесь в виду в греческом смысле. В современном смысле следовало бы говорить: дух). «Таким образом, то, что живет в человеке, простирается для Гераклита далеко за пределы личного. Личное — носитель демонического, того демонического, которое не замкнуто в границах личности, для которого смерть и рождение личного не имеют значения.
В мистике Гераклита уже наличествует идея перевоплощения, более того — личный опыт его; персональный демон — это душа, прошедшая через горнило духовной переплавки, «коллективного сознания»:
Потому что над моим демоном уже работали другие. И что выйдет из моей работы над демоном, если я не должен считать, что его задачи исчерпываются моей личностью? Я работаю для личности грядущей. Между мною и мировым единством становится нечто такое, что возвышается надо мной, но еще не есть божество. Это — мой демон. Как мой сегодняшний день есть лишь результат вчерашнего и мой завтрашний день будет результатом сегодняшнего, так и жизнь моя есть следствие другой жизни и будет основанием для следующей. Подобно тому как земной человек смотрит назад на длинный ряд вчерашних дней, и вперед — на длинный ряд завтрашних, так смотрит душа мудрого на многочисленные жизни прошлого и будущего.
Подобно тому как наше тело — результат длительной материальной эволюции, наша душа — плод долгой духовной наследственности, духовного становления, понимаемых древними духовидцами как переход времени в вечность.
Гераклит — типичный храмовый прорицатель, оракул, визионер, последователь Дельфийского Владыки. Уже древние видели в его «темноте» не небрежность, а продуманный дидактический прием, активно воздействующий на читателя или слушателя. Туманность и многосмысленность его кратких изречений хорошо взвешена, ибо пророчество не может быть однозначно и конкретно. Главный урок жречества: сбываются не любые, а мудрые пророчества, мудрость же — «темна».
Пифагор и Гераклит синтезировали мистику и логику в единое целое, к несчастью, утерянное цивилизацией. Для того, чтобы сказать «добро и зло суть одно» или отождествить взаимоисключающие начала, надо быть вестником, ибо логика отвергает это. Чтобы из научных по своему характеру наблюдений приходить к трансценденциям, надо не бояться темноты, как ее не боялись великие логики — Аристокл, Стагирит, Аквинат. Из боязни утратить последовательность в мире можно утратить мир.
Тёмный считал полиматию, многознание, энциклопедичность поверхностным знанием, истинную же причину вещей — скрытой от человека, доступной лишь великому разуму. Но ведь и Гомер считал истиной не все то, что открывается взору. Демонстрируя поступки людей, он указывал, что истинные причины событий глубоко скрыты «в лоне бессмертных богов».
Могучему Эфесцу, шедшему собственным путем в разладе со всем миром, впервые открылись антиномии сущности и видимости, и для него, учившего, что из различий возникает совершенная гармония, противоположности эти с известной логической необходимостью гипостазировались также в языке.
Гераклит — пионер лингвистической философии, ищущий в структуре языка и слова загадки и отгадки мира, скрытую истину вещей. Но в отличие от лингвистов-позитивистов он не прояснял значения слов, а, наоборот, нагнетал многозначность, сознательно искал полисемантические слова-символы, полнее передающие амбивалентность мира. Сама «темнота» его стиля и множественность толкований текста — свидетельства превосходства архаичной лингвистической философии над мировой линией мудрости Абеляра — Витгенштейна.
Антитетичность, свойственная стилю Гераклита и Эмпедокла, не является сущностью их риторики. Согласно Э. Нордену, это «чувственная материализация интеллектуального бунта против традиции». Древняя мудрость тяготела не к точности слова и дисциплине мысли, а к звучности афоризма и игре слов. Как Бен-Сира, мудрецы испытывали восторг при изречении максим и, находя их, чувствовали себя дельфийскими прорицателями, которые, кстати, словесное убранство пророчеств ценили не меньше самих пророчеств.
Когда семитологи принялись за опыты по реконструкции первозданной арамейской формы евангельских изречений Иисуса, результаты превзошли все ожидания: под привычным медлительным ритмом греческого текста проступила упругая речь, играющая каламбурами, ассонансами, аллитерациями и рифмоидами, сама собой ложащаяся на память, как народная присказка.
За редкими исключениями, великие философы являются наследниками Гераклита: Августин, Паскаль, Киркегор, Шопенгауэр, Ницше, французские и немецкие экзистенциалисты — в такой же мере философы, в какой пророки, поэты, вестники, для которых форма и стиль мысли не менее важны, чем сама мысль.
Именно прафилософия создала звучное, подвижное, сильное слово, готовое к звуковой игре и метафорическому преображению. С. С. Аверинцев в одной из своих работ с виртуозностью философа-поэта-лингвиста-эрудита продемонстрировал, как на многих языках творился словесный наряд мудрости, как из игры слов и звуковых аллитераций рождалась МЫСЛЬ.
УЧЕНИЕ
...будущее —
Сожаленье для тех, кто пока что лишен сожаленья,
И что путь вверх ведет вниз, путь вперед приводит назад.
Долго вынести это нельзя, хотя, несомненно,
Что время не исцелитель: больного уже унесло.
Элиот
На закате эллинизма гностики соединили рационализированную философию данайцев с мистическими культами Востока, пытаясь охватить цельность бытия в ее извечной двуполярности, синтезировать разум и порыв, порядок и хаос. Эта тяга к универсуму даст еще множество рецидивов в трудах системотворцев всех эпох — от Универсального Доктора через просветителей до творца Абсолютного духа и его тоталитарных наследников. Это не был путь Гераклита: все они сводили множественность к Единому, веря в возможность всеобъемлющего духовного синтеза и в стройное упорядочение всей суммы знаний на основе единственной идеи. Абсурд пустил глубокие корни — в религии, философии и науке, погубив жизни величайших гениев, вознамерившихся выкопать этот единственный корень — Бога, духа, природы, — и тем прославить навечно свое имя.
Мистическому духовидению гностиков, парадоксальному по форме и плюралистическому по содержанию, свойственны откровения. Чего только стоит сближение двух образов — Искариота и Распятого: проклят всяк распятый на дереве. Иуда повесился, Галилеянин же принял на себя всю полноту тяготевшего над человечеством проклятья, а потому его предельная святость оказалась тождественной предельной сакральной нечистоте. Виват, мудрость! История, виват!
— Ах, если бы стать знающим! Если бы существовало некое учение, нечто, во что можно было бы верить! Кругом только одни противоречия, все разбегается в разные стороны, нигде нет ничего определенного. Все можно истолковать так, а можно и наоборот. Можно истолковать историю как развитие и прогресс, а можно видеть в ней только упадок и бессмыслицу. Неужели не существует истины? Неужели не существует истинного и непреложного учения?
— Истина существует! Но «учения» абсолютного, совершенного, единственного, умудряющего учения — нет. Да и не следует мечтать о совершенном учении. Стремись к совершенствованию самого себя. Божественное в тебе, а не в понятиях и книгах. Истина должна быть пережита, а не преподана.
Свидетельство Диогена Лаэрция:
Мнения его в общих чертах таковы. Все составилось из огня и в огонь разрешается. Все совершается по судьбе и слаживается взаимной противобежностью. Все исполнено душ и демонов. Еще он говорит: «Пределов души не отыщешь, по какому пути ни иди, — так глубок ее Разум». Самомнение называет он падучей болезнью, а зрение ложью.
Частные же мнения его таковы. Начало есть огонь; все есть размен огня и возникает путем разрежения и сгущения. Все возникает по противоположности и всею цельностью течет, как река. Вселенная конечна и мир один. Возникает он из огня и вновь исходит в огонь попеременно, оборот за оборотом, в течение всей вечности...
Все на свете течет, —
Мудрый сказал Гераклит.
Но безвкусицы пламя
Дни наши испепелит.
Итак, нет никакого неизменного бытия, и ни мы, ни окружающие нас предметы не обладают им. Мы сами, наши суждения, и все смертные предметы непрерывно текут и движутся. Поэтому нельзя установить ничего достоверного ни в одном предмете на основании другого, поскольку и оценивающий, и то, что оценивается, находятся в непрерывном изменении и движении.
Здесь столь любимые мною Диоген и Монтень впадают в двойную ошибку: во-первых, «панта рей», «всё течет», принадлежит Пифагору, говорившему, что «материя зыбка и текуча», во-вторых, релятивизм Гераклита сильно преувеличен. Даже философема реки дала основание Керку говорить, что главной идеей Гераклита была не идея текучести, а идея стабильности (неизменности реки как реки). Фрагмент 84а Гераклита гласит: «Изменяясь, покоится». Это значит, что наряду со всеобщей изменчивостью как принципом течения существует постоянство, традиция и стабильность. Хотя идея подвижности, текучести, изменчивости, относительности бытия будет затем вдохновлять не одно поколение разрушителей, требующих ускорения «реки», все они не заметили такой малости как Волга, текущая вечно на том же месте. А ведь именно из течения и постоянства, из изменчивости и традиции возникла культура, речная культура, предсказанная Гераклитом культура, которая «изменяясь, покоится»...
Так за что все же чтить Гераклита? Достаточно этого одного: «единое, различаемое в себе самом» — главный принцип плюрализма *. Гёльдерлин не преувеличил: пока это не было найдено, не было и философии. А это — лишь крупица из немногих донесенных до нас временем фрагментов этого колосса. А вот еще одна — о том же: «Для Бога все прекрасно, хорошо и справедливо, а люди одно приняли за справедливое, а другое — за несправедливое».
Гераклитова гармония расходящегося — одно из наидревнейших выражений мультиверсума. Человек будущего, если таковому суждено быть, — это «расходящийся» гераклитовский человек, исключающий человека одномерного, механического, конформистского, взращиваемого Великой Идеей. Не в этом ли различии человека расходящегося и человека сходящегося главная причина того, что Флюэллинг называл «механическим Востоком и живым Западом»?..
Связи: целое и нецелое, сходящееся и расходящееся, согласное и несогласное, и из всего — одно, и из одного — всё.
Затем у Платона и Прокла эта мудрость преобразуется в единое в множестве и множество в едином.
[Бог]: день — ночь, зима — лето, война — мир, изобилие — голод [все противоположности. Это ум] изменяется, подобно огню, который, смешиваясь с благовониями, называется различно.
Фундаментальный вклад Гераклита в человеческую мудрость — признание необходимости противоречий мышления и конкуренции как движущих сил духа. Гераклит открыл новый стиль мышления — темноту полноты, от которого человечество отказалось, предпочтя ей рассудочность. В том, что мы пошли по пути Аристотеля, а не по пути Гераклита, может быть, величайшая ошибка человечества.
Почти все гипотезы, господствующие в современной философии, первоначально были выдвинуты греками — так начинает свой рассказ о Гераклите историк. Эфесец — самый проницательный из эллинов, предтеча Гёте, Ницше, Бергсона, Сантаяны, первый декадент и мизантроп, охлофоб и ксенофаг, в котором живет великая плеяда грядущих еретиков и диссидентов, страшащихся авторитета. Притом Шатобриан прав: кто угодно, но не Руссо. Гераклит — античный Мифотворец, его категории «тёмного» и «светлого» возрождены в метафизическом артистизме Ницше в виде дионисийского и аполлонийского начал. Еще больше это античный Моисей, евангелист Иоанн, один из библейских пророков.
Он — самый углубленный из досократиков, хотя бы потому, что первым наряду с существованием первоогня заметил существование человека, которого тут же презрел.
«ТЁМНЫЙ» ИЛИ «СВЕТЛЫЙ»?
Сочинения Гераклита не дошли даже до начала новой эры. Керк считает само их существование проблематичным. Согласно распространенной точке зрения, Гераклит книг не писал, изречения же его собраны и записаны одним из учеников. Однако у Стагирита есть фраза — «в начале его [Гераклита] сочинения», свидетельствующая о том, что Эфесец не только изрекал, но и записывал свои мысли.
Диоген Лаэртский перечисляет четыре названия книги Гераклита, но ни одно из них, в том числе и «О Природе» или «Музы», не говоря уже о двух других, не имеющих отношения к заглавию, не заслуживает доверия. Название «О Природе» — не более чем стандартное название, применявшееся в более поздний период для обозначения многих сочинений досократиков. Заглавие «Музы», как считают исследователи, навеяно Платоном («Софист»), противопоставляющим ионийские «Музы» (Гераклита) сицилийским «Музам» (Эмпедоклу).
Согласно Диогену, книга Гераклита «О природе» разделена на три логоса, «речи, рассуждения» — три части: «обо всем» (peri tou pantos), т. е. «о Вселенной», «о государстве» и «о божестве». Структура книги, о которой говорит Диоген, по мнению ряда исследователей — Керк, Маркович, — восходит к стоикам, в частности к Клеанфу, делившим философию на логику, этику и физику...
Современники называли его тёмным, имея в виду то ли его эскапизм, то ли эзотеризм. Кратес говорил: для Гераклита необходим читатель, умеющий хорошо плавать, дабы глубина и сложность этого учения не поглотила и не доконала его.
Хотя большинство древних мыслителей считало, что Гераклит наводит «тень на плетень», были и такие, кто видел в нем отнюдь не тёмного. Перипатетик Антисфен склонялся видеть в нем «светлого», а Диоген говорит: «Иногда в своем сочинении он высказывается светло и ясно, так что даже тупоумному нетрудно понять и почувствовать подъем духа. А краткость и вескость его слога несравненны». В одной из многочисленных эпиграмм сказано, что для посвященного в тайны стиля Гераклита темнота становится светлее солнца.
То, что именуется «темнотой» и «алогичностью» Гераклита, — открытая им тайна жизни и бытия, отнюдь не единства противоположностей или диалектической природы сущего, но принципиально неустранимых противоречий мышления, ограничивающих логику и единственность мнения.
Показательно, что М. Хайдеггер, видевший в логизации мудрости и формализации знания главный источник кризиса западной цивилизации, призывал вернуться к досократикам и мифологическому стилю мышления, которым присуще единство человека и бытия, существования и сущности.
«Темнота» Гераклита — еще и пещера времен: утрата контекста, живого окружения, духа эпохи. До нас дошли лишь фрагменты сочинений досократиков, совокупность ничем не связанных фраз, к тому же цитируемых нередко в политическом задоре. Например, христианский богослов Ипполит (начало III века), стремясь доказать, что распространившаяся в его время ересь некоего Ноэта имеет своим источником учение Гераклита, неоднократно ссылается на последнего и приводит его высказывания, окрашивая их в tohli собственного мировоззрения, христианизируя Эфесца. Кроме того, в результате многократных переписываний рукописей на протяжении многих веков в них вкрадывались искажения, ошибки, допускались пропуски, не говоря уж о многочисленных интерпретациях.
Это особый случай философии без кода, без письма, в которой трудно уловить основополагающие идеи автора, даже если известны его фрагменты. Почти все афоризмы досократиков дошли до нас как цитаты позднейших авторов, то есть в виде наслоений. Это даже не цитаты, а вкрапления, окруженные атмосферой иных идей и настроений. «Следовательно, чтобы добраться до его истинного значения («палимпсеста»), необходимо предварительно снять («соскоблить») с него многовековые (в сущности, тысячелетние) напластования последующей философской культуры».
Трудность этой проблемы усугубляется языком, филологией. Филологи проделали гигантскую работу по сбору и исследованию текстов Гераклита, однако даже идентифицированный текст имеет множество философских прочтений, отличающихся от лингвистических. Мышление философа неадекватно мышлению филолога, так или иначе привязанного к грамматическому и семантическому субстрату языка. Это различие мышлений принципиально: слова многозначны, размыты и приобретают значимость в контексте — правильное чтение текста невозможно без уяснения его философского содержания.
Отсюда и постоянное расхождение между филологами и философами, а также наблюдаемый в западных странах факт передачи, за редкими исключениями, античной философии, «на откуп» филологам. По мнению С. С. Аверинцева, преодоление этого разлада возможно на пути создания «той пограничной области философствующей филологии или филологизирующей философии, где подвижный процесс мышления, отложившийся в слове, становится объектом литературоведческого анализа...». Действительно, лишь сочетание филологического анализа текстов с философским осмыслением их содержания является надежной методологической установкой при решении вопроса о достоверности сохранившихся текстов древних мыслителей. Однако верно и то, что названную установку легче провозгласить, чем реализовать.
М. Маркович считает, что из разрозненных кратких гномов Гераклита не следует строить философскую систему. Главным недостатком современных толкований Эфесца является приписывание ему логической последовательности, принципиально несовместимой с его мифологическим мировидением. По мнению У. Гатри, от человека, по стилю мышления больше походившего на религиозного проповедника, чем на рационалиста, бессмысленно ожидать последовательного и систематического учения. Притом Гераклита легко осовременить — его «темнота», его «неопределенность», его парадоксальность, его экзистенциальность, его пессимизм — все это предполагает его осовременивание. В этом отношении он, может быть, самый современный из древних схолархов.
Стиль Гераклита — это неотделимость формы от содержания: глубокомыслие в афористической форме. Как учил он сам, надо стремиться к многомыслию, а не к многознанию. Концентрация его мысли действительно такова, что в одной фразе свернуты пласты бытия. Это как бы вся вселенная в первые мгновения своего расширения.
Стиль Гераклита, способ выражения его идей — под стать самим этим идеям: отсутствие строгих понятий, четких определений, однозначных высказываний. Это метафорический, символический, художнический стиль. Ошибка толкователей — в поиске точности в смыслоутрате, буквальности в эпатаже. Стиль мышления Гераклита неотрывен от его беспокойно-мятущейся личности, от его оскар-уайльдовского тяготения к шоку, от того вызова, который он бросал здравому смыслу.
Порвав с «темнотой» бытия, творец логики обвинил Гераклита в небрежности словосочетаний, неразработанности языка, отказе от того здравомыслия, которого бежал Эфесец. Для Стагирита, озабоченного логически верным построением суждений, строгость мысли и порядок языка были важнее содержательности и глубины знания. Стагирит подменял бытие «правильным языком», Гераклит нырял в темные глубины, не страшась «утонуть в противоречиях».
В отличие от Аристотеля, упрекавшего Гераклита в нелогичности, последний был не отвлеченным мыслителем, не философом-«метафизиком», оперирующим однозначными категориями и рассуждениями о мире и жизни с помощью абстракций, а философом-мудрецом, который, так сказать, сопереживал бытие (со-бытийствовал), стоял ближе к бытию, к живой реальности, и мыслил всеобщее (первоначало вещей, единое, логос, закон, сущность) в неразрывном единстве с многообразием единичных вещей. Поэтому Гераклит (как, впрочем, и все ранние греческие философы) пытался представить всеобщее не в форме отвлеченной всеобщности, т. е. не в понятиях и категориях, но через чувственно воспринимаемые предметы и явления, через наглядные процессы и обстоятельства. Отсюда и мышление о действительности посредством образов-понятий, художественных сравнений, философем и афоризмов. Последнее объясняет и то, что мудрец типа Гераклита в отличие от «метафизика» не доказывает, а «показывает» (демонстрирует) свои идеи и положения на живых примерах, возвещает их в форме кратких изречений и выразительных антитез, в духе загадочных оракулов, народных пословиц и поговорок.
Обращает на себя внимание также жречески-торжественный, пророчески-вдохновенный и непререкаемый тон высказываний эфесца. Провозглашая не без некоторой суровости: «Следует знать, что война всеобща и правда — борьба и что все рождается через борьбу и по необходимости», Гераклит, пожалуй, не меньше (если не больше) повелевает и даже угрожает, чем объясняет и наставляет. И потому эфесца менее всего можно назвать просветителем в обычном смысле слова, как и наставником «большинства»: он не обучает и не поучает, но внушает и призывает к пониманию открытого им «логоса» жизни и бытия. И пафос его мысли коренится в убеждении, что его устами говорит вселенская мудрость, мировой логос; в уверенности, что им открыта извечная истина, постоянно напряженный ритм бытия, единый порядок всего сущего. Намекая на то, что в его словах как бы слышен голос логоса, Гераклит заявляет: «Не мне, но логосу внемля, мудро согласиться [с изречением], что все едино». Он указывает на суровый и вещий стиль мифологической Сивиллы и упоминает о владыке, прорицалище которого в Дельфах «не говорит и не скрывает, но знаками показывает».
ВЛИЯНИЯ
В истории влияний Гераклит занимает место, подобное тому, какое занимает наш Толстой, иначе говоря, влияния предшественников проявлялись негативно — через отрицание. Обнаружен ряд лингвистических совпадений Гераклита с Гомером, Гесиодом, Архилохом, Солоном, Анаксимандром и другими предшественниками, большинство которых эфесец отрицает в открытой или скрытой полемике.
Аристотель свидетельствует о резких нападках Гераклита на Гомера, обвиненного им ни мало ни много как в верхоглядстве, непонимании сути вещей, за что «Гомер заслуживает изгнания из состязаний и наказания розгами, равно как и Архилох». Чем вызвана такая, по словам Архилоха, «горячность» Гераклита? Позаимствовав у Гомера «щит Ахиллеса» — идею жизни как арены борьбы — философ ополчился на рапсода, воспринимавшего борьбу и раздоры людей как божью кару: «Да исчезнет раздор из среды богов и людей» — эти слова из И л и а д ы и послужили основой обвинений, выдвинутых Гераклитом в адрес Гомера. В комментарии Стагирита это звучит следующим образом: «Не существовала бы музыкальная гармония и не было бы животных без образующих противоположности самки и самца». Гомер поверхностен потому, считает Гераклит, что исключает из рассмотрения движущую силу мира — борьбу. Позаимствовав у Слепца идею вражды как всеобщего принципа жизни, Тёмный отказал ему в естественном для поэта праве гуманизации бытия.
По мнению Керка, ключевое место И л и а д ы, в котором речь идет об общности борьбы, стало для Гераклита «яблоком Ньютона» — способствовало зарождению мысли о конкуренции как движущей силе бытия. Вместе с тем К. Поппер считает, что к грандиозному открытию о всеобщем движении и изменении Гераклит пришел в силу «личных переживаний, социальных и политических волнений». Негативно-нигилистическое отношение к предшественникам прослеживается на другом примере — критике Гераклитом следующего места из Т е о г о н и и Гесиода:
Черная Ночь и угрюмый Эреб родились из Хаоса.
Ночь же Эфир родила и сияющий День, иль Гемеру.
Согласно Гераклиту, «учитель большинства» (Гесиод) не уразумел равнозначность Дня и Ночи, не имеющих приоритетов друг перед другом: день и ночь — «одно и то же».
Временами складывается впечатление, что темпераментный мудрец творил «от обратного» — путем отрицания максим предшественников. Архилох считал, что знание человека сообразно условиям его жизни: «И как сложатся условия, таковы и мысли их». Гераклит отвечал: «Большинство людей не разумеет того, с чем они сталкиваются».
У себя самого я нашел такое «воспоминание», написанное не без подсознательного влияния Эфесца:
«Меня всегда поражала не безграничная способность человека к познанию, а убийственная реальность темноты — огромность того, что подавляющее большинство не желает видеть и знать. Это — страшно...».
Е. Руссос, обнаруживший ряд терминологических заимствований и подобий в текстах Архилоха и Гераклита, выявил их трактовку «от противного»: где у Архилоха — случайность, там у Гераклита — закономерность, где Архилох говорит «да», там Гераклит — «нет».
Гераклит — парадоксалист, получающий наслаждение от «перевертышей». Дело даже не в антитетичности его мышления или непримиримости тона (характерного для неистовых греков) — дело в удовольствии, получаемом за счет добывания истины посредством отрицания известной. Так называемая диалектичность Гераклита на самом деле есть «производство фиг из чертополоха»: открытие множественности истины, обнаружение нового в неисследованных местах.
Осуждение Гераклитом «многознающих» и яростные, даже оскорбительные нападки на Пифагора свидетельствуют не об обскурантизме, а о принципиальном расхождении с диалектикой пифагореизма, оперирующей полярностями и не замечающей полноты мира, заключенного между полюсами. К тому же Пифагор, как и Гомер, в поисках мировой гармонии устранял «движущую силу мира» — борьбу.
Достаточно сказать, что Пифагор и представители его школы мыслили гармонию как соразмерную смесь противоположностей, т. е. как определенное соотношение предела и беспредельного, ограниченного и безграничного. На этом пути они стремились найти «среднее» число или вообще некое «среднее» состояние, на основе которого стало бы возможным преодоление борьбы противоположностей, установление стабильного отношения, неизменной гармонии (согласованности) между ними. Ясно, что пифагорейская гармония, понимаемая как сосуществование, слияние и примирение противоположностей в некоем «среднем» числе, представлялась Гераклиту принципиально ложной и совершенно неприемлемой.
Пифагор и его школа переносили свое понимание гармонии также и на общественную жизнь. Они верили в осуществимость абсолютной социальной гармонии, которая раз и навсегда положит конец гражданским междоусобицам и социальным конфликтам. С их точки зрения, на жизни общества существенно отражаются те или иные человеческие несовершенства, случайные факторы и непредвиденные обстоятельства. Умонастроение пифагорейцев не лишено поэзии, однако жизнь греческих полисов с их непрекращающимися межполисными раздорами и внутриполитической борьбой не давала надежд на реализацию их мечты. Гераклит же, чуждый религиозного умонастроения Пифагора и его приверженцев, рассматривал жизнь и сам мир как арену постоянной борьбы и лоно вечной нужды и неудовлетворенности.
В отличие от предшествующих и последующих мыслителей (в первую очередь Парменида и Зенона) Гераклит со всей остротой почувствовал опасность противопоставления единого многому, а также противопоставления иных противоположностей, неправомерность отрыва их друг от друга. Отсюда и его полемические выпады против своих предшественников и современников, не уразумевших, по его мнению, «тождества» противоположностей. Отсюда и его стремление совместить в словах и предложениях то, что в обычном языке несовместимо: «Одно и то же живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое».
Гераклит был подвержен не только влияниям «от обратного», но и прямым воздействиям милетских мыслителей, прежде всего Анаксимандра с его апейроном. Идеи космического ритма, чередования рождений и смертей, стремления противоположностей к преобладанию привели к гераклитовскому «смертью друг друга живут, жизнью друг друга умирают».
Если Анаксимандр рассматривает стремление противоположностей к преобладанию как несправедливость и вину, которая неминуемо влечет за собой наказание, то Гераклит говорит о борьбе (войне, раздоре) как о «справедливом» (нормальном) их состоянии. Да и сам вечно живой огонь был взят им за первоначало вещей и мироправящую силу, по-видимому, потому, что в этой наиболее активной из природных стихий он усмотрел наглядное воплощение борьбы, т. е. активного состояния. Наконец, у Гераклита в отличие от Анаксимандра мир (космос) не возник — он вечен.
Анаксимен — третий из известных нам милетских мыслителей — объяснял возникновение вещей противоположными состояниями первоначала (воздуха): сгущаясь, воздух образует ветер, облака, землю и камни, а разрежаясь, он становится огнем. Аналогичную мысль мы находим у Гераклита, согласно которому физические противоположности представляют собой различные состояния одного и того же космического огня (отсюда и определение тождества противоположностей по формуле «одно и то же»).
Представление о сгущении и разрежении воздуха как о ритмическом «дыхании» космоса некоторым образом напоминает идею Гераклита о путях «вверх и вниз». Говоря о противоположностях, Анаксимен указывает на их единую основу; Гераклит же идет дальше и высказывает идею об их переходе друг в друга.
Таким образом, Гераклит был связан со своими милетскими предшественниками разработкой ряда общих тем: о первоначале вещей, о мироустройстве и миропорядке, о взаимоотношении противоположностей, о возникновении и исчезновении вещей и т. д.
При общем критическом отношении к Ксенофану Гераклита объединяет с ним оппозиция Гомеру и Гесиоду, проповедь аскетизма, идея единства и вечности мира, а также признание слабости человеческого разума пред божественным.
Сама школа Гераклита просуществовала до начала IV века до Р. X. и была известна далеко за пределами Эфеса. Учитель Платона Кратил принадлежал к ней. «Но эти позднейшие гераклитцы были такими неметодичными энтузиастами и впали в такие преувеличения. что как Платон, так и Аристотель выражаются о них очень презрительно».
НЕ МНЕ, НО ЛОГОСУ ВНЕМЛЯ.....
Логос — закон вселенной.
Гераклит
Свою главную заслугу Гераклит усматривал в открытии логоса. Но что есть логос? Два с половиной тысячелетия ведется спор по этому самому тёмному месту его наследия. Как только ни переводят несчастный логос: слово, речь, учение, язык, смыслообраз, универсальный разум, мудрость, суждение, теоретическое высказывание, основная причина, мировой строй вещей, мировое целое, закон бытия, мировое тело, формула вещей, структура всего сущего, космический порядок, движущая сила изменения, борьба, конкуренция, Бог, судьба, вечность, всеобщность, отвлеченность, жизнь...
...логос Гераклита в одинаковой степени есть и отвлеченность и жизнь, божественное существо и мировое целое; мировой закон и мировое тело, т. е. огонь; идеальная форма и физическая стихия; вселенский разум и субъективно-человеческий критерий истины.
Для себя я перевожу гераклитовский логос как множественность мира. Ведь именно Гераклит, чтимый нами как диалектик, противопоставил ей множественность бытия и определил логос как основу и смысл мироздания. Кстати, у Аристотеля понятием логоса объединяются и словесное выражение вещи, и процесс расчленения множества, то есть логос Стагирита имплицитно содержит понятия «один из множества», «часть множества» и «множественность одного».
Конечно, проще всего связать логос со словом, языком, тем более что для Гераклита язык действительно был стихией, скрывающей тайну и разгадку бытия. Его пристрастие к словам, к стилю и ритму речи свидетельствует о напряженном — почти поэтическом — поиске знаков и символов, адекватных эзотерической сущности открытых им глубин мира. Но и в языке Гераклита бросается в глаза тщательная работа над словом в попытке найти единые корни для выражения взаимоисключающих понятий, объединить смысл слова с его контрсмыслом, выразить амбивалентность вещи и мысли.
Так, в слове «bios» он находит тождество (единство) противоположных его значений, говоря, что «луку имя — жизнь, а дело его — смерть»: с ударением в первом слоге bios означает жизнь, а с ударением во втором слоге bios означает лук, орудие смерти. Иначе говоря, в значении слова «жизнь» заключено его противозначение — «смерть», и наоборот. Эфесский мыслитель находит единый корень и для выражения других противоположных понятий, таких как moroi (смертные) и moira (доля, удел, награда) во фрагменте В25, а также dokeonta (мнения) и dokimфtatos (самый испытанный мудрец) во фрагменте В28 и т. д. Язык Гераклита, объединяя смысл каждого слова с его контрсмыслом и выделяя амбивалентность каждого выражения, является прежде всего орудием раскрытия глубокой истины и далек от того, чтобы быть просто риторическим приемом.
Образная система афористики Гераклита сродни художественной. Можно сказать, что он философ-художник, заложивший основы заратустровской по своему духу философии-поэзии, в которой во имя многозначности истины можно пожертвовать ясностью и последовательностью. Отличие Гераклита от Аристотеля — в творении образов-символов, расшифровка напластований которых и является задачей гераклитики. Я уже писал, что знаменитый образ реки — отнюдь не метафора течения и изменения, но и философема парадоксальности мира, в котором все течет, но ничего не меняется. Дело здесь не в тождестве противоположностей излюбленной диалектики, а в изначальной сущности бытия, где «путь вверх и вниз — один и тот же». Прижигая рану или оперируя, врач причиняет больному гораздо большую боль, чем сама болезнь, но эта боль — излечение боли. Борьба — сущность жаждущей покоя и мира жизни, а неразрешимость мысли — признак мудрости.
Ритмика и интонация наиболее принципиальных максим, направленных на интеллектуально-эмоциональное восприятие человеком всеобщего и неотвратимого логоса жизни, такова, что их можно записывать как стихи-ритмы жизни:
Война —
отец всего, царь всего;
одних она выявила богами, других — людьми,
одних она сделала рабами, других — свободными.
Или:
Следует знать,
что война — всеобща,
что справедливость — борьба,
что все возникает через борьбу
и по необходимости.
Так пишет Гераклит, а так вторит ему Элиот:
...Чтоб прийти оттуда,
Где вас уже нет, сюда, где вас еще нет,
Вам нужно идти по пути, где не встретишь
Восторга.
Чтобы познать то, чего вы не знаете,
Вам нужно идти по дороге невежества,
Чтобы достичь того, чего у вас нет,
Вам нужно идти по пути отречения.
Чтобы стать не тем, кем вы были,
Вам нужно идти по пути, на котором вас нет.
И в вашем неведеньи — ваше знание,
И в вашем могуществе — ваша немощь,
И в вашем доме вас нет никогда...
Или:
Я здесь
Или там, или где-то еще. В моем начале.
Что мы считаем началом, часто — конец.
А дойти до конца означает начать сначала.
Конец — отправная точка.
У самого Гераклита смысл логоса менялся в зависимости от контекста, и именно это постоянное изменение значения, эта игра слова, это обилие смыслов является дополнительным подтверждением множественности, позволяя интерпретировать логос как слово слов, символ словаря.
Так, во фрагменте В1 «логос» у него означает и нечто объективно существующее, согласно которому «всё совершается», и субъективное «слово», «мысль», или теоретическое «высказывание» самого Гераклита, адекватное объективному «логосу». Во фрагменте же В50, напротив, отличая свой логос-слово от объективного логоса, он говорит о логосе как о единстве всего: «Не мне, но логосу внемля, мудро согласиться, что всё едино». В некоторых других случаях логос — это «всеобщее» (всеобщая истина или всеобщий порядок), которому необходимо «следовать» (В2), а также «божественный закон, на который необходимо опираться» (В114). Складывается впечатление, что у Эфесца слова «война» или «борьба», «гармония» (связь, единство), «мера» и т. п. являются синонимами слова «логос» или же используются в аналогичном смысле. «Логос» употреблен Гераклитом также в смысле «слово» (В87), «слава» (В39), «учение» (В108). Во фрагментах В45 и В115 говорится о «логосе» души.
В известном смысле «логос» адекватен «панта рей». Творец эйдосов Платон и родоначальник логики Аристотель имели основания уподобить «логос» мифеме или смыслообразу «реки» с упором на множественность текучего мира, а не на его релятивизм. Для Платона «панта рей» было некой антитезой вечным и неизменным эйдосам, для Аристотеля — символом алогизма. В таком же духе — как мистика, алогиста и релятивиста — интерпретировала Гераклита позднеантичная философия.
Но ведь философема «реки», помимо сказанного, помимо подвижности, потока жизни, содержит еще и момент разнообразия, различия, взаимообусловленности. Казалось бы, жизнь течет, смерть останавливает, но у Гераклита жизнь и смерть обусловливают и предполагают друг друга. Смерть — неотъемлемая сторона жизни. А потому в единый поток жизни мы «входим и не входим, существуем и не существуем». Утверждение Гераклита «солнце ежедневно новое», на мой взгляд, есть констатация множественности солнца, вечного обновления миропорядка, смены ритма бытия.
Логос Гераклита сочетает в себе высшую отвлеченность бытия и конкретно-чувственное вещественное начало, смысл и живой образ, художественное видение и частный случай. Налицо единство и равновесие. Наличие противоположностей не предполагает выбор между ними, ибо они — части одного целого.
Расходящееся сходится, и из различия образуется прекраснейшая гармония.
Они не понимают, как расходящееся согласуется с собой. Оно есть возвращающаяся к себе гармония.
Душе присущ логос, сам себя умножающий.
Существует единственная мудрость: познать замысел, устроивший всё через всё.
И добро и зло одно.
Путь вверх и путь вниз — один и тот же.
Неразрывное сочетание образуют целое и нецелое, сходящееся и расходящееся, созвучие и разногласие; из всего одно и из одного всё.
По какой бы дороге ты ни шел, не найдешь границ души: столь глубок ее логос.
Меня не устраивает интерпретация логоса как диалектического единства противоположностей и самого Гераклита как отца диалектики. Даже слова «единство противоположностей» навязаны Гераклиту: дословный перевод этого места во фрагменте В51 — «упругое соединение, находящаяся под напряжением связь, равновесие сил, как у лука и лиры». Тождество противоположных начал — сильное упрощение и обеднение логоса. Выпады Гераклита против Гесиода, Пифагора, Ксенофана и Гекатея связаны вовсе не с непониманием ими тождества противоположностей, но с поверхностным (по мнению Гераклита) восприятием бытия, непониманием единства и полноты многообразия. День и ночь, лето и зима, горячее и холодное, добро и зло — не полюса, а образы многообразия, части, периоды, связанные скрытой внутренней гармонией множества, а не только полярностей. Гераклит, даже используя контрарные или контрадикторные понятия, мыслил общностями, многообразиями, парадоксальной гармонией общностей-многообразий: «Соединения бывают всего и не-всего, сходного и различного, созвучного и разнозвучного; и из всего — единое и из единого — всё».
Гармония — важнейшая категория Гераклита, но не как примирение, покой, а как внутренняя связь и согласованность множества, как рядоположенность, как постоянное обновление частей. Это динамичная гармония, движимая конкуренцией, гармония борьбы, движимой стремлением к развитию и обновлению.
Логос — постоянство изменчивости, иерархический порядок мира, сумма истин о нем, цельность, воспринимаемая каждым по-своему: «Вот почему нужно следовать общему; хотя этот голос [для всех] общий, большинство людей живет так, как будто имеет свое собственное разумение».
В познании логоса (плюрального единства мира) Гераклит делит людей на категории: мудрецов, интуитивно схватывающих его, несведущих, в силу своего многознания могущих разобраться, но утративших точку опоры, и, наконец, на тех, от которых бесполезно ожидать какого-либо разумения, которые «присутствуя, отсутствуют». Большинство людей находится в разладе с логосом (миром и истиной), не понимает сути вещей, не желает и «не умеет ни выслушать, ни сказать». Лишь избранные, в чьих душах огонь («сухое сияние»), восторжествовали над влагой, находятся в согласии с логосом мира.
Плюральность Гераклита выражена в идее существования иерархии ценностей, наличия разных уровней истинности и достоверности. В этой иерархии высшую ступень Гераклит оставляет Богу: «Для Бога все прекрасно, хорошо, справедливо». Снова-таки Бог — не высшее единство противоположностей, а высшая точка иерархии множества, вмещающая в себя все: «Бог есть день — ночь, зима — лето, война — мир, изобилие — голод: [он] видоизменяется подобно [огню], который смешивается с благовониями и именуется по удовольствию, получаемому от каждого из них».
Логос — иерархия и единство мудрости, восхождение к божественному абсолюту, познание многосмысленности бытия, движущая сила многообразного мира, «то, что управляет всем через всё».
«Многознание», критикуемое Гераклитом, — это отрывочное, частичное, фрагментарное знание, отдельные слова вне их взаимосвязи. Логос же — вся речь, все правды о мире, объединенные Мудрым Словом (логосом), которое от всего «отрешено».
В самом деле, логос всеобщ, присущ всем вещам, но в то же время в известном отношении находится вне их, отличен и обособлен от них, подобно тому как смысл речи, говоря в стиле Гераклита, и содержится и не содержится в отдельно взятых словах. Смысл речи, его логос, есть нечто единое и целое, единораздельное целое (структура), которое связано со всеми словами, но «отлично» от слов, взятых разрозненно. То же можно сказать и о мире-космосе, единство и стройность которого определяются его логосом.
Как знать, возможно, именно по этому соображению «тёмный» философ избрал «логос» для обозначения и единого (общего) в мире вещей и явлений, и единого (общего) в многообразии слов и предложений. (Отсюда в свою очередь, надо полагать, и употребление слов «мудрое» (sophon) и разум или мысль, смысл (gnфmз) как синонимов логоса, наблюдаемое во фрагментах В32, В108 и В41. )
Античный плюрализм — не только многообразие и иерархия, но и изменчивость внешних форм. Поэтому задача мудрости — свести внешнее многообразие к наименьшему числу корней. В сущности, философия Гераклита лежит между двумя крайностями — Протагора и Платона. С одной стороны, если человек — мера всех вещей, то какой вещь кажется, такова она и есть для него. С другой стороны, у всех вещей — одна единая душа...
«Античный Гегель» упрощает и снижает множественность Гераклита. Хотя Гегель действительно подпишется под диалектикой Гераклита как своей, назовет ее поворотным пунктом в истории мудрости и перенесет на нее высшие атрибуты своей собственной философии — «нет ни одного положения Гераклита, которого я не принял в свою «Логику»» — у меня нет желания отождествлять их. В отличие от Гегеля, у Гераклита нет дилеммы «или...или» — сосуществует ВСЁ. Гераклит готов отступить от логики и законов мышления — ни Аристотель, ни Гегель не простят ему этого — ради логоса, парадокса мира, в котором все тождественно и возможно. Аристотеля раздражала не столько даже замысловатость Гераклита, сколько его манера совмещать взаимоисключающее. Даже мифологическое мышление древних не принимало рядоположение «да» и «нет». Теофраст считал, что Гераклит ничего не выражал ясно, «сам себе противоречил по причине меланхолии», а Лукреций Кар видел в его изречениях «тень на плетень», производящую впечатление на глупцов.
Учение Гераклита отнюдь не «освобождало философскую мысль греков от религиозно-мифологической традиции», но было имманентно мифологичным. Гераклит настолько мифологичен, что некоторые исследователи ставят вопрос, философ ли он? Да, при полном отсутствии отвлеченной терминологии (А. Ф. Лосев), при сознательном напластовании смыслов — философ, но философ жизни, не страшащийся ее дионисийства. И его Дионис в качестве бога умирающей и возрождающейся природы непротиворечиво совмещает в себе жизнь и смерть. Это типично гераклитовское, мифологическое совмещение жизни и смерти, пути вверх и пути вниз — тоже свидетельство его плюрализма.
Философия-мифология Гераклита заложила традицию неантиномичного мышления, синтезирующего взаимоисключающие начала. Не будь этого, современная наука оказалась бы невозможной — не было бы ни частицы-волны, ни соотношения неопределенностей, ни обратного пространства, ни квазичастиц, ни пси-функций. Черт возникает не только в Б р а т ь я х К а р а м а з о в ы х и Д о к т о р е Ф а у с т у с е — он возникает в современной математике и физике, и не как галлюцинация, а наиреальнейшая реальность. Благодаря ему древние знали не только о бездне великой бесконечности, но и о бездне бесконечно малого, скажем, о том же Анаксимандровом апейроне.
Если в этих якобы наивных мифах скрыто предузнавание «законов» мира и грядущих открытий науки, то предузнавание дано в мифе как бы бессознательно, только как эстетическая игра, утверждающая абсолютную свободу желания, то есть творческой воли. В таком предузнавании нет прямого указания человечеству на ту или иную конкретную цель: познай то-то, открой то-то.
Но сколько разума скрыто в этом, так называемом бессознательном акте мифотворческой мысли!
ВЕЧНО ЖИВОЙ ОГОНЬ
Этот космос,
один и тот же для всего сущего,
не создал никто из богов и никто из
людей,
но всегда он был, есть и будет
вечно живым огнем,
мерно воспламеняющимся и мерно
угасающим.
Гераклит
Космология Гераклита, торжественно и патетично выраженная в приведенном эпиграфе, символизирует нечто подобное вселенной Фридмана или Эйнштейна: несотворимый мир, развивающийся как саморегулируемый процесс, в котором важнейшую роль играет «вечно живой огонь» (плазма), имеющий тенденцию к циклическому «воспламенению» и «угасанию». Учитывая аллегорический характер стиля Гераклита, можно сказать о всеобъемлющей провиденциальности «тёмного» мудреца, поэтически выразившего суть современных космологических моделей.
Огонь — важный элемент космогонии Гераклита:
Мир, единый для всех, не создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим.
Грядущий огонь всё обоймет и всех рассудит.
На огонь обменивается всё, и огонь — на всё.
Огонь — емкое понятие: и космос (бесцельная игра огня), и мировой пожар, и живородящее начало, и сама жизнь. «Огонь живет смертью земли»(!?). По учению Гераклита, мировой пожар повторяется через каждые 10800 лет. Тогда наступает «великий год» — все погибает в огне, а затем рождается снова.
Огонь — не слепая стихия, чуждая логосу, но сила небес, которая «всем управляет» и «всё творит».
Огонь не существует без логоса и логос без огня, ибо «вечно живой» огонь — это сам мир, а логос — это господствующий в мире порядок. Похоже, что логос выражает по преимуществу статический (устойчивый) аспект бытия, в то время как огонь — динамический, подвижный. В соответствии с этим можно условно допустить, что логос выражает в учении Гераклита «метафизический» принцип, а огонь — «физический».
Огонь — созидательная и разрушительная стихия мира, «вечно живой» его элемент, основа космического мироустройства и одновременно символ жизни. Как единичная жизнь «зарождается» и «сгорает», так и жизнь космоса — циклическое горение и угасание.
По Гераклиту, космический огонь обладал и физической и психической природой, т. е. «вечно живой» огонь был одновременно и веществом и активностью, внешним, физическим процессом и внутренней, психической энергией. У Эфесца жизнь, движение и вещество неотделимы, как неотделимы активность и огонь.
Угасая, космический огонь образует воду, землю и испарения (смерчи). Смерч, в свою очередь, способен трансформироваться в огонь. Мир уравновешен и обратим: утрачиваемые части космического огня дают строго определенные количества материи (воды и земли). Почти Е = mc2.
Огонь живет смертью земли, воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, а земля — смертью воды.
Всё обменивается на огонь, и огонь — на всё... всё есть обмен огня и возникает путем разрежения и сгущения.
Любопытны комментарии древних. Аристотель: «Гераклит говорит, что всё когда-нибудь станет огнем». Аэций: «Гераклит (принимает) за начало всего огонь... От угасания огня образуются все вещи... В свою очередь мир и все тела уничтожаются огнем в (мировом) пожаре». Ипполит: «Грядущий огонь осудит всё и (всем) овладеет». Симплиций: «Гераклит говорит, что мир то пожирается в огне, то вновь возникает из огня (и совершается) по некоторым периодам времени».
Хотя не все авторы разделяли мнение доксографов о периодическом экпюросисе (мировом пожаре), идея цикличности космоса Гераклита вполне совместима с вечным обновлением, ибо если всё рождается и умирает, то что препятствует распространению цикла рождения—смерти на космос в целом? Поэтому, вполне естественно, «грядущий огонь всё обоймет и всех рассудит».
Центральное место в космосе Гераклита принадлежит Солнцу: «Не будь Солнца, то, несмотря на остальные светила, была бы ночь». Некоторые фрагменты Гераклита могут быть истолкованы как отдаленные предчувствия закона всемирного тяготения и даже свечения Солнца за счет сгорания («испарения») вещества.
Астрономические и метеорологические воззрения Гераклита Диоген Лаэрций описывает следующим образом:
Испарения же бывают и от земли и от моря, одни светлые и чистые, другие же тёмные. От первых увеличивается огонь, от вторых же — влажность. Окружающую нас небесную сферу (periechon) он не объясняет, но говорит, что в ней находятся чаши, обращенные к нам полой стороной; светлые испарения собираются в этих чашах и образуют огни небесных светил. Наиболее же светлым и горячим является пламя солнца, ибо в то время как прочие светила дальше отстоят от земли и поэтому дают меньше света и тепла, а луна, хотя и расположена ближе к земле, проходит не по чистому пространству; солнце же, напротив, пребывает в прозрачном и чистом пространстве и отдалено от нас на подходящем расстоянии, поэтому оно дает больше света и тепла. Затмения же солнца и луны происходят, когда чаши поворачиваются кверху. А месячные фазы луны происходят вследствие постепенного наклонения ее чаши. День и ночь, месяцы, времена года, дожди и ветры и тому подобное происходит от различных испарений. Светлое испарение, возгорающееся в солнечном круге, вызывает день, при преобладании противоположного испарения бывает ночь; и вследствие увеличения тепла от светлых испарений происходит лето, а от изобилия влаги от темных испарений — зима. Аналогичным образом он объясняет и причины других явлений. Что же касается земли, то он никак не объясняет ее природы, как, впрочем, и устройства чаш. Таковы были его представления.
Согласно Аэцию, Гераклит считал, что гром порождается скоплением ветров и облаков и вторжением ветров в облака; молния бывает вследствие воспламенения испарений, зарницы — от зажжения и потухания облаков.
ОГОНЬ И ДУША
По какой бы дороге ты ни пошел, пределов души не найдешь: столь глубок ее логос.
Гераклит
Психея Гераклита — часть мирового огня, горящего в душах людей. Человек — часть мира, и его единство с ним выражается в «огненности» души: космический огонь, будучи активным началом, схож с человеческой душой; горя в душах людей, он составляет живую часть мира. «Сухая, огненная душа мудрейшая и наилучшая».
Психея — тонкий вид огня, нечто среднее между огнем и водой. Она разная у разных людей: мудрость — почти чистое горение, отсутствие оной — почти одна влага. Души большинства влажны и почти не содержат огня. Когда душа становится более сияющей — это путь вверх. Утрата огненности — путь вниз.
Пьяный, ведомый ребенком, шатается и не замечает, куда идет, ибо влажна его душа.
За человеческие страсти человек расплачивается частицей своего огня: «Трудно бороться со страстью: ведь всякое желание сердца исполняется ценою души». Жизнь души — вечная борьба огня и воды, жизни и смерти. В жизни души заключена ее смерть.
Психея (разумная сторона человеческой природы) проходит цикл рождения—умирания, движения вверх и движения вниз. При этом душа — прямой участник жизни и смерти тела, определяющий его здоровье.
Подобно тому, говорит он, как паук, находясь посреди паутины, чувствует, как только муха разрывает какую-либо его нить, и быстро бежит туда, заботясь об исправлении нити, так и душа человека, при повреждении какой-либо части тела, туда поспешно устремляется, словно не перенося ущерба в теле, с которым она крепко и соразмерно связана.
Психея человека — часть космической души (логоса-огня), посредством нее человек связан со всеобщим и приобщен к вечному и небесному. Она не находится в какой-либо части тела подобно тому, как мировая душа не имеет пределов. А поскольку источник ее находится в мировой психее, то «пределов души не найдешь: столь глубок ее логос».
Гераклит приписывал душе функцию познания и воспитания человека: качество космического огня в психее определяет степень ее познавательной способности и моральный облик человека. По мнению Гераклита, познание доступно немногим наделенным «сухим блеском». Поскольку «природа любит скрываться», «большинство людей не разумеют того, с чем встречаются». Люди обманываются даже в познании явных вещей, не говоря о познании логоса — того, что сокрыто за явлениями.
Как большинство досократиков, Гераклит связывал познание с созерцательным «схватыванием», интуицией, считая, что эти акты далеко не общечеловечны, а присущи лишь лучшим, наделенным необходимой долей «огня».
По мнению Гераклита, люди теряют связь со всеобщим (логосом) в мире, не понимают его и «враждуют» с ним по различным причинам: из-за склонности к чувственным наслаждениям, вследствие чего душа становится «влажной» и потому менее способной к интеллектуально-познавательной деятельности; из-за некритического отношения к мнению «большинства» («толпы») и «многознающих»; вследствие непонимания относительного характера человеческих знаний и увлечения разного рода мифами и баснями. Недалекий человек, «враждуя» со всеобщим логосом, легко переходит от слепой веры к неверию, и наоборот. Каков человек, такова и цена его увлечениям. «Глупец при каждом слове входит в азарт». Вместе с тем многое из божественного, по Гераклиту, «при неверии ускользает и остается непознанным».
У него есть замечательное прозрение о личностности человеческого знания: «То, что самый испытанный [человек] знает и соблюдает, есть только мнение. Но Дике настигнет лжецов и лжесвидетелей». О том же свидетельствуют и инвективы в адрес polymathiз — расчлененного знания частностей, а не целого, доступного лишь избранным. Мудрость не есть информированность — мудрость есть самость, слитность с логосом. Мудрость связана не с расчленением и детализацией, не с единичными вещами, а с интуициями, «схватыванием» логоса целого.
...для образа мышления Гераклита весьма характерно понимание человеческой мудрости не как чисто теоретической деятельности, не как просто познания, а как деятельности, совмещающей познание и действие, слова и дела. По Гераклиту, мудрый человек, сообразуя свои слова и дела с логосом целого, находит правильный образ мышления и действия. Обыкновенный же человек, находясь в противоречии со всеобщим логосом и не заботясь о выборе истинного образа жизни, «забывает, куда ведет [его] путь».
У Гераклита наметились зачатки идеи о самопознании, об осознании человеком своего внутреннего мира. Таков, пожалуй, смысл фрагмента 101: «Я вопрошал самого себя».
Что же, по мнению Эфесца, происходит с психеей после смерти? Куда девается огонь души? Какова ее посмертная судьба? «Людей ждет после смерти то, чего они не ожидают и не предполагают». Каждый сам «выбирает» судьбу души, посмертные воздаяния. У Гераклита можно найти вполне христианские (даже протестантские) и вполне экзистенциалистские идеи о «выборе своей судьбы». Судьба человека определяется им самим, его этосом, характером: «нрав человека — его daimon». Люди, ведшие неразумный («мокрый») образ жизни, не могут рассчитывать на посмертное сохранение индивидуальной души. «Сухие» души могут надеяться на индивидуальное бессмертие.
Гераклит упредил Лютера и Кальвина в доктрине божественного предопределения, правда, не отказывая человеку в возможности «коррегировать» собственную судьбу: «Одним уготована участь богов, другим — людей, победившие становятся свободными, побежденные — рабами».
МНОГИЕ — ПЛОХИ, НЕМНОГИЕ — ХОРОШИ
Все великое и разумное пребывает в меньшинстве.
Гёте
О том, чтобы разум сделался всенародным, мечтать не приходится. Всенародными могут стать страсти и чувства, но разум навеки останется уделом отдельных избранников.
Гёте
Был ли потомок Кодридов мизантропом и охлофобом, как о том судачит молва? Многие фрагменты подтверждают его презрение к толпе, антидемократизм, высокомерие, элитарность:
Присутствуя, они отсутствуют.
Несметное множество — никто.
Толпа же насыщается подобно скоту.
Толпа всё предает осмеянию.
Остальные же люди сами не знают, что они, бодрствуя, делают.
Они говорят: никто не может быть лучшим среди нас; и если кто-либо окажется таковым, то пусть он будет где угодно в другом месте и среди других людей.
Неразумный человек способен увлечься любым учением.
Дурные свидетели глаза и уши для человека, у которого душа варвара.
Один для меня — десять тысяч, если он — наилучший.
Большинство людей не разумеют того, с чем встречаются, да и научившись, они не понимают, им же самим кажется, что понимают.
Гераклит считал, что масса, толпа — это стадо, не желающее мыслить, что люди живут готовыми мнениями, полагая, что у них есть собственное, что плебс порочен, испорчен, завистлив и корыстен. Изгнание «наиполезнейшего» Гермодора из Эфеса он расценивал как наглядный пример скотства. «Всех эфесцев надо смерти предать, ибо, изгнавши Гермодора из города, сказали они: из нас пусть никто не возвысится...»
«Гераклит мог бы стать религиозным реформатором, если бы не презирал простонародье настолько, чтобы снизойти до религиозной пропаганды». Он равно отрицательно относился к плебсу, отказывая ему в способности управления, и к аристократии, обвиняя ее в стяжательстве и роскоши (отсюда их объединение против юродивого).
Впрочем, мыслью «многие — плохи», «большая часть — наихудшая» пронизана вся древняя мудрость: от Бианта и Экклезиаста («и в целой тысяче не найти ни одного доброго») до Ювенала и Сенеки («хорошие люди редки, едва ли наберется столько, сколько устьев у Нила»). Многие не внемлют природе вещей и не желают знать логоса. Авторитет, основанный на мнении тысячи, в вопросах понимания не стоит искры разума у одного-единственного.
Так, Диоген, который бездельничал в своем уединении, катаясь в бочке и воротя нос от великого Александра, и считал нас чем-то вроде мух или пузырьков, наполненных воздухом, был судьей более язвительным и жестким, а следовательно, на мой взгляд, и более справедливым, чем Тимон, прозванный человеконенавистником. Ибо раз мы ненавидим что-либо, значит, принимаем это близко к сердцу. Тимон желал нам зла, страстно жаждал нашей гибели и избегал общения с нами как с существами опасными, зловредными и развращенными. Диоген же ставил нас ни во что; общение с нами не могло ни смутить его, ни изменить его настроения; он не желал иметь с нами дела. Тут он следовал учению Гегесия, который утверждал, что мудрец должен заботиться только о себе самом, ибо лишь он один и достоин того, чтобы для него было что-нибудь сделано, а также учению Федора, считавшего, что было бы несправедливо, если бы мудрец рисковал собой для блага своей родины и мудрость подвергал бы опасности ради безумцев.
По образу политического мышления Гераклит — один из первых меритократов, равно отрицательно относящийся к власти народа и диктату силы. Выступая против крайностей равенства и демократии, он одновременно был против своеволия и произвола тирании. Спасение от народа и тиранов — уважение к справедливым законам: «Народ должен сражаться за закон, как за свои [городские] стены». Во главе государства должны стоять лучшие, познавшие законы, а не невежды, действующие по произволу.
Политическим взглядам Гераклита уделяется гораздо больше внимания, чем его философии. Уже в античные времена сложилось мнение, что он не столько философ, сколько политолог. Охлофобия Гераклита вызвала шквал гневных обличений советских архаистов, даже А. Ф. Лосев не удержался от обвинений в «аристократичности сознания», называя его «барином» и «гордецом». Между тем, за тысячелетия до Моска и Парето Гераклит защищал теорию политических элит и приоритет закона над своеволием плебса или тирана. Интерпретация мотивов, побудивших народ к изгнанию Гермодора, по мнению К. Поппера, свидетельствует, что запас аргументов противников демократии немногим изменился с момента ее появления. «Они говорят: никто не может быть лучшим среди нас; и если кто-либо окажется таковым, то пусть он будет где угодно в другом месте и среди других людей».
М. Маркович, Г. Властос и др., сближая политологию Гераклита с реформами Солона и идеями Бианта, подчеркивают ее легитимное начало и его симпатии к умеренной аристократии, где aristos (наилучший) следует понимать как аристократ по духу, знаниям и исполнению законов, а не по происхождению. Гераклит — прародитель теории элит, впервые сказавший: «Власть по природе должна быть уделом лучших» и «закону, правителю и более мудрому следует повиноваться», ибо «тяжело быть под началом человека худшего».
Большинство античных схолархов придерживалось подобных политических взглядов, в равной мере отрицая демократию и тиранию. Аристотель уравнял эти два вида правления, заметив, что постановления демократии, заменяющие закон, имеют то же значение, что в тирании единоличные распоряжения басилевса.
ЭТИКА, ЭСТЕТИКА
Добро и зло — одно.
Гераклит
Этика Гераклита до-категорически-императивная: космос пребывает по ту сторону добра и зла, мировой порядок и человеческая жизнь в равной мере предполагают как добро, так и зло, справедливость и несправедливость, прекрасное и безобразное. Гармония простирается между крайностями, и справедливость есть конкуренция, борьба. Мировой порядок, космическая справедливость — сосуществование всего. Преобладание одной части над другой — путь к деградации и разрушению мира. Человек — часть природы и, как часть, должен следовать ей, сообразуясь с ее живой душой — вечно живым логосом-огнем. Быть справедливым значит уважать природу, меру, соразмерность и сосуществование всего. Наоборот, уничтожение природы или ее части — насилие и несправедливость.
Солон называет море «справедливым», когда оно, не тревожимое ветром, само не тревожит никого и ничего. Быть же добродетельным на языке греков означало обладание не столько высокими нравственными качествами, сколько совершенством в выполнении своей функции, причем не только со стороны человека, но и со стороны какого-либо орудия производства.
Добродетельный образ жизни — духовное обогащение и вечная слава, недобродетельный — предпочтение материального благополучия. Добродетель есть мудрость, искренность и правдивость, активная деятельность и сообразность природе. «...Если бы счастье заключалось в телесных удовольствиях, счастливыми назвали бы мы быков, когда они находят горох для еды». «Да не оставит вас богатство, эфесяне, чтобы вы были изобличаемы в своих пороках».
Важнейший из пороков человеческих — невежество. Добродетель приобретается знанием и активностью. «Разумение — величайшая добродетель, и мудрость [состоит в том, чтобы] говорить истину и поступать [разумно], воспринимая [вещи] согласно [их] природе».
Релятивизм этики Гераклита преувеличен: здесь речь идет, видимо, не об относительности этических понятий, а все о том же логосе, в котором все едино и равноправно.
Многие элементы этики Гераклита восприняты Шопенгауэром и Ницше: гордый аскетизм, презрение к страсти, отвлекающей от цели, пессимизм (Шопенгауэр) и активность (Ницше).
Гераклит смотрит на рождение как на несчастье: «Родившись, они хотят скорее найти покой». Источником пессимизма часто является неудовлетворенное честолюбие. Когда мудрец убеждается в неспособности повлиять на ход событий, ему ничего не остается, как порицать жизнь.
Эстетика Гераклита космична в том смысле, в каком космос можно рассматривать как произведение искусства. Мир гармоничен, и человеку остается следовать этой гармонии величественной природы.
Прекрасен, по Гераклиту, прежде всего сам мир — и в целом, и в своих частях, и в своих последних материальных началах. Мысль о том, что пропорции мироздания могли бы оказаться чуждыми красоте, случайным соединением ничем между собой не связанных частей или элементов, кажется Гераклиту абсурдной.
Вместе с тем Гераклит далек от взглядов на искусство как «подражание природе». Он предостерегает от поверхностности, ибо «природа любит таиться» и «скрытая гармония лучше явной». В этом отношении Гераклит — модернист, понуждающий художника искать внутреннее бытие, сущность, то, что скрыто за явлениями и лишь «знаками показывает» на суть вещей. За единичным художник должен видеть всеобщее, за явным «скрытое». «Владыка, чье прорицалище в Дельфах, не говорит и не скрывает, но знаками показывает». «Знаками показывает» — кратчайшее определение символизма.
Модернизм Гераклита проявляется и в античных «цветах зла» — понимании сокровенной гармонии как соразмерности красоты и уродства. Безобразное — часть красоты, рассыпанный сор — часть гармонии.
Модернизм проявляется и в трагическом мироощущении Гераклита, и в потрясающем образе мировой трагедии, разыгрываемой «вечностью-ребенком», и в трагическом конфликте жизни и смерти, и в пессимизме («слезах»), и в противостоянии «многим» (тем, что — почти по-киркегоровски — «присутствуя, отсутствуют»), и в отрицании «народных певцов», потакающих этим многим. «Что у них за ум, что за разум? Они верят народным певцам и считают своим учителем толпу...».
Стиль Гераклита — это стиль архаичного модерниста, проникшего в глубину души.
Язык Гераклита, поэтичный и трагичный, может быть назван также музыкальным, скульптурным и архитектурным... Музыкальным, так как он глубоко чувствует ритм, «мелодию» вселенной; скульптурным, поскольку он передает объемность и подчеркивает рельефность форм; архитектурным, ибо он возводит величественное здание из различных каменных блоков.
НЕМЫСЛИМО ВНЕ ВРЕМЕНИ
Из всех вещей время есть самое последнее и самое первое; оно всё имеет в себе самом и оно одно существует и не существует. Всегда из сущего оно уходит и приходит по противоположной себе дороге. Ибо завтра для нас на деле будет вчера, вчера же было завтра.
Гераклит
Надо было быть Гераклитом, чтобы, начав нескончаемый спор о природе времени, сказать: оно одно существует и не существует. Осознаем ли мы сегодня эту великую истину?
Настоящее и прошедшее,
Вероятно, наступят в будущем,
Как будущее наступало в прошедшем.
Если время всегда настоящее,
Значит, время не отпускает.
Ненастоящее — отвлеченность,
Остающаяся возможностью
Только в области умозрения.
Спор о том, была ли у греков идея времени и истории или доминировала антиисторическая тенденция, бессмысленен: у них было и то и другое. И потому, что было, возник современный западный мир быстрых перемен и глубоких традиций.
Космология Гераклита расширила пространство и включила время: «Этот космос... был, есть и будет вечно живым огнем».
Для Гераклита мысль и время неразделимы; мыслить для него означает мыслить время.
Время — ритм бытия. Архилох: «познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт». Ритм — основа мира, вечно живая его основа. Гераклитовский мир, век, вечность — играющее дитя, наивное и невинное, но и бесконечно умное: «Вечность — ребенок, забавляющийся игрой в шашки: царство ребенка». Сказать так мог только философ-поэт, кстати, доставивший этим высказыванием много хлопот дешифраторам этого символа.
Образ играющего ребенка исполнен глубоко философского смысла. Космос в глазах Эфесца — это единство (а не «тождество» и не «слияние») противоположных состояний разумения и неразумения, порядка и беспорядка, гармонии и борьбы, логоса и огня, отвлеченно мыслимого («отрешенного» от всего, но мироправящего) и чувственно воспринимаемого (материального континуума всех вещей, начал). В самом деле, в рассматриваемом В52 говорится не просто об игре ребенка, его невинной забаве, а об игре в шашки, т. е. своего рода «войне». Эта игра предусматривает определенные правила и допускает разумные комбинации. Но так как сам ребенок отчасти разумен, а отчасти нет, то, очевидно, такова и его игра (произвольное передвижение шашек создает определенную логическую комбинацию, игровую ситуацию). Так и aiфn космоса, его вековечное состояние есть царство невинного ребенка, играющего в «войну», и более того, воплощающего собой «войну», как бы олицетворяющего ее: у Гераклита ребенок, как и война, царствует в мире. Царство ребенка, как и царство войны, есть, если можно так выразиться, созидающее разрушение и разрушающее созидание, разумное безумие и безумное разумение.
Слова, как и музыка, движутся
Лишь во времени, но то, что не выше жизни,
Не выше смерти. Слова, отзвучав, достигают
Молчания. Только формой и ритмом
Слова, как музыка, достигают
Недвижности древней китайской вазы.
Круговращения вечной недвижности.
Не только недвижности скрипки во время
Звучащей ноты, но совмещенья
Начала с предшествующим концом,
Которые сосуществуют
До начала и после конца.
И всё всегда сейчас.
Гераклитово время — круговорот. Время динамично: существует лишь «теперь», события прошлого уже не существуют, события будущего еще не существуют. Этим динамичное Гераклитово время отличается от статического Парменидова времени, где всё всегда сейчас, где становление и исчезновение — иллюзия, возникающая в момент осознания изменения.
Процесс возникновения и исчезновения, соединения и рассеивания, прибывания и убывания связан со временем и напоминает время — настоящее время, которое представляет собой как бы неуловимую границу между прошлым и будущим. Будущее, приближаясь, становится настоящим; становление настоящего есть в то же время его удаление в прошлое. Всякие «теперь» есть в то же время и «не теперь».
Стобей сохранил поэтический отрывок Скифина из Теоса, подражавшего Гераклиту: «Из всех (вещей) время есть самое последнее и самое первое; оно всё имеет в себе самом, и оно одно существует и не существует. Всегда из сущего оно уходит и приходит по противоположной себе дороге. Ибо завтра для нас на деле (будет) вчера, вчера же (было) завтра».
Думается, что впервые у Гераклита в более или менее сознательной форме намечаются и такого рода вопросы: что представляет собой вековечный поток времени, смена вещей и поколений? Имеется ли во всеобщем потоке какой-либо порядок и разумный смысл, т. е. логос, или же это — игра природных стихий, в которой нет никакого логоса и никакой цели? Не драматична ли участь людей, стремящихся жить, а тем самым умереть, или, лучше сказать, успокоиться, и оставлять детей, рожденных для смерти. Судя по сохранившимся фрагментам Гераклита, у нас нет основания делать вывод о его отрицательном эмоциональном отношении к потоку времени и смене вещей, т. е. считать, что смыслообраз (философема) реки вызывал в нем грусть...
Согласно Рейхенбаху, «с действительной структурой времени совместимы различные эмоциональные реакции, поэтому всегда существовало положительное отношение к временному потоку, утвердительный эмоциональный ответ на изменение и становление, для которого будущее является неисчерпаемым источником нового опыта и вызовом нашим способностям использовать наилучшие из возникающих возможностей. Историческим символом положительного эмоционального отношения к течению времени является философия Гераклита, современника и противника Парменида... Утверждение (Гераклита) «Солнце новое каждый день» означает следующее: хорошо, что каждый день порождает нечто новое. Нам не нужно цепляться за прошлое, ибо мы прекрасно можем жить в мире постоянных изменений».
Мы рождаемся с теми, кто умер: глядите —
Они приходят и нас приводят с собой...
Народ без истории
Не свободен от времени, ибо история —
Единство мгновений вне времени...
Две крайности времени, известные античности: все течет и ничто не меняется — две глубочайшие универсальные идеи, не противоречащие одна другой. Вот ведь как: природу времени не прояснили ни течение ни неподвижность! Даже в смертоносную эпоху глобальности и прогресса мы остаемся в неведении. Даже ядерные вихри, проносясь над миром, свидетельствуют: ничто не изменилось, земля продолжает стоять на все тех же трех китах, ибо создатели ракет, вроде бы это опровергающие, мыслят все теми же «китами». Античную «наивность» сменила прогрессирующая дремучесть.
Все течет, но ничто не меняется. Ничто не меняется в ускоряющемся потоке. Это не передержка: по большому счету ни человеческие качества, ни нравственные идеалы, ни мудрость не изменились. И во времена Иосифа Прекрасного был Иосиф и были его братья. А еще раньше были Авель и Каин. И в наше время одного под страхом смерти не заставишь раздавить букашку, а другой уничтожит весь мир. За правое дело, конечно... И тогда не будет столь важным, что есть время и на чем покоится мир. То, что изменяется во времени, столь же эфемерно, сколь и оно само.





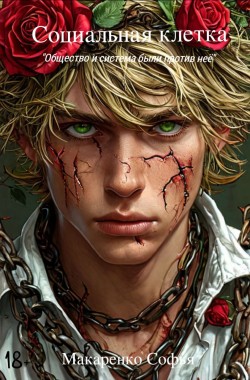
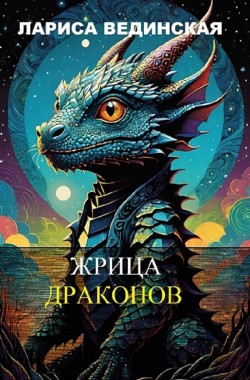




 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что


Комментарии отсутствуют
К сожалению, пока ещё никто не написал ни одного комментария. Будьте первым!