Ничего нет
К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено.
Плотин
Жизнь Плотина
Еще о духовности
Философия первоначал
Высшее благо
Мировая душа
Этика
Эстетика
Теософия
Intelligenti Pauca
Влияния
Время
Почти бесплотность предпочти
Bсeму, что слишком плоть и тeло.
Верлен
Он ушел, ушел в безмолвие, от слов —
к музыке, от мыслей — к Единому.
Гессе
Нет у тебя, человек, ничего, кроме души.
Пифагор
Последний великий философ древности, в котором, с одной стороны, «снова жил Платон», а, с другой, при иных обстоятельствах мог бы жить, христианский святой, человек, у которого не было почти ничего, кроме души, человек, живший в страшную эпоху заката Империи, но не заметивший ни ее бедствий, ни, возможно, самого ее существования, человек, стыдившийся тела, считавший плоть оковами для души и поставивший в ступенях эманации материю на последнее место, человек, чьи мыслительные способности почти вытеснили практические, человек, который своим отказом от мира поддержал его в тяжелую годину эпохального перелома, человек, сам ставший этим переломом, — Плотин…
Человек-дух, духовная связь миров — античного и христианского. Наследник Платона и предтеча Августина и Аквината. Точка бифуркации. Ответ на исторический вызов. Конец и начало».
Сам он претендовал лишь на истолкование трудов своего древнего учителя, почти тезки: «…Мы ничего больше не желаем, как только истолковать ее и свидетельствами Платона подтвердить», — но это результат высокой духовности и скромности. Плотиновское учение об экстазе — грандиозная попытка проникнуть в грандиозный храм духа, открытый для нового эволюционного скачка — уже не вещества, мира, жизни, но самоосознания, духовного роста, интеллектуального трепета выступающего из себя и возвращающегося в себя Единого. Отделив человека от божественных первоначал, он упредил патристику с ее пристальным вниманием к духовности и ответственности человека.
Философия Плотина — одновременно и конец и начало: конец того, что касается греков, и начало того, что касается христианства. Для древнего мира, утомленного веками разочарований, измученного отчаянием, его доктрина могла быть приемлемой, но не могла оказывать стимулирующего воздействия. Для более грубого, варварского мира, где бьющая ключом энергия нуждалась скорее в обуздании и регулировании, чем в стимулировании, то, что могло проникнуть из его учения, было благотворным, поскольку зло, которое предстояло побороть, было связано не с апатией, а с жестокостью. То, что могло сохраниться от его философии, было унаследовано философами в последние годы Римской империи.
Причисление Плотина к неоплатонизму — не более чем дань классификаторскому соблазну. Говоря об эволюционном скачке, я имею в виду свое видение развития мира». Наряду, с «малыми флуктуациями», такими, как превращение химических элементов или возникновение видов, эволюция содержит «большие скачки», такие как Большой Взрыв, завершение наработки строительных материалов, возникновение жизни, появление человека. После появления человека эволюция вновь круто меняет характер: теперь уже не новые формы жизни интересуют Единого, а накопление и скачки духа, переход от человека-животного к богоподобному человеку, к сверхжизни, сверхдуху. Плотин представляется мне вехой на этом драматическом пути — один из немногих образцов человека-духа на протяжении десятитысячелетней истории. Не будучи христианином, он своим существованием, своей философией и своей жизнью дал высший образец того homo sapiens, которому еще только предстоит появиться.
Философия Плотина — наглядное свидетельство неправильности оценки мудрости такими мерками, как «истинность», «логичность», «последовательность» или «завершенность». Мудрость — в первую очередь духовность и во вторую красота. Именно духовность и красота, еще больше чистота — мерки, прежде всего приложимые к «миру Плотина». Он не писал стихов, как можно подумать, судя по названию Э н н е а д или Д е в я т о к, но в них есть места, напоминающие строки дантовского Рая, «и с ними почти ничто не может сравниться в литературе».
И тут в мой разум грянул блеск с высот,
Неся свершенье всех его усилий.
Здесь изнемог высокий духа взлет;
Но страсть и волю мне уже стремила,
Как если колесу дан ровный ход,
Любовь, что движет солнца и светила.
Б. Рассел:
Философия может иметь и другое значение; она хорошо выражает то, чему люди в определенном настроении или при определенных обстоятельствах склонны поверить. Чувства радости и скорби являются объектом не философии, но скорее простейшей поэзии и музыки. Только радость и скорбь, сопровождаемые размышлениями о вселенной, порождают метафизические теории. Человек может быть веселым пессимистом или меланхоличным оптимистом. Вероятно, Сэмюэл Батлер может служить примером первого; Плотин же является великолепным примером второго. В том веке, в каком он жил, несчастья были непосредственно близки и требовали немедленных действий, в то время как счастья, если только оно вообще достижимо, следовало искать в размышлении о таких вещах, которые далеки от чувственных впечатлений. Такое счастье всегда несет в себе элемент напряжения; оно совсем не похоже на простое счастье ребенка. А поскольку оно берется не из повседневного мира, а из размышлений и воображения, оно требует уменья игнорировать или презирать жизнь чувств. Поэтому не те, кто наслаждается инстинктивным счастьем, создают такого рода метафизический оптимизм, который зависит от веры в реальность сверхчувственного мира. У людей, которые были несчастны в мирском смысле, но твердо решились найти высшее счастье в мире теории, Плотин занимает весьма почетное место.
Понять Плотина непросто тем, кто незнаком с «экстазом», выходом за свои пределы; столь живописно описанным великим мистиком:
Много раз это случалось: выступив из тела в себя; становясь внешним всем другим вещам и сосредоточенным в себе; созерцал чудесную красоту; и затем — больше чем когда-либо уверенный в общении с высочайшим порядком; ведя благороднейшую жизнь, приобретая идентичность с божеством; находясь внутри него благодаря приобщению к этой активности, покоясь надо всем другим умопостигаемым — все это меньше, чем высшее; и все ж наступает момент нисхождения из интеллекта к рассуждению: и после этого сопребывания в божественном я спрашиваю себя, как случилось, что я могу теперь нисходить, и как могла душа войти в мое тело, — душа, которая даже внутри тела есть высшее, как она себя показала.
...В самый момент такого соприкосновения душа, внезапно озаренная светом, верует, что узрела его, что этот свет исходит от него и что в нем Он сам блеснул ей.
Истинная цель существования души в том и состоит, чтобы быть в общении с этим светом, созерцать этот свет, через него самого.
В этом продвижении [дух] созерцает источник жизни, источник ума, начало сущего, причину блага, корень души.
Там и успокаивается душа, чуждая зла, вернувшись в место, чистое от зла. Там она мыслит, и там она бесстрастна. Там — истинная жизнь, ибо жизнь здесь — и без Бога — есть [лишь] след, отображающий ту [жизнь]. А жизнь там есть активность ума, активностью и порождает душа богов в безмолвном прикосновении с «тем». Она порождает красоту, порождает справедливость, порождает добродетель. Этим бременеет душа, наполненная Богом, и это для нее начало и конец, начало — потому что она оттуда, и конец — потому что благо находится там, и, когда она туда прибывает, она становится тем, чем она, собственно, и была. А то, что здесь и среди этого мира, есть [для нее] падение, изгнание и потеря крыльев.
Всякий же, кто это узрел, знает, о чем я говорю.
Вы чувствуете, как обволакивают и влекут его мысли, как вас поднимает и несет этот дух, сила и энергия этой духовности. В сознании людей, которые были несчастны в мирском смысле, но твердо решили найти высшее счастье в мире идей, Плотин занимает весьма почетное место, скажет философ. Впрочем, люди немузыкальные к музыке безразличны. Вообще: дабы понимать, надо, как минимум, знать язык. А язык духа — не самый легкий.
Не так уж много людей, для которых духовность — наивысшее удовольствие. Но чтобы полноценно жить, надо учиться. Плотин и других поощряет к самосозерцанию вместо того, чтобы воевать с внешним миром и сражаться с материей. Впрочем, Плотин слишком великодушен, дабы обвинять низший мир. Для него он тоже прекрасен.
Хотя, в отличие от гностиков, Плотин не вполне доверял красоте телесной души, предпочитая ей физическую, моральную и интеллектуальную красоту небес, он с негодованием отвергал мрачный взгляд гностиков (позднее — манихейцев), будто мир создан злым демиургом и должен быть презираем каждым поклонником истинной добродетели. Наоборот, небо — добро, мудро и утешительно, и если земля полна глупости и бедствий, то потому, что бездуховна.
Он — преданность и день насущный, ибо выстроил дом, распахнутый пенной зиме и ропоту лета, — он, кем очищены напитки и пища, в ком чарованье неразгаданных мест и сверхчеловеческое блаженство стоянок. Он — преданность и день грядущий, сила и любовь, которые видятся нам, застоявшимся в ярости и тоске, на лету в штормовых небесах и знаменах восторга.
Он — любовь, новонайденная безупречная мера, смысл дивный, нежданный — и вечность: машина возлюбленная роковых совершенств. Все мы познали ужас его безвозбранности с нашей вместе: о, наше ликующее здоровье, порыв способностей, эгоизм влечения и страсть к нему — тому, кто нас любит во имя своей немеркнущей жизни!..
И мы вспоминаем о нем, и он странствует... Если же расходится, звенит Осанна, то звенит его весть:
«Прочь эти путы суеверий, уютов, эти ветхие тела и лета! С этой эпохой покончено!».
Он не выйдет, не спустится с неба, не искупит гневливости женщин, веселья мужчин и всей этой скверны: ведь это свершилось, ибо он есть и любим.
О, его вихри, лица, концы: в устрашающей смене чистейших форм и движений!
О, неисчерпаемость разума и безбрежность вселенной!
Его тело! вожделенный исход, прибой благодати, скрещенный с новым неистовством!
Его взор, его взор! все былые коленопреклонства и мук возвышены вслед.
Его свет! истребление всяческих звучных и подвижных скорбей в музыке более пламенной.
Его шаг! поступь более неисчислимая, чем нашествия древних.
О, мы и Он! гордость более милостивая, чем благодать утраченная.
О, мир! и светлая песнь новых бедствий!
Он всех нас узнал и всех возлюбил...
Кто и о ком? Юный Рембо — о гении.
Я должен
Куда-то отправиться, где Ничто
Реально, в силу того что только
Ничто есть реальность и сверх того
Есть море света. Мир — это притча,
И мы — ее смысл.
Итак, бежим в милую отчизну! Отчизну духовидцев.
Дух, дух, дух, дух — это слово будет сопровождать нас непрестанно, ибо мы вступаем в храм духа.
Так дайте же мне плоть! — нет, это еще не он, но наш первый герой мог сказать это в своей Александрии в начале новой эры.
Дух не должен удовлетворять свои желания в ущерб плоти. Ведь природа человеческая прежде всего телесна: вначале плоть, а дух потом. — Это уже Просвещение. А вот это — древность: глупости свойственно увлекать в одну сторону тело, в другую душу и отрывать их друг от друга, направляя в противоположные стороны.
Пройдут века, и кампания по облагораживанию духа самим духом будет прервана в одночасье. И придет мудрец. И скажет самое страшное: не в том ли в конце концов беда — ведь духа-то наверняка хватает на свете, — что сам дух бездуховен?
Мы, осквернители, — идей, надежд, упований — сегодня знаем, что высокому духу уготована трагическая судьба. Человеки без свойств еще могли относиться к странной вещи «дух» как к любимой, которая обманывает, но оттого не становится менее любимой, потому что, когда любишь, то всё — любовь, даже если это боль и отвращение. Но можем ли мы — после Освенцимов и ГУЛАГов — делать вид, будто ничего не произошло, да и сегодня не происходит. Впрочем, даже отвращаясь от духа, мы все еще любим его, полагая, что он лучшее в нас, хотя Кафки и Музили уже засомневались...
Конечно, не представляет большого труда — нам особенно! — укорить кого-то в чрезмерной духовности. Ведь мы — реалисты, рационалисты, нивеляторы и либертины, — мы-то знаем, что зло и насилие, вопреки учению отцов нашей церкви, необходимые компоненты бытия. Что сегодня, дабы достичь глубин самосознания, надо погрузиться в бездну греха, где мы постоянно и обитаем.
Вот она, наша говённая логика: своим мнимым (?!) пренебрежением к миру Плотин оправдывал существующее общество и поддерживал жестокую политику гибнущей Римской империи. И рядом: материя для него — безусловное зло. — Вот она, циничная логика людей, погрязших в лицемерии и лжи. Сегодня, когда надо поддерживать другую гибнущую империю, «верные Русланы» писали бы, верно, по-другому, но — лучше не скажешь: отказом от мира он поддерживал его. Он — Плотин. Человек чистого духа. Человек-дух...
Да, дух, духовная связь эпох. Плотином кончается одна культура и начинается другая. Он Пифагор, Платон, Данте и Кант одновременно. Мост. Узел.
Это — скромность. Само причисление Плотина к неоплатонизму затуманивает его значимость как величайшего из идеалистов, как мыслителя, впервые после схолархов «золотого века» обратившегося к человеку. Идея ответственности человека — пусть перед Богом — стала одной из вершин мировой мысли. Именно она, эта идея, открыла двери культуре средневековья: не «векам мрака», а эпохе шартрских соборов, аквинских и роджеров бэконов. Да и могло ли «тёмное» средневековье возникнуть из элитарной, утонченной духовности, накопленной на исходе античности поборниками Единого?
Плотин описывает космическое бытие как бесцельную божественную игру природы с живыми игрушками, а великий систематизатор неоплатонизма Прокл усматривает высший смысл сущего в гомерическом хохоте богов, с презрением предоставляя слезы «людям и животным». Но в слезах, которыми упивались простые люди той эпохи, слушая умилительные рассказы о страданиях святых, было больше жизни и человечности, чем в этом отрешенном смехе. Глубокая элитарность неоплатонического жизнеотношения сказалась в попытке разделаться с необратимостью времени и неповторимостью жизненного мгновения, подменив их вечным возвратом, бесконечной вибрацией выступающего из себя и возвращающегося в себя Единого.
Хотя Прокл, доведший неоплатонизм до предела всеохватывающей систематичности, тончайшей детальности и виртуозного аналитизма, горько жалуется на свое одиночество и непонятость, это никак не свидетельствует об упадке. Ведь для мудрецов, равных Платону, заката не бывает! Можно закрыть Афинскую или иную школу, можно уничтожить тех или иных носителей идей, но пока существует даже малочисленная интеллигенция, дух вне опасности. Но вот когда выбивают и ее...
Хотя многие философы и до и после Плотина считали, что философствовать — значит отвращаться от практической жизни и что созерцание обратно действию, никто не выразил и, главное, никто не осуществил эту идею в собственной жизни с большей последовательностью, чем Плотин. Всякое действие, говорил он, есть ослабление созерцания. Даже Бергсон, отделивший направленный на действие интеллект от созерцающей интуиции, в сущности, не сказал больше того, что уже было у Плотина, «бегущего в милую отчизну» чистого созерцания.
Его душа была сотворена из того чудесного вещества, из которого Бог создает своих провидцев и своих мучеников. Позже о другом великом мыслителе скажут слова, которые в гораздо большей степени относятся к нашему герою: такой человек часто, должно быть, имел ощущение, будто он есть только мысль.
Эти бессмертные и блаженные существа блаженны оттуда, откуда делаемся блаженными и мы, — от некоего отражения умного света, который для них есть Бог.
Разумная, или умная душа, какою была душа Иоанна, не могла быть светом сама по себе, но воссияла вследствие общения с другим истинным светом. Это подтверждает и сам Иоанн, когда, давая свидетельство о Нем, говорит: и от исполнения Его мы вси прияхом.
Художник, говорил Флобер, должен творить так, чтобы потомки даже не подозревали, что он жил на свете. Сказано будто о Плотине.
Впрочем, великие идеи тоже состоят из тела, которое бренно, и из вечной души, хранящей их значение в вечно ускользающей словесной оболочке.
Слова, даже самые проникновенные и трепетные, обладают свойством убивать мысль, которую облачают, ибо идея — вовсе не одетая, а интуитивная мысль, еще не огрубленная формой; тень, дух, призрак, необъяснимое чувство — правильности, заблуждения, любви, ненависти, жизни.
Отступление о Касталии. В Касталии «духовность» отделена наконец от произведения — ценой множества жертв. Касталийцы отказались не только от собственности, семьи, но даже от своеобразия собственной личности, ибо пребывание в атмосфере чистой духовности губительно действует на индивидуальность. Касталийцы отказались от творчества как такового: от новаторства, от поисков и движения, от развития, пожертвовав ими ради гармонии, равновесия и «совершенства». Они отказались от деятельности ради созерцания. Все их занятия бесплодны.
Я сознательно буду искажать его образ, преувеличивая духовность, воплощая в великом смиреннике лучшие черты Касталии и временно забывая о зле. Естественно, жизнь гораздо шире духовности, занимающей в человеческом мире далеко не первое место. Великие духовидцы — наша надежда, но не опора, ибо опираться на дух в среде степных волков — значит, мягко выражаясь, впадать в утопию. Добро неотделимо от зла, дух неотделим от материи, и, защищая слабые ростки духовности от полчищ гуннов, которые во все времена преобладают, не будем переоценивать ни свои, ни чужие духовные возможности. Еще вполне могут наступить, может быть, уже наступают времена ужаса и бедствий, поэтому тем более важно заняться самовыявлением духа в эпоху, всецело попавшую под власть вещественного. Осознавая это, не следует предаваться ни болезненному уединению, ни проклятьям — надо жить и надо отстаивать духовность, невзирая на время, на историю, на тщетность усилий, — только в этом случае остается надежда, что дух возобладает над инстинктом. Ведь не будь всех этих одиночек и изгоев, разбросанных во времени и пространстве, было бы только зверство, или варварство, или Ничто. Но именно потому, что эти одиночки восстали против непреодолимого, удалось если не преодолеть варварство, то хотя бы потеснить его. Так что единственное, что нам остается, — преступить пределы!
(Не терплю патетики, но моей рукой движет сейчас не мое «я», а дух, который мы так ненавидим — за уникальность, за избранничество, за бессмертие).
Во всех религиях мы встречаем вести о просветленных, преображенных, воссиявших, о тех, на кого снизошла благодать. Мы будем вновь и вновь повторять это слово, ибо Плотин и есть воплощение благости торжественной, хоральной музыки человеческой души.
У нас нет сведений о его музыкальности; тем не менее по складу души он — касталийский Магистр музыки, избравший музыку духа как один из путей к высшему, к внутренней свободе, чистоте и совершенству. Верно, не музыканту эта благодать раскрылась бы в других подобиях, пишет Гессе. Астроном увидел бы себя в образе Луны, совершающей свой бег вокруг планеты, филолог услыхал бы, как его окликают на всезначащем, магическом праязыке, физик узрел бы пси-функцию или квазичастицу.
Духовность, способность всю жизнь дышать и питаться высшими абстракциями — редкостное качество, хотя, доведенное до своего предела, как и всё предельное, обращается в разновидность экстремизма Педагогической провинции. И приводит к жгучей тоске по широкому миру, по людям, по наивной жизни, по действительности, по воздуху и хлебу. Плотинами гордятся, как гордятся красотой духа, но предпочитают держаться от них на расстоянии. Да и сами Плотины быстро замечают, что это поклонение духу изолирует их, делает отчужденными и лишает способности по-настоящему их понять. Природа предусмотрительна: дабы поддержать жизнь, она скупится на духовидцев. И это такой же факт, как и их космичность, звездность.
Когда Мережковский писал своего Грядущего хама, он не сказал главного: коммунизм — это глумление над тончайшими душевными переживаниями, духовными взлетами, непереносимой болью всех людей не от мира сего: Плотинов, Августинов, Паскалей, Гаманов, Киркегоров, Достоевских, Толстых. Как же мы в этом поднаторели — в поношениях, архискверности, изуверстве, уничтожении, корчевании: не лозы — мыслящего тростника...
ЖИЗНЬ ПЛОТИНА
Он ушел, ушел в безмолвие, от слов —
к музыке, от мыслей — к Единому.
Гессе
Плотин, философ нашего времени, казалось, всегда испытывал стыд от того, что жил в телесном облике, — так начинает Ж и з н ь П л о т и н а Порфирий.
Часто страдая животом, он никогда не позволял делать себе промывание, твердя, что не к лицу старику такое лечение. В бани он не ходил, а вместо того растирался каждый день дома; когда же мор усилился и растиравшие его прислужники погибли, то, оставшись без этого лечения, он заболел еще и горлом.
О жизни своей случалось ему в беседах рассказывать нам вот что. Молоком кормилицы он питался до самого школьного возраста и еще в восемь лет раскрывал ей груди, чтобы пососать; но, услышав однажды «Какой гадкий мальчик!», устыдился и перестал. К философии он обратился на двадцать восьмом году.
Написав что-нибудь, он никогда дважды не перечитывал написанное; даже один раз перечесть или проглядеть это было ему трудно, так как слабое зрение не позволяло ему читать.
И беседы с самим собой не прекращал он никогда, разве что во сне; впрочем, и сон отгонял он от себя, и пищею довольствовался самой малой, воздерживаясь порою даже от хлеба, довольствуясь единою сосредоточенностью ума.
Писал он обычно напряженно и остроумно, с такою краткостью, что мыслей было больше, чем слов, и очень многое излагал он с божественным вдохновением и страстью, скорее возбуждая чувства, нежели сообщая мысль.
Почти всё, что мы знаем о нем, мы знаем из восторженного панегирика Порфирия. Евнапий, Свида, Евдокия, Симплиций лишь повторяют первого ученика.
Как затем Августин, родился Плотин в Африке, в Египте. В семье грека. Но поскольку стыдился он, что жил в теле, ни о рождении своем, ни о родителях, ни об отечестве никогда не упоминал. О детстве его, кроме символического анекдота с грудью, ничего не известно.
Накануне появления Плотина в Александрии ее покинул Ориген, к тому времени уже написавший свои знаменитые Н а ч а л а, первый опыт синтеза христианства со стоическим платонизмом. Александрия того времени была философской лабораторией гностического толка. Здесь он учился у Аммония-отступника — того Аммония Саккаса, чьими учениками были Эрений и Ориген. Хотя Плотин поздно приобщился к философии, он глубоко овладел стоицизмом и платонизмом, с одной стороны, и богословием Филона и Оригена, с другой. Плотин блестяще знал литературу гностиков с их принципиальным дуализмом и был ее сильнейшим критиком. Среди других его источников мы находим Стагирита, позднюю Академию, школы Гая, Посидония и Аммония.
В сорок лет Плотин переехал из Александрии в Рим, где основал собственную школу. Здесь, снимая дом у вдовы, он вел жизнь частного учителя философии. Нет, он не был ни схимником, ни отшельником — только Учителем. Это может показаться странным, но среди его учеников рядом с будущими риторами, философами, врачами — политики. Император Галлиен — его внимательный слушатель и поклонник.
Обладая добрым, кротким, возвышенным характером и простым нравом, Плотин не имел врагов — даже среди тех, с кем спорил. А полемику вел обширную — с Лонгином, Нумением, Оригеном. Обычно примирителем и разрешителем в спорах выступал Плотин. Его дом был полон народа, детей, сирот, учеников.
Сам учитель, отличавшийся болезненностью и, видимо, страдавший эпилепсией, вел жизнь аскета. Может быть, с этим связаны его экстатические видения, откровения, интуиции. Стремясь к единению с Богом, он часто видел себя полным света, осиянным.
Он обладал уникальным даром: видел то, что мыслил. Образы его философии — зрительны. Это не мешало ему иметь острый аналитический ум. Редчайший феномен: конкретность, логичность, абстрактность, иррациональность, эмоциональная лиричность уживались в одном. Он вел интенсивную эмоциональную жизнь. Богатое подсознание, глубокая интуиция все же перевешивали в нем сознательное и дедуктивное. При всей своей созерцательности он был очень активен, не чужд практической и житейской проницательности, энергичен в интеллектуальной и педагогической областях.
Злые языки толкуют — а они всегда найдутся, — будто духовность Плотина преувеличена. Что, пользуясь дружбой с императором, он планировал построить Платонополь. Греки обвиняли его в плагиате — присвоении мыслей и идей Нумения. Это было непонимание плагиаторской сущности культуры, но свидетельствовало оно о неприятии Плотина как пророка в своем отечестве.
В Риме Плотин вел тихую, умозрительную и, видимо, безмятежную жизнь мудреца — рукописи, занятия, созерцание, знакомства с великими людьми. Постепенно его мыслительные способности полностью вытеснили практические. Он свято чтил Сократа и Аристокла. Августин так и писал: в Плотине воскрес Платон. Но как человек-дух он был скорее продолжателем Пифагора и Зенона, предавших плоть забвению, чего никак не скажешь ни о Сократе, ни о Платоне. Будучи аскетом, скудно ел, мало спал, временами впадал в прострацию. Считал тело оковами для души: «чем меньше о нем заботиться, тем лучше».
Гениальность — слишком часто гипер- или патосексуальность, здесь же — недо...
Хотя Плотин говорил, что ему стыдно иметь тело, он не противопоставлял дух плоти. «Для него тело было просто болью, а никак не злым, дьявольским началом». Может быть, именно поэтому в его учении о ступенях эманации на последнем месте — материя.
Писал Плотин не всегда внятно — то ли из-за сжатости, краткости и насыщенности, то ли из-за возвышенности мысли, то ли из-за загадочности речи. Вообще его считают темным мыслителем — из-за абстрактности. Это действительно весьма отвлеченный философ, наиболее удаленный от телесного мира конкретных вещей.
Экстатический энтузиазм и самоуглубленность делали излишними заботу о стиле. Обдумав идею, он писал непрерывно, будто переписывал. (Так затем поступал Достоевский. )
Мы не встретим у него примет эпохи — даже христиан. Его время — вечность, местопребывание — Там. Там ничего не отвлекало его от Блага и Красоты. Если бы не редкое упоминание имен, можно было бы думать, что Э н н е а д ы писали ангелы, тоже живущие Там и зрящие Его.
Ведя жизнь святого, Плотин прослыл чудотворцем, прозорливцем, провидцем. Просветленный лик, светящийся ум, колоссальные познания: кроме философии — математика, механика, оптика, этика, теософия, психология. Наверное — музыка.
К старости он почти ослеп и вообще являл собой почти одну боль. Умер в 66 лет, в 270 году новой эры.
К Плотину, как ни к кому иному, относится библейский афоризм: деятель всегда ограничен — кому не под силу думать, тот действует. И вот что поучительно: где сегодня действия всех больших любителей действий — Киров, Александров, Тамерланов?.. Где их мировые империи, горы злата, роскошь, слава? Где они — где прошлогодний снег? А вот мысли великих любителей мысли остались, и не только мысли, но и подлинная слава: не та, что в день смерти превращается в проклятья — на все времена.
История учит остерегаться чрезмерно деятельных — они дорого обходятся людям. Деяния слишком тесно связаны с выгодой, выгода — со злом. Не хочу сказать, что действенный дух лучше неприкрытой силы — та же история научила нас остерегаться «великих идей» в не меньшей мере, чем насилия, и даже продемонстрировала, что последнее в неимоверном количестве производится из первых. Но всё это относится не к идеям и не к духу созерцания, а к похоти властвования, как определил этот феномен блаженный Августин.
ЕЩЕ О ДУХОВНОСТИ
Видения моей головы смущали меня.
Пророк Даниил
Говорят: философия — темперамент философа. Видимо, это так: личность Плотина неотделима от его философии. Плотиновская духовность с ее обращенностью к Богу прекрасна отсутствием сопричастности бытию — в этом суть идеализма. Философские откровения и религиозные епифании-экстазы привлекательны не истинностью, но искренностью, незаинтересованностью, красотой. Духовность — даже не эрудиция, а чистота, страстность глубины. Лучшее в идеализме — уникальный симбиоз утонченной интуиции и вдохновенного мистицизма. Идеализм есть чистота духа, отсутствие низменности, нетерпимости, воинственности. Рационализм вульгарен практичностью, нередко ведущей к крови. Вытеснение идеализма почти всегда сопровождалось наступлением людоедства. Мы сегодня слабы в идеальной области, писал Дьюи, поскольку интеллект оторван от вдохновения. И от созерцания, и от вечности, и от отрешенности, и от того мирового целого, имя которому — Бог, Дух, Ум, Природа. Сегодня мы расхлебываем даже не последствия коммунизма, а уничтожения Высокой Духовности. Если хотите, наше тотальное растление — плата за искоренение Плотинова духа в расширительном смысле этого понятия.
Идеализм есть то, что отличает Человека от обезьяны. Почему Плотин? Потому что — первая Джомолунгма духа, ибо — боговдохновенность, высокая человечность, глубочайший инсайт.
(Знаете, что самое страшное в тоталитаризме? — Омассовляющий автоматизм бездуховности, единообразие нерассуждающей реакции на приказ. Прикажут уничтожить — уничтожим. Прикажут полюбить — полюбим. Поверим. Разуверимся. Проголосуем. Заклеймим. Развратим. Перевешать друг друга? Перевешаем! Вот что такое изгнание идеализма. Вот что такое торжество материи. Единообразие, униформа, конформизм, однопартийность, единство, сплоченность, оголтелость, торжество хамства, казарма и плац).
Вот почему, будучи противником крайностей и противопоставлений, при необходимости выбора между абсолютами материи и духа я поступил бы, как Гексли *.
Оттого, что Плотин, или Августин, или Фома Аквинский, или Киркегор, или Паскаль со всеми их крайностями импонируют мне своей высокой духовностью, вовсе не следует, что надо жить, как они. Нет, это утопично и невозможно! Надо жить, как подсказывает свое «я», но знать, но иметь в виду, но ориентироваться, но равняться не по Бланки и Прудону, не по Нечаеву и Ильину, но по культуре, творцам культуры. Тем ценнее Плотин с его утонченным мистицизмом и не требующей платы отрешенностью от зла.
Философия Плотина не просто мистична, но магична — она и является плодом тех магических сил, которые были хорошо известны греческим философам и философам александрийской школы. В Средние века о них знали почти все великие мистики: Парацельс, Ван Гельмонт, Порта, Кардан, Максуэлл, Агриппа Неттесгеймский, Афанасий Кирхер и др. Все они еще не утратили непосредственную связь с глубинным бессознательным и творили, что называется, в контакте с Миром, Небом, Богом.
Согласно Плотину, душу соединяет с телом не посторонняя сила: каждая душа входит в тело, соответствующее ее природе и ее воле, и избирает для себя жизненное поприще на свой страх и согласно своим склонностям. С рождением мы утрачиваем память о нашем трансцендентальном существовании подобно тому, как по пробуждении от сомнамбулического сна сомнамбулы утрачивают память об этом сне; но подобно беспамятству же сомнамбул это наше беспамятство существует только для нашего земного лица, которое и понимается Плотином, когда он в следующих словах говорит, что от нас скрыто одно из наших существований:
Но эта деятельность остается скрытой не от всей его самости, а только от одной из ее частей подобно тому, как восприятие нами впечатлений от совершающейся в нас вегетативной деятельности не осознается только той частью нашего существа, способность восприятия которой обусловлена чувствами.
Его мистика — плотиновская: лишенная грубой материальности религиозных культов и всех элементов черной и белой магии с их чародейством и колдовством. Да, он не отрицал магии, но не магии чернокнижников, а магии как взаимной симпатии, очарования единичного (человека) и целого (Бога): «истинная магия внутренне присуща целому».
Как выдающийся педагог Плотин был чужд методу навязчиво-дидактического внушения собственных идей. Его метод — диспут, активный спор, уважение к мнению ученика. Он уже вовсю пользовался методом проблемного обучения. Плотин не был сторонником жесткой и абсолютной теории, он был учителем-практиком в кипучем центре сложного, полного событий мира, и это наложило неизгладимый плюралистический отпечаток на его пропедевческую мистику.
Тысячелетиями будет воздействовать он на культуру, и это трансцендентное влияние, идет ли речь о Едином, личности, времени, вечности или красоте, будет главным истоком новалисовского романтизма, боэциевской поэзии, гофмановской прозы, бергсоновской философии.
ФИЛОСОФИЯ ПЕРВОНАЧАЛ
Плотиновские Э н н е а д ы, или Д е в я т к и — образец наиболее чистой и абстрактной трансцендентности, мягко льющаяся поэзия восхождения к Первоединому. Вряд ли есть более пластичный, музыкальный и вдохновенный идеализм, нежели Э н н е а д ы. Удивительное, развитое, родниковое чувство абстрактной красоты.
Плотин находит свое абсолютное Единое, которое расположено по ту сторону сознания, по ту сторону жизни, по ту сторону бытия, которое нельзя определить с помощью понятия, нельзя познать... Следовательно, оно есть несуществующее, правда, не такое, как вещи чувственного мира, которые еще обладают видимостью бытия, но и не такое, как материя, которая является просто несуществующим.
В мистицизме Плотина — нам предстоит убедиться в этом — нет ничего мрачного или враждебного. Плотин, скажет историк, последний религиозный учитель на много веков, кому может быть дана такая характеристика.
Центральный вопрос теософии Плотина: как многое произошло из Единого? И почему — из Единого? Потому что идеальное первоначало, истинно-сущее бытие, должно быть абсолютным и простым. Чем сложнее бытие, чем больше элементов оно содержит, тем далее отстоит от истинно-сущего бытия. Итак, «многое происходит не от многого, а от немногого» — чисто эволюционистский постулат.
Единое Первоначало не только противоположно множественному и разнообразному, но есть полное их отрицание: «Оно не может быть квалифицировано, нельзя даже сказать, что оно есть само по себе, но только, что оно не есть».
Единое есть всё и ничто, ибо начало всего не есть всё, но всё — его, ибо всё как бы возвращается к нему, вернее, как бы еще не есть, но будет. Как же оно [возникает] из простого единого, если в тождественном нет какого-либо разнообразия, какой бы то ни было двойственности? Именно потому, что в нем ничего не было, всё — из него и именно для того, чтобы было сущее...
Что же такое [единое]? Потенция всех вещей. Если бы ее не было, то и всё не существовало бы, не существовал бы и ум, первая и всеобъемлющая жизнь. А то, что находится выше жизни, есть причина жизни. В самом деле, не активность жизни, которая есть всё, есть первая [жизнь], а сама она как бы истекает, словно из источника. Представляй себе источник, который [уже] не имеет другого начала, но который отдает себя всем потокам, не исчерпываясь этими потоками, а пребывая спокойно сам в [себе].
Так как ум прекрасен, даже прекраснейшее из всего, покоится в чистом сиянии и охватывает природу сущего — наш прекрасный мир есть лишь тень и отражение ума; так как он покоится во всем блеске; так как он живет блаженной жизнью, — то изумление должно охватывать видящего его, подобающим образом проникающего в него и становящегося с ним одно.
К. дю Прель:
Когда Плотин говорит, что первообразов столько, сколько отдельных существ, то этим он говорит, что бессознательным в человеке служит его трансцендентальный субъект; когда он говорит, что наше самопознание бывает двояким: познанием нами нашей души и познанием нами нашего духа и что в последнем случае мы познаем себя совсем другими, то это служит с его стороны признанием того, что самосознание наше не исчерпывает нашего существа; когда, наконец, он говорит, что наше соединение с умопостигаемым нами возможно для нас путем отрешения нашего от внешнего для нас мира, путем самоуглубления, но что в таком состоянии мы можем пребывать на земле только краткое время, что в нем не может находиться продолжительное время никакой экстатик, то он имеет в виду наш сомнамбулизм, который показывает, что хотя мы и можем предоставить нашему трансцендентальному субъекту условия обнаружения им его деятельности, но что сама эта деятельность не подлежит нашей воле, что, напротив, она предполагает в нас пассивность воли и сознания. В основе сплошь да рядом употребляемого стоиками наименования души человека его демоном лежит та мысль, что так называемое вдохновение приходит к нам от нашего трансцендентального субъекта. Вместе с тем, когда в одном месте говорит Гаман, что «не у человека разум, а у разума человек», а философ на троне цезарей, Марк Аврелий, постоянно определяет бытие в себе нашей души, как общение ее с находящимся в ее недрах демоном, то тот и другой высказывают догадку, что исходящие из нашей трансцендентальной области импульсы нашей воли и акты нашего представления могут поступать в наше чувственное сознание. Возьмем ли мы архея Парацельса, homo internus ван Гельмонта, homo noumenon, умопостигаемый субъект Канта, наконец, перво-я Краузе — общий смысл всех этих выражений состоит в том, что сущность человеческого существа должна быть понимаема не в пантеистическом, а в индивидуалистическом смысле, т. е. в таком, в каком она понимается в общепринятом учении о душе.
Прикоснувшись к животрепещущей мистике Плотина, зададимся вопросом: откуда это? какой опыт, какая логика, какое созерцание ведут сюда?
Возвыситься до таких понятий можно тремя путями, отвечает мэтр, — музыкой, наслаждением прекрасным и философией. (Первые два — подготовка к третьему). Философ — созерцатель высших начал, творец чистых форм. Он не изучает, он — зрит. Этим своим видением он приобщается к невещественному миру.
Мышление структурировано, оно содержит рассудок и ум. Рассудок имеет дело с существующим, ум — с тем, что выше его. Ум питает душу истиной и учит благу.
Пройдут века, и другой гений — Толстой — скажет: религиозное чувство противоположно чувству правды и рассудку. Оно есть чувство личного, любви и спокойствия. Так что истина Плотина — это вовсе не правда бытия, но высшая, религиозная, личная правда. Не прочувствовав этого, понять Плотина невозможно.
Онтология, или, лучше сказать, сотериология *, Плотина — это самоизлучение единого первоначала, его переход (эманация) от высшего к низшему, от более совершенного к менее совершенному. Отпадение души от Первоединого приводит ее к материи, от которой она безуспешно жаждет освободиться.
Первоначал три: высшее благо, ум и всеобщая душа.
ВЫСШЕЕ БЛАГО
Учение о высшем благе — самая отвлеченная часть Э н н е а д. Первое начало, хотя и не имеет доступных наблюдению свойств, есть факт и действительно существует. Почему? Потому, что всё существующее произошло от чего-то и восходит к нему. Причина происхождения интеллекта не может заключаться в самом умственном мире, она должна быть выше его — в мире мысленном, а сам мысленный мир, как мир сложный, должен иметь простую причину.
У единого первоначала нет свойств, ибо свойства предполагают разнообразие. К нему не применимы ни категории, ни утверждения, ни причинность. Оно не может быть даже названо, тем более — быть сущим. Существовать — значит иметь образ, а первое начало суть нечто, превосходящее сущность. Оно неисследуемо, ибо неуловимо. Оно бесконечно, Ґpeirou, ибо нет ничего другого, что могло бы служить ему пределом. Оно вездесуще, и если мы хотим зреть его, то нам нет нужды искать, но, приготовившись к созерцанию, ждать в молчании его проявления.
Оно вневременно, по своему существу оно есть Эон, предвечное. Оно проще ума, ибо ум рождается от него, а рождающее всегда проще рождаемого и выше его. Оно всеедино и всепросто, то есть в нем отсутствует что-либо инородное, чуждое первопростоте. Оно выше бытия и сущности, ибо сущность есть форма, а форма конечна.
Как начало всего, первоначало есть сила, производящая всё — самая совершенная и могущественная из сил: источник всех рек, корень всех дерев, эманация всех действ.
Единое первоначало не имеет ни воли, ни хотения, ни мышления, ни самосознания. — Наличие последнего привело бы к двойственности, различию между предметом сознания и сознающим.
Кстати, идея неопределимости первоединого и его символ — молчание — удивительно созвучны идеям дзэн, как они выражены в Л ю ц з у т а н ь ц з и н:
Структура мира предстает в «Люцзу таньцзин» Хуйнэна весьма поэтично. Бескрайняя гладь единой субстанции вбирает в себя множество потоков, бурлящих волнами страстей и суеты мирской. Истинный дух, подобный земной тверди, — единственная опора человека. Правит землей — духом и телом — изначальная природа (синь). Истинная мудрость (праджня) уподоблена ливню, сильные потоки которого сокрушают слабых духом, словно цветы и травы со слабым корнем, и наполняют еще большей силой людей сильных духом, подобных деревьям с крепкими корнями. Заблуждения и ереси человеческие уподоблены туману, застилающему свет солнца — мудрости. И лишь ветер просветленности может рассеять туман заблуждений и дать солнцу возможность сиять мудростью вновь.
Согласно дзэн, есть только единое, оно не состоит из частей и не есть целое, поскольку оно не имеет частей; единое не имеет ни начала ни конца, так как они были бы его частями; единое неограниченно и беспредельно, оно никак не оформлено (форма, цвет), оно нигде не пребывает ни во времени, ни в пространстве; единое не отлично от себя и не тождественно с другими; оно не причастно к существованию, оно лишь «потенция существования». Оно ни то, ни другое, ни третье. Оно имманентно всему, ибо всё едино. Единое первоначало неименуемо, непознаваемо, его знаком является молчание. Оно всегда становится, а не есть.
Категории шуньята и татхата связаны с двуединой сущностью абсолюта-единого. Как только единое начинает осмысляться, оно может осознаваться как сущее — татхата, — но только тогда, если тут же мыслится и не-сущее — шуньята. Единое, явленное в своей двуединой сущности, — это абсолют, в котором всё возникает, пребывает и прекращается...
Откуда все эти потрясающие параллели в столь далеких культурах — вот вопрос...
Первоначало сверхразумно. Поднимаясь выше сущности и мышления, пишет Плотин, мы уже не встретим ни того ни другого, но придем к чему-то высшему сравнительно с ними, к чему-то дивному, что к ним не причастно, но обособлено само по себе и не нуждается ни в чем, из него происшедшем. Первое начало существует до всего сущего и, следовательно, до ума. У него нет ничего, что оно могло бы знать, а, следовательно, и ничего, чего бы оно не знало. Мышление само не мыслит, но есть причина его; причина же — далеко не то, что происходит от первоначала: так и первая причина не может быть мыслящей.
Первое начало есть совершенное благо, само добро. Благо — не его качество, а его первосуть. Благо тождественно Первоединому. Единое и есть благо. Как благо, оно ни в чем не нуждается. Плотиновское благо не нравственно, а метафизично или эстетично — это совершенство. Оно ни к чему не стремится, и у него нет целей. Оно всеосвежающее сияние. Оно выше нравственности и красоты, ибо творит их из себя.
Первоначало столь высоко, что наш язык бессилен назвать его именем, а наш ум проникнуть в его сущность. О нем нельзя сказать даже того, что оно существует: оно не нуждается в бытии.
Но если оно абсолютно и недоступно, откуда мы знаем о нем? Это нам неведомо.
Здесь-то у Плотина и возникают понятия вдохновения и энтузиазма. Это — то, что приводит нас в то особое состояние, когда мы способны созерцать неведомое. Мы не знаем, что оно такое, но посредством интуиции становимся причастны высшему, хотя и не сознаем, чему.
Мы можем иногда приобщиться к нему, хотя не способны выразить его, подобно тому как люди в состоянии энтузиазма или вдохновения чувствуют в себе присутствие чего-то высшего, но не способны бывают дать себе отчет; они обыкновенно и другим говорят, что ими нечто высшее движет, значит, имеют сознание или чувство этого высшего движущего в отличие от себя, хотя и не могут выразить его.
Это, возможно, одна из самых глубоких плотиновских идей: мы вдохновенны и проникнуты божеством. Знание экстатично — оно приходит как откровение. Судя по его философской поэзии, сам Плотин часто впадал в экстаз. Во всяком случае, шестая часть Э н н е а д — В о с х о ж д е н и е к е д и н о м у, или Э к с т а з — проникновенна.
Плотин действительно развивал учение Платона об идеях, но его идеализм более чист, доводы против материи виртуозны, а концепция соотношения души и тела яснее и богаче, чем концепции Платона или Аристотеля. Но самое глубокое впечатление производит духовная возвышенность и нравственная чистота его духа, искренность, с которой он излагает предмет мистической веры, а также мягкое повествование о том, во что и как он верит — «Что бы ни думали о нем как о философе-теоретике — не любить его как человека невозможно».
Плотин не любил распространяться о своем телесно-пространственно- временном существовании или превратностях, мира, в котором жил, и хотя говорил, что ему стыдно иметь тело, никогда не противопоставлял дух плоти. С присущей ему мягкостью и возвышенностью Плотин избегал всего, что отвлекало от Блага и Красоты.
Тексты Плотина не всегда внятны — экстатический энтузиазм и самоуглубленность делали излишними, заботы о стиле» Он скорее абстрактный, нежели эзотерический мыслитель, максимально удаленный от утилитарности и телесного мира вещей.
Плотиновские Э н н е а д ы — образец чистой и абстрактной трансцендентности, мягко льющаяся поэзия восхождения к Перводиному, пластичный, музыкальный и вдохновенный идеализм, настоянный на родниковом чувстве абстрактной красоты».
Метафизика Плотина неотделима от теософии, начинаясь со святой троицы: Первоединый, ум, душа — духовные состояния, идущие по нисходящей.
Плотин находит свое абсолютное Единое, которое расположено по ту сторону сознания, по ту сторону жизни, по ту сторону бытия, которое нельзя определить с помощью понятия, нельзя познать… Следовательно, оно есть несуществующее, правда, не такое, как вещи чувственного мира, которые еще обладают видимостью бытия, но и не такое, как материя, которая является просто несуществующим.
Первоединый присутствует, не нуждаясь в приходе, Он нигде и везде. Он неопределяем, поэтому о Нем лучше молчать: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Единственное, что более или менее проступает сквозь мистический туман, так это что Первоединый предшествует благу и красоте.
Вторая ступень плотиновского тринитаризма — нус, ум, дух. Это — закон бытия, верховная причина существования, логос, источник интеллектуальной жизни и чистая энергия. Всем этим мог бы быть Первоединый, но Он столь далек от соприкосновения с сущим, что для этой цели необходим посредник, нус — Нус — видение Первоединого, свет, благодаря которому Первоединый дает увидеть себя. Дабы познать божественный разум, надлежит изучить собственную душу, когда та богоподобна. Нус — это отрешение от тела и той части души, что его формирует, от «чувств с желаниями и импульсами и всеми подобными тщетными чаяниями». То, что после такого отрешения останется, есть нус, образ божественного интеллекта.
И все мы стоим в таком же отношении к верховному существу: когда мы всецело устремляемся к нему чистой мыслью ума, то чувствуем, что он есть внутреннейшая основа самого ума, начало сущностей и всего истинно сущего, что он выше, лучше, совершеннее всего сущего — выше чувства, выше разума, выше ума, что он есть виновник всего этого — не будучи ничем из всего этого.
Иными словами, когда мы «вдохновенны и проникнуты божеством», у нас появляется шанс увидеть не только нус, но и Первоединого: «По мере того как Ум смотрел на Единого, его неопределенное влечение становилось определенным, бессознательное наполнялось мысленным содержанием, смутное зрение превращалось в видение». «Душа остается без света, когда лишена присутствия Божия; когда же Бог озаряет ее, она достигает того, чего ищет. Истинная цель существования души нуса в том и состоит, чтобы быть в общении с этим светом, созерцать этот свет через него самого...».
Единое — просто, Ум — сложен, синтетичен, множественен. Созерцание Ума есть причина идей. Энергия созерцания наполняет Ум идеями, и в этом состоит творчество. Идеи совершенны и возникают из чистого созерцания, как бы истекают из самой природы Ума. Через идеи освобождается энергия Ума, а сами они есть первообразы вещей. Как ремесленник должен иметь мысленный образ сапога, по которому его производит, так в природе существуют первообразы, по которым творятся предметы. Идеи совершеннее первообразов: идея человека выше действительного человека. Несовершенства — от материи, плоти.
Существует иерархия идей, построенная по степени их совершенства. Множественность идей и их иерархия — основы плюрализма мира. Умственный мир, как и Первоединое, внеприроден и вечен. Он извечно пребывает в себе. Он целен и неразделен.
Плотиновский Нус — это уже почти современная постановка проблемы сознания — чистое самосозерцание, рождающее самое себя. Насколько человек хозяин своей мысли? Какова власть души над умом? Как мыслящее искажает мыслимое? Можно ли отождествить содержание мышления с его формой? — вот круг вопросов, которые возникают в этой связи.
МИРОВАЯ ДУША
Душа есть третье начало, происходящее от Ума, — следующее звено, связующее мир с высшим Первоначалом. В сфере идей мир совершенен, но идеям недостает жизни. Ряд начал не может завершиться ими. Дабы понять бытие и мир, необходимо начало, дающее ключ к реальному миру со всеми его совершенствами и пороками. Это начало — Всеобщая душа.
Имея совершенства, одинаковые с Умом, она соединяет Ум и мир. Она есть образ Ума, вынесенный вовне. Рождая душу, Ум пребывает в себе, ничем не умаляясь. Как и Ум, душа неколичественна, внепространственна и вечна. Но она менее совершенна и потому способна соприкасаться с чувственным миром, который оттого и возникает, что душа нисходит до материи и, соединяясь с ней, дает происхождение чувствам.
Всеобщая душа несвободна — потому мир несовершенен. Душа — Плотин решительно настаивает на этом — действует ненамеренно, только в силу своей природы, у нее нет другого руководства. Просветленной своей стороной душа обращена к Уму, темной — к миру.
Из Всеобщей души происходит разнообразный мир душ: небесная душа, души звезд и планет, человеческие души. В мире всё одушевлено и живет в зависимости от Всеобщей души. Всё сущее — следствие стремления низшей и худшей части души к соединению с материей.
В отличие от гностиков, Плотин не считает видимый мир злом, земной мир прекрасен и является обителью благословенного духа. Просто в иерархии идей он расположен, в самом низу. Чувственный мир настолько хорош, насколько это возможно для земного мира. У Плотина великолепно развито эстетическое чувство, он остро ощущает и художественно передает красоту вещей:
Кто из тех, кто действительно воспринимает гармонию царства интеллекта, не сможет откликнуться на гармонию, заключенную в воспринимаемых чувствами звуках, если он имеет склонность к музыке? Кто из геометров или занимающихся арифметикой не найдет удовольствия в созерцании симметрии, отношений и принципов порядка, наблюдаемых в видимых вещах? Посмотрите даже на произведения живописи: те, кто рассматривает произведения живописи телесными очами, не видят одинаково одну и ту же вещь; они глубоко взволнованы, узнавая объекты, изображающие для глаз присутствие того, что лежит в идее, — и тем самым призваны к воспоминанию истины, к тому самому переживанию, из которого возникает любовь. И вот, если вид красоты, превосходно воспроизведенной на поверхности, торопит ум к иной сфере, без сомнения, никто, взирающий на прелесть, щедро изливающуюся в этом мире чувства, на всюду распространенный порядок, на форму, которую выказывают звезды даже в своей отделенности, — никто не может быть столь тупым, бесстрастным, чтобы это не вызвало у него воспоминаний, не может не быть охваченным почтительным благоговением при мысли обо всем том столь великом, возникшем из этого величия.
После сказанного легко понять А. Камю, не обнаружившего в плотиновском логосе дискурса:
С Плотином разум из логического становится эстетическим. Мета-форма заменяет силлогизм.
В качестве средства против собственной меланхолии Плотин выбрал чистоту, вечность и непротиворечие. В его мистицизме нет ничего мрачного или враждебного жизни и красоте. Но высшая красота, позволяющая преодолеть абсурд и тревоги существования, заключена в бессмертной душе.
Задача духа в этом мире форм и смерти, возникшем благодаря бракосочетанию души и материи, обрисована совершенно ясно и четко. Миссия его состоит в том, чтобы пробудить в душе, самозабвенно отдавшейся форме и смерти, память о ее высоком происхождении, убедить ее, что она совершила ошибку, увлекшись материей и тем самым сотворив мир; наконец, усилить ее ностальгию до такой степени, чтобы в один прекрасный день она, душа, полностью избавилась от боли и вожделенья и воспарила домой...
Плотин доводит до конца платоновскую идею активности души и пассивности материи: материя возникает по формам душ, то есть вечных сущностей. Через внутреннее влечение душа входит в созданное ею тело, позволяя ему созерцать вечные сущности, творить музыку жизни, — управлять тем, что ниже ее. За исключением редких людей и редких моментов, душа остается прикованной к телу, затемняющему истину и ясный свет мира духа.
Плотин не говорит, что сотворение было ошибкой, но оправдывает акт творения, несмотря на то, что тело — темница для души. Философская доктрина «лучшего из миров» восходит к Плотину, но в его интерпретации имеет иной вид, нежели у прозелитов-материалистов. Телесный мир — лучший из мыслимых миров, потому что — копия вечного мира и как таковая обладает красотой, возможной для копии.
Спрашивать, почему душа создала космос, значит спрашивать, почему существует душа и почему творец творит. Вопрос включает также начало вечного и далее представляет творение как акт изменчивого сущего, которое от одного переходит к другому.
Те, кто думает так, должны быть научены (если они захотят согласиться с такой поправкой) тому, что касается природы божественного, и вынуждены прекратить подобное богохульство в отношении величественных сил, которые так легко приходят к ним туда, где все должно быть почтительным сомнением.
В управлении вселенной нет основания для подобных нападок, ибо оно дает ясные доказательства величия интеллектуального рода.
Это «всё», которое пришло в жизнь, — не аморфная структура, как те низшие формы внутри нее, которые рождаются ночью и днем из обилия ее жизненности. Вселенная — это жизнь организованная, эффективная, сложная, всеобъемлющая, показывающая непостижимую мудрость. Как же тогда может, кто-либо отрицать, что она — это чистый, чудесно сформированный образ интеллектуального божества? Без сомнения, это копия, а не оригинал, но это его подлинная природа; она не может быть одновременно символом и реальностью. Но сказать, что это — неадекватная копия, было бы неверно: ничего не осталось из того, что может включить прекрасное воспроизведение в пределах физического порядка.
Подобное воспроизведение по необходимости должно там быть, хотя и не путем умышленных ухищрений, ибо интеллектуальное не может быть последним из вещей, но должно совершать двойной акт: один — в себе самом, и другой — изливающийся; там должно быть тогда нечто более позднее, чем божественное, ибо только вещь, которой кончается вся сила, не может опуститься ниже чего-то [в] самой себе.
Таков ответ Плотина гностикам, унаследованный затем христианскими философами; творение необходимо Творцу для самовыражения, хотя оно только земная часть высшей, божественной красоты. Moжно сказать, что философия Плотина — тоска до небесной чистоте, попытка облечь видение вечной красоты в формы бестелесного слова, предвосхищающего дантовское описание Рая.
Плотин обладал живым чувством абстрактной красоты и способностью выразить это чувство с потрясающим поэтическим красноречием:
...не подобает высочайшему приближаться или открываться нам ни посредством чего-либо бездушного, ни даже сразу посредством души... он открывает свое приближение тем, что ему предшествует как великому царю самая высшая неизреченная красота... Таково уже устройство вещей, что желающим приблизиться к нему на пути встречаются прежде всего вещи или существа низшего порядка, а потом, чем дальше, тем все высшие и достойнейшие, подле же и вокруг самого царя — самые высшие, царственные, или по крайней мере близкие к его царской природе, и, наконец, лишь за этими появляется вдруг сам высочайший царь, и тогда его славословят и ему молятся издали все те, которым не удалось выдвинуться вперед, довольствуясь близким созерцанием лишь предстоящих ему и окружающих его.
Боги все возвышенны и прекрасны, и красота их бесконечна. В чем же лежит источник этой красоты? В разуме или, вернее говоря, в том разуме, который проявляется в них...
Жизнь течет там легко и свободно: истина служит им матерью и кормилицей, источником бытия и питания, и они созерцают все не как существа, находящиеся в процессе становления, а как существа сущие и видят себя в других. Там все ясно и прозрачно; нет ничего темного или недоступного взору. Каждый может быть там до дна постигнут другим без всяких препятствий, ибо принципом там служит положение «свет к свету». В каждом индивиде там заключается все и, наоборот, он созерцает все в каждом другом индивиде. Поэтому все и каждое там находится повсюду, и поэтому там царит неописуемое сияние. Все там велико — даже малое. Солнце воплощает в себе совокупность небесных светил, и наоборот: каждое светило является солнцем и заключает в себе все остальные. За одним светилом скрывается другое, и все они проявляются вместе.
Можно только восхищаться тому, что эти строки написаны за тысячу лет до Б о ж е с т в е н н о й К о м е д и и и за полторы тысячи лет до Киркегора, призвавшего людей смотреть больше внутрь себя, нежели на внешний, пусть и прекрасный, мир. Ибо когда мы всматриваемся в себя, мы приобщаемся к божественному «нусу», а когда смотрим вокруг, видим несовершенства ощущаемого мира.
Плотин — великий мистик, не скрывавший благодатности субъективизма и видевший во «внутреннем зрении» единственную возможность приобщиться к тому миру, к которому его так влекло, — к небесной чистоте невещественного бытия. В истории человеческой мысли, в европейской традиции не так уж много духовидцев, которых можно поставить рядом с ним и к кому так подходят слова Сульпиция Севера:
Кто часто бывает среди людей,
того не могут посещать ангелы.
Материя — в этом весь Плотин! — темница души. Материя имеет только отрицательные качества, она низменна, равнодушна и безучастна к переменам. Она ничего не претерпевает при изменении вещей. Тело может разрушаться, она остается неразрушимой. Материя непознаваема, и всё, что бы мы ни высказывали о ней, будет домысел. Наше воображение способно фантазировать, а не проникать в нее. Материя — почти одно только предположение. Это — за без малого две тысячи лет до философской феноменологии и до физики кварков!
Учение Плотина о романе души и о бракосочетании души и материи, хотя и восходит к орфическим мифам, подчеркивает и расчищает в них то, что было сокрыто или недопонято — идею гуманизма. Сотворению человека предшествовала божественно-светоносная душа, вдохнувшая затем свою лучезарность в материю. Добро в человеке заложено в него при творении — светоносностью праначал.
Очень древняя традиция, возникшая на почве правдивейшего самоощущения человека и воспринятая религиями, пророчествами и сменяющими друг друга гносеологиями Востока, Авестой, исламом, манихейством, гностицизмом и эллинизмом, связана с образом первого или совершенного человека, древнееврейского adam gadmon; его нужно представить себе юношей из чистого света, созданным до начала мира как символ и прототип человечества; образ этот разные ученья и преданья варьируют, но в самом существенном они совпадают.
По смыслу их в начале начал прачеловек был избранником Бога и борцом против проникавшего в новосозданный мир зла, но потерпел поражение, был скован демонами, заключен в материю и оторван от своего корня; правда, второй посланец божества, который таинственным образом был тем же самым избранником, высшей его частью, освободил узника от мрака телесно-земного существования и вернул его в царство света, однако частицу собственного света тот вынужден был оставить, и она пошла в ход при создании материального мира и земных человеков. Этим-то и объясняется двойственная человеческая природа, нераздельно соединяющая в себе признаки божественного происхождения и органической свободы с тягостной прикованностью к дольнему миру.
Получается, что душа, то есть прачеловеческое начало, была, как и материя, одной из первооснов бытия и что она обладала жизнью.
ЭТИКА
Этика Плотина отвечает на вопрос о цели жизни и путях ее достижения. Истинное благо — совершенная жизнь, тем более совершенная, чем богаче природа. Верховное благо, ответственное за личное, находится вне человека и является источником всех благ. Оно выше добра, красоты и ума, ибо производит их. Как человек может приблизиться к добру и осуществить его в своей жизни? Путем добродетели. Чтобы приобщиться к добру, человек должен приучить себя к нему с тем, чтобы путем последующего очищения-катарсиса подняться до такой ступени развития, когда главной его мыслью станет уподобление Богу. Здесь возможен экстаз, с помощью которого достигается максимальная степень обладания высшим благом.
Чувственная жизнь, то есть жизнь тела, есть только образ высшей жизни. Человеческие пороки связаны не с тем, что душа склонна грешить, но со свойствами тела. Нравственный долг — подавлять зло плоти. Душа лишь тогда станет совершенной и доброй, когда будет ориентирована на высшее благо безо всяких препятствий. Катарсис — освобождение души от уз плоти. Человек обязан не отягощать душу вожделением и устранять всякое беспокойство. Если же оно неизбежно, то переносить его должно спокойно и стойко. Очищение души влечет за собой очищение тела.
Высшая стадия очищения — стремление уподобиться Богу. Как? Стать выше всего, что есть плоть, жить жизнью небес. Как? Путем высшего вдохновения. Даже боговидец Плотин не находит слов для описания этого состояния. Здесь человек как бы превращается в покой и являет собой созерцание вечного света. Это состояние не есть чистое мышление или чистое зрение, но — слияние с созерцаемым, неизреченное видение, нирвана. Это даже и не видение, а исступление, уединение, самоотречение, покой, некий особый вид верховного энтузиазма. Экстаз этого рода — изобретение Плотина. Эллинизм, античность были слишком жизненны, дабы подняться до него.
Плотин, как затем Августин и Аквинат, понимал, что зло не существует само по себе. Оно — другая сторона добра. Сон доброго рождает чудищ, и одолеть их можно, только восстановив цельность добра, то есть обратившись к Богу.
Интересно плотиновское решение проблемы свободы. Он не отождествляет свободу с произволом: свобода есть свобода добра. Зло же — доказательство не свободы, а полного оной отсутствия. Свобода — побуждение ума, стремящегося к добру. Зло не может быть свободным. Зло — рабство, добродетель — свобода (вот вам и Кант!). Свобода — категория Ума. Ее следует искать не в действии, а в мышлении о добродетели.
Смерть для Плотина не есть зло — ведь душа вечна. Смерть есть благо, освобождающее душу от тела. Но насильственная смерть или самоубийство есть зло. После смерти каждой душе воздается должное.
ЭСТЕТИКА
Эстетика Плотина коренным образом отличается от платоновской. Цель искусства — отвлекать людей от Цирцеи чувственности и обращать их взор к высшей внутренней духовности. Материальная сфера искусства мало трогала его: красота вела его не к миру, а от него. Страстно желая обрести красоту, учил он, мы тем самым стремимся к благу, к истине и к Богу. Красота есть воплощение идеи. Искусство не может быть подражанием, поскольку руки и голова художника создают больше того, что видят очи. В душе Фидия заложено нечто более великое, чем копия. Прекрасным делает лицо жизнь души, а не плоть. «В голове художника форма оказалась вовсе не потому, что у него есть глаза и руки, но потому, что ему присуще искусство».
Предметы искусства появляются на свет как бы из созерцания художника. Они — материализованный дух. Высшее произведение искусства — сам человек. Но чтобы стать им, надо работать и работать, полируя и шлифуя свою личность — только так человеку и художнику дано «стать самим видением». А стать им — значит приобщиться к тому творчеству, которое осуществляет душа природы. Источник творчества — мистическая самоуглубленность. Затем это повторит Шефтсбери.
«Бегство в милую отчизну» — это не только уход в мир духа, но и новое восприятие цвета и звука в состоянии вдохновения. Не только само творчество Плотина высокохудожественно, но восторженный трепет, о котором и в состоянии которого он творил, есть состояние художническое, открывающее творцу мир чистой красоты.
Духовный катарсис, к которому он многократно звал, — не только путь к Единому, но и средство высшего проявления человека-творца; неудивительно, что Плотин имел пред своим мысленным взором детали храма Изиды на Марсовом поле.
ТЕОСОФИЯ
Теософия Плотина неотделима от его метафизики. Первое начало и Бог — одно. Бог есть Эон, сам себе давший бытие, вечный, всегда себе равный, неподвижный и неизменный.
Творя мир, Бог следовал своей природе, а не образам, какие ему могли представиться, ибо тогда выходило бы, что он творил как ремесленник. Творение есть акт не произвола, а, наоборот, — Божьего провидения. Провидение занимает важное место в учении Плотина. Оно — всеобщий закон, определяющий место существа в мире, его сообразность природе и круг его действий. Еще провидение есть судьба, предопределение.
Другие мистики искали таинств в природе и, не находя, навязывали их ей. Плотин вывел таинства за ее пределы. Мистический опыт Плотина лежит вне логики, хотя он прекрасно владеет дедукцией и силлогизмом. Но величайшим откровением Плотина, как и Будды, было отрицание применимости рассудка к Мировому целому. Недоказуемость Бога — это его идея!
Хотя идея зла обычно подпадает под юрисдикцию этики, у Плотина она ближе к теософии. Как зло уживается с провидением? В отличие от гностиков, видевших причину зла в наличии темного Демиурга, Плотин очищает дух от несовершенства. Дух — лишь добро, благо. Душа становится злою, когда она начинает рабски служить телу.
Зло необходимо. Не будь зла, не существовало бы и добра, учит Плотин, ибо не было бы предмета ни для стремления, ни для отвращения. Стремление всегда предполагает добро, отвращение — зло. Дабы существовало благо, необходима и его противоположность.
Вообще сотворенный Богом мир разнообразен и многосложен, то есть плюрален. Еще — он иерархичен: одни части лучше, другие хуже. Еще — он драматичен. Бог — режиссер, раздающий роли, каждый актер делает свое дело. Многосложное предполагает противоположное. Противопоставив одни части другим, Творец дал повод для конкуренции частей. Он не был злым, осуществляя эту идею, — мир просто не мог быть другим, иерархия и борьба — его сущность.
Видимо, Плотин не питал иллюзий в отношении духовности как неодолимой силы, призванной исправить испорченный мир. Этим я объясняю себе его тринитарность и тягу к бесплотности. Да, дух гармонизирует дух — своим творчеством Плотин доказал это. Но упорядочивает ли он материю? — вот вопрос...
Intelligenti Pauca
...бесконечное море Небытия, о котором мечтал Плотин.
Уоррен
В старину гениальность называли темнотой. Гераклит был темным. И Плотин был темным. И Августин был темным. И Паскаль. И Спиноза. И Кант. И Киркегор. И в наше время любые проявления откровения именуют темнотой.
Все «темные» мудрецы никогда не доказывали свою истину — они «видели» ее. Гений по существу своему бессознателен — он не предоставляет доводов, писал Датский Сократ в Н е с ч а с т н е й ш е м. О, он знает цену аргументам! Шеллинг так и говорил: гениальность — непостижимая, темная сила. У него есть даже теория гения-профана, который творит, не размышляя; не познает, а срывает покров с сокровенного.
Как там у Аристокла? — «Таким образом узнал я, что то, что они сочиняют, не мудростью сочиняют они, а благодаря какой-то прирожденной способности, в состоянии вдохновения».
Intelligenti pauca — понимающим надо немногое. Гениальность — вдохновенная способность постичь целое до его частей, всеобщее до его проявлений. Гениальность как нежданный дар. Гении, писал Гёте, не подчинены ничьей власти и стоят выше всякой земной силы.
То, что наиболее ценно, должно даваться даром. Больше всего гордись тем, что меньше всего тебе обязано.
Я еще много буду говорить об интуиции, о великих физиках и математиках, «видящих» законы и теоремы до опытов и доказательств, о дискуссии Рассела и Пуанкаре, об идеях Бергсона, о внутренних пороках логик, о заблуждениях, пролагающих новые пути. Великий физик де Бройль говорил, что даже заблуждения гения не менее поучительны, чем его открытия. Сегодняшняя ошибка проникновенного ума может оказаться завтрашней истиной.
А сегодняшняя истина?
Кстати, об истине. Сегодня мы знаем, что человеческое знание устроено далеко не так примитивно, как нас учили «отцы-основатели», что истина личностна, вдохновенна, парадигмальна, что быстро развивается лишь конкурирующее знание, что даже лауреаты Нобелевских премий чаще всего появляются там, где «всё дозволено», что тоталитаризм подавляет не только живых людей, но и спонтанное движение идей, что единственность истины — признак ограниченного ума, что истина бесконечна, иерархична, плюралистична... Впрочем, всё это — предмет самостоятельного рассмотрения, и я к нему еще вернусь.
ВЛИЯНИЯ
Плотин — не только итог платонизма и эллинизма, не только ключ к христианству, но и обильный источник метафизических, психологических, нравственных и эстетических влияний. Кирилл Иерусалимский, Василий Великий, Григорий Богослов, блаженный Августин, мистики средневековья, авторы патриотической литературы многим обязаны идеям Плотина и его методам самонаблюдения, Его этика лежит в основе доктрины истинного блага и путей его достижения. С ним связаны два главных христианских учения: апофатизм, учение о непознаваемом Первоедином, и катафатизм, учение о необходимости познавательных проявлений этого непознаваемого Первоединого.
Влияние философии Плотина на более позднюю мысль — в средневековье, в эпоху Возрождения и даже в наше время — едва ли можно преувеличить. Например, св. Августин почти буквально повторяет многие его места. «Божественная комедия» Данте воплощает в себе схоластику Фомы Аквинского. Но откуда у Данте такое обильное использование образов света и звука для выражения теологической идеи? Расплывчатая доктрина «симпатии» составляет необходимый иррациональный элемент для эстетических теорий на протяжении многих веков; наиболее заметно это у Лейбница и несколько неожиданно, хотя и в более слабой степени, даже у такого сторонника здравого смысла и природы, как Юм.
Плотину же принадлежит знаменитый образ бесконечности, воспринятый Эриугеной, Экхартом, Таулером и доведенный до совершенства Николаем Кузанским и Паскалем: мир — бесконечная сфера, центр которой везде, а окружность нигде. Человек — ничто по сравнению с бесконечностью, всё по сравнению с небытием, середина между ничем и всем, бесконечно удаленная от понимания крайних пределов; концы и начала вещей скрыты от него в непроницаемой тайне. Равно неспособен он увидеть Ничто, из которого извлечен, и бесконечность, которая его поглощает. — Паскаль.
Не затронутая здесь психология Плотина на многие века опередила науку: чего бы он ни касался — восприятия, познания, памяти, — он видел на удивление зорко. Учение Плотина о памяти столь глубоко и проникновенно, что еще ждет своего открывателя, способного связать его с бергсонианством и современной наукой. Кстати, сам Бергсон многим обязан Плотину.
Надо бы подвести итоги. А надо ли? Ведь Плотин навсегда останется вдохновенным и прекрасным. В точных науках имеется принцип: изящно — значит истинно. И опыт здесь ни при чем...
ВРЕМЯ
Без материальных вещей нет пространства, как нет
и времени, ибо время — лишь последовательность
событий, невозможная без наличия тел.
Т. Манн
Пространство не знает времени
Время не знает пространства
Они просто друг друга терпят
Как чета глухих стариков
Что едят из одной
Миски
Из одной памяти
Из одной беспамятности.
Время необходимо Творцу для становления: оно оживляет мир. И когда совершалось творение, оно возникло как его мера.
Если время существует, оно зарождается в недрах материи, а не пространства. О, Боже! — восклицаю по-августиновски. О, Боже, не постигаю времени без материи, времени в пустой бездне. О, Боже, если ты сам не вездесущее-невидимое время, то время — эманация материи, испускаемая ею. И если это так, то, о, Боже, не превратится ли вся материя во время и не будет ли в ином месте из времени твориться материя?..
Время как старение и возрождение материи.
О, Боже, ты наделил нас разумом, ты дал нам интуицию, так отчего не постигаем, откуда и куда несется время и куда нас несет? Жаждем постичь, но не можем, о Боже!
Мое тело затемняет мне истину, и я жажду очутиться Там, где всё ясно и раздельно.
Наверное, ни в чем острый мистический ум Плотина не продемонстрировал своего великолепия в такой мере, как в анализе времени. За полтора тысячелетия до Ньютона Плотин почти буквально предвосхитил его рассуждения об абсолютном времени.
Плотин начинает с критики «ложных учений». Первое «ложное учение» — отождествление времени с движением: «невозможно, чтобы время было движением», ибо движение может мыслиться прерванным, а время — нет. Непрерывность времени движению не присуща. Ложно и учение Аристотеля о времени как числе или мере движения. Во-первых, такое определение — вербально, номиналистично: оно — не более чем название времени. Во-вторых, число равнодушно к предмету подсчета или измерения. Счет времени остается числом, а не временем самим по себе.
Время требует для себя иной меры: непрерывно становящейся, возникающей. Но можно ли найти такую меру для времени? Не возникнет ли снова проблема, что чем определяется — мера временем или время мерой? И вообще: нуждается ли время в числе?
Еще одно «ложное учение» о времени — сопутствующая движению последовательность. Здесь та же тавтология и тот же номинализм, ибо определение не раскрывает природы «сопутствующей последовательности».
Далее Плотин демонстрирует бессодержательность и противоречивость наличествующих определений времени. Но каково же его время? — Естественно, его время духовно: время есть жизнь души, пребывающей в переходном движении от одного жизненного проявления к другому. Оно бесконечно, поскольку есть протяжение вечной жизни бессмертной души. Оно индивидуально, как и душа, и всеобще, ибо порождено мировой душой. Оно есть энергия последней, ибо порождает всю небесную сферу со всеми ее атрибутами и движениями. Это время численно неопределимо и невыразимо, поскольку оно бестелесно и ненаблюдаемо (невидимо и неосязаемо). Не время есть число или мера движения, но движение есть мера времени. Время не порождается движением, но демонстрируется им. Измерение времени движением — не более чем привычка нашего ума, тогда как правильнее называть время измеренным при помощи движения. Первично время, движение вторично.
Время порождено вечностью, именно поэтому оно едино и единственно.
Не существует ли также и в нас время? Несомненно. Оно в каждой душе и едино у всех. Потому и не дробится время, равно как и вечность, которая существует по-разному во всех одновидных сущностях.
Вечность не есть бесконечность во времени, а есть вневременное бытие истинно сущего, не меняющегося со временем.
Вечное есть как бы истинно сущее, вечность есть непрерывающаяся потенция, которая нисколько не нуждается ни в чем, что она уже имеет. А имеет она всё.





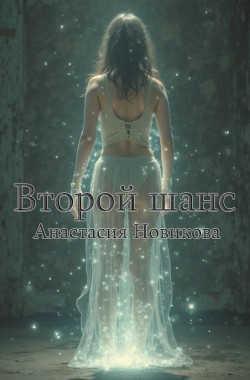

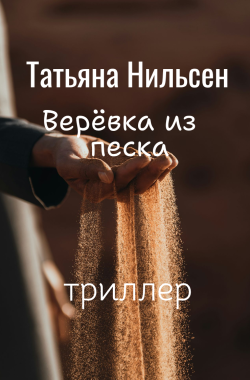



 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что


Комментарии отсутствуют
К сожалению, пока ещё никто не написал ни одного комментария. Будьте первым!