
Ничего нет
К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено.
популярных книг!
-
По жанрам
Жанры
-
По тегам и меткам
Теги
-
По персонажам
Персонажи
- Авантюристы
- Авторские расы
- Вампиры
- Ведьмы
- Гномы
- Добрый волшебник
- Драконы
- Животные
- Злой волшебник
- Зомби
- Исторические личности
- Киборги
- Клирики
- Клоны
- Книжные герои
- Люди
- Маги
- Мифические животные
- Мифические существа
- Мутанты
- Нечистая сила
- Оборотни
- Орки
- Пираты
- Последний герой
- Призраки
- Принцессы
- Пришельцы
- Прогрессор
- Роботы
- Рыцари
- Спаситель
- Старший Брат
- Супергерой
- Существа из прошлого
- Темный властелин
- Чужие
- Шпионы
- Эльфы
Индивидуальная психология Альфреда Адлера
Альфреда Адлера считают учеником Зигмунда Фрейда, хотя еще до знакомства с «отцом психоанализа» А.Адлер сформировал собственные идеи, которые со временем стали основой системы индивидуальной психологии и пошли вразрез с идеями Фрейда. Индивидуальная психология Адлера укрепляла социальные аспекты психоанализа. Фрейд концентрировал внимание на интроспекции личности, Адлер для углубленного понимания природы человека и его мотиваций считал необходимым исследовать всю совокупность связей индивида с миром, социальные отношения, культурные факторы, интересы и чувства, а также способность индивида видеть себя глазами других. Поскольку многие проблемы жизни так или иначе социализированы, индивидуальная психология ставила своей целью помочь человеку осознать общественные ценности и должным образом адаптироваться к ним. Социальный интерес, считал Альфред Адлер, врожден — так же как и стремление к борьбе за собственный статус.
Там, где у Фрейда либидо, там у Адлера — воля к могуществу, «мужской протест». Все страждут стать сильными, утвердить свое «я», любыми средствами добиться превосходства — эти влечения врожденны. Или они торжествуют, или разбиваются о жизнь. Преодоление неполноценности — вот что такое человек.
Еще никто не видел человека, способного съесть кусок хлеба или удовлетворить свое сексуальное желание, не вводя этого акта в сплетение хотя бы сколь угодно элементарных символических цепочек. Но если это так, не нужно искать для внутреннего человеческого универсума тот абсолютный вещественный центр, который мы не ищем для универсума космического, иначе говоря, некоторое предметное последнее «значение», которое само не может обозначать что-то другое. На деле различные стороны человеческого бытия могут взаимно «обозначать» друг друга таким образом, что нельзя сказать, какой из двух полюсов А или В является обозначающим, а какой подразумеваемым: в конечном же счете «имеется в виду» не какой-то один из этих двух полюсов, но факт их соотнесенности. Это весьма наглядно выявилось, между прочим, в контроверзе между Фрейдом и Адлером (на которую ссылается и Юнг): последний, как известно, предложил альтернативную модель, где на место фрейдовской «сексуальности» под всю сумму мыслимой символики подставлялась «воля к власти». Мы можем с некоторым упрощением изобразить суть дела так: если существует простейшая словесная мифологема «овладеть женщиной», то, по Фрейду, мы обязаны сделать из ее наличности вывод, что всякое «овладеть» всегда подразумевает «женщину» (но почему-то ни в коем случае не наоборот!), а по Адлеру — что под «женщиной» всегда кроется стремление «овладеть», утвердить себя (но опять-таки без обратной связи). Правомерность и необязательность обоих толкований лишний раз показывает, что весь смысл ходового словосочетания — именно в регистрации взаимообратимой связи идей, как эта последняя сложилась в итоге социальной эволюции человечества.
Карлу Густаву Юнгу не стоило большого труда показать, что как раз сексуальные мотивы наделены в человеческой психике сложнейшим символическим значением и этому значению — а не чисто биологическим факторам — обязаны своим распространением. В частности, выплывание в мифах, художественных произведениях, снах и фантазиях современных пациентов и т.п. особенно интересовавшего фрейдистов мотива инцеста происходит не просто оттого, что сексуальная энергия тех или иных индивидов оказалась в результате детских впечатлений направленной на их ближайших родственников; идея кровосмешения исторически оказалась связанной с представлением об изначальном и потому «священном» состоянии мира, о божественной экстраординарности. Инцест — это символ нарушения социальной меры, в силу которого личность недозволенным образом мыслит себя сочленом сверхчеловеческого мира богов (поздний Юнг назовет этот случай «Inflation»*).
Во фрейдовской интерпретации мифа об Эдипе нужно все поменять местами, чтобы добиться правильного смысла: Эдип не потому претерпевает свою судьбу, оказываясь носителем экстраординарного знания (разгадка загадки сфинкса) и экстраординарной власти**, что его неудержимо влекло к реализации Эдипова комплекса, но напротив: в убийстве отца и сожитии с матерью мифомышление, в соответствии со своими имманентными законами, обретает символ для характеристики его «выходящего из нормы» бытия.
Мир не морален, а плюрален, всё в нем необходимо: воля к могуществу никак не меньше, чем воля к благу или добру.
Воля к могуществу, любовь к власти, пожалуй, перевешивает все иные мотивы человеческой активности. По крайней мере, первичной движущей силой большинства «делателей истории» (и, возможно, культуры) является приоритет власти над телами и умами людей.
Надо осознать, что власть вездесуща и ото всюду проистекает: мужчина страждет властвовать над женщиной, родители над детьми, учитель над учениками. «Господа-мыслители» И. Фихте, Г. Гегель, К. Маркс, Т. Карлейль создавали свои философские системы под влиянием скрытой воли к господству. По мнению Бертрана Рассела, понятие власти в социологии сродно с понятием энергии в физике:
Подобно энергии, власть имеет много форм таких, как богатство, вооруженные силы, гражданская власть, влияние на взгляды людей. Ни одна из них не может рассматриваться как подчиненная какой-то другой форме власти, и нет единой формы, из которой зарождались бы все остальные.
Я не думаю, что воля к господству или могуществу требует «укрощения», «усмирения» — она нуждается лишь в легитимизации, подчинению закону, она должна быть подконтрольна. Я не разделяю идей Бертрана Рассела и Элиаса Канетти, связывающих власть с насилием и смертью.
Воля к могуществу, устремление человека к господству биологичны по своей природе, по крайней мере в двух отношениях: во-первых, иерархия власти восходит к стаду, стае, неолитическому «отцу», во-вторых, выживание — доминирующий момент власти, которая устроена таким образом, дабы обеспечить неуязвимость, выживаемость властвующих.
По мнению Элиаса Канетти, смерть является идеологией и инструментом власти: смерть — то, чем «питается» власть; власть — то, что паразитирует на смерти и укрепляется смертью; не будь смерти, власти бы не существовало.
Во всех человеческих надеждах на бессмертие есть что-то от страсти выживания. Дело не в том, чтобы просто быть всегда, нужно быть, когда других уже нет. Каждый хочет стать старейшим и знать об этом, а когда не станет его самого, о нем будет напоминать его имя.
Простейшая форма выживания — убийство. Убивают животное, чтобы употребить его в пищу; оно теперь неподвижно и беззащитно, от его тела можно отрезать куски, распределяя себе и ближним. Так же убивают и человека, который, выпрямившись, стоит на пути, противостоит как враг. Его надо повалить, чтобы почувствовать, что ты есть, а его уже нет. Но он не должен исчезнуть вовсе, для полноты триумфа необходимо его телесное присутствие в виде трупа. Теперь с ним можно делать, что угодно, он уже не может принести вреда. Он лежит и навсегда таким останется, ему уже никогда не подняться. Можно забрать у него оружие, можно отрезать часть его тела, сохранив ее как трофей. Этот миг противостояния убитому наполняет выжившего властью совершенно особого рода, не сравнимой ни с чем иным. Нет иного мига, столь мощно взывающего к повторению.
Ибо выживший знает, что мертвых много. Если была битва, он видел, что многие падали вокруг. Он шел в бой, намереваясь одержать победу. Убить как можно больше врагов — это было его заявленной целью, и победить он может только в том случае, если эта цель достигнута. Победа и выживание для него совпадают. Но победитель тоже должен платить. Среди мертвых много его людей. Павшие друзья и павшие враги вперемешку лежат на поле битвы, составляя общую груду мертвых тел. Иногда случается так, что павших с обеих сторон уже не разделить: в одну и ту же братскую могилу идут их останки.
Этим грудам павших выживший противостоит как счастливец и избранник.
Развивая тему власти и смерти, отмечу сложный характер связи между ними: власть в силах сеять смерть среди граждан (война, террор, преследования инакомыслящими т. д.), но и каждый гражданин смертельно опасен для власти, потенциально опасен как убийца. Доминирующее чувство властителя — окруженность врагами. Поэтому власть в любом государстве защищает себя от граждан — сыском, охранкой, телохранителями, службой безопасности. Номенклатура, армия, гестапо, гебе, сегуритате — многоэшелонированная охрана власти от смерти.
Создание оружия судного дня существенно повлияло на ситуацию «власть и смерть», резко повысив уязвимость власти. Ныне власть безнаказанно может вести только чеченские войны. Резко возросшая способность власти сеять смерть в глобальные конфликтах впервые распространилась на саму власть: обладая возможностями уничтожения, которые не снились Чингисхану, Тамерлану, Наполеону, Гитлеру или Сталину, власть расплачивается за глобальный потенциал смерти полной утратой собственной неуязвимости.
Властители сегодня трясутся иначе, как будто они такие же, как прочие люди. Изначальная структура власти, ее ядро и сердцевина — выживание властителя за счет других — свелась к абсурду, лежит в развалинах... Власть сегодня более могущественна, чем когда-либо, но и более проклята, чем когда-либо. Выживут все или никто.
Воля к могуществу так или иначе связана с ориентацией на подавление, насильственность, информированность, изворотливость, притворство, скрытность, хитрость, бесцеремонность, неразборчивость в средствах. Очень важны также харизматические качества — умение манипулировать людьми, гипнотическое воздействие на человеческие массы, культивация страха (любви), психологическое подавление, безжалостность по отношению к нарушителям приказа, вера в собственное призвание, в то, что ты послан или неуязвим для врагов. Важную роль играет также способность поддерживать дисциплину, пользуясь методом кнута и пряника.
Воля к могуществу иррациональна: в том смысле, что не подчиняется доводам разума и что нуждается в особой мистике власти, сходной с религиозными верованиями. Отсюда — богопомазание, таинства и ритуалы власти, ее вознесение над массой (народом), изоляция, мания величия, истерия, достаточно часто — некрофилия.
Сакральный, священный аспект власти — неотъемлемый ее атрибут, дошедший до наших дней и в демократическом государстве выражающийся в стремлении толпы прикоснуться к «народному избраннику», увидеть его живьем, получить награду из рук президента, самому президенту — присвоить себе высшие награды государства. Пребывание на телевизионном экране по многу раз на день — новый символ верховенства.
Власть часто сопряжена с утратой чувства реальности: не только с переоценкой собственной «государственной мудрости», но и с наличием шор, ограничивающих видение или с выдачей желаемого за действительное. Можно утверждать, что в воле к могуществу в той или иной мере присутствует элемент галлюцинации и даже шизофрении: власть — в какой-то мере болезнь, маниакальность, сверхсамооценка, мегаломания.
Представления человека о себе и своей мощи выросли до необычайных размеров, когда он потом столкнулся с бациллами. Здесь контраст был несравненно больше: человек увидел себя еще большим, живущим отдельно, отделенным от других людей. Бациллы, наоборот, были гораздо меньше, чем насекомые, невидимы невооруженным глазом и размножались еще скорее, чем насекомые. Большому единичному человеку противостояла огромная масса исчезающе малых существ. Важность этого представления нельзя недооценивать. Его выработке посвящены главные мифы в духовной истории человечества. Оно стало подлинной моделью динамики власти. Все, что ему противостоит, человек стал рассматривать как тучу вредных тварей. Так он воспринимал животных, от которых ему не было пользы, соответственно с ними и обходясь. Властитель же, низведший людей до уровня животных и научившийся господствовать над ними как низшими существами, низводил всех, кто не подпадал под его власть, до уровня насекомых, уничтожая их миллионами.
Формой воли к могуществу является неуемное честолюбие, стремление к славе и известности.
Элиас Канетти:
Здоровой известности все равно, чьими устами она создается: это безразлично, важно лишь, что произносится имя. Равнодушие по отношению к источникам, а точнее их равенство друг с другом с точки зрения жаждущего известности выдает ее специфику как массового процесса. Его имя собирает массу. Рядом с человеком и в очень малой связи с тем, что он собой в действительности представляет, имя живет своей собственной алчущей жизнью.
Масса стремящегося к известности состоит из теней, точнее, из существ, которым вовсе не обязательно жить после того, как они совершат единственную вещь: произнесут вполне определенное имя. Желательно, чтобы оно произносилось часто, и так же желательно, чтобы оно произносилось перед многими, то есть в неком сообществе, с тем, чтобы другие его запомнили и подкрепили новыми произнесениями. Но что еще будут делать эти тени, их размеры, облик, труд, пища — все это прославляемому совершенно безразлично. Если он беспокоится о произносящих имя ртах, их ищет, подкупает, собирает, принуждает, значит, он еще не знаменит. Он просто еще тренирует кадры для своей будущей армии теней. Слава пришла тогда, когда он позволяет себе забыть о них, ничего при этом не теряя.
Различия между богачом, властителем и знаменитостью заключаются приблизительно в следующем.
Богач собирает стада и груды. Все их замещает золото. Люди его не волнуют, ему достаточно, что их можно купить.
Властитель собирает людей. Стада и груды ему либо безразличны, либо требуются для приобретения людей. Именно в живых людях он нуждается, чтобы послать их на смерть впереди себя или взять с собой. Что касается умерших ранее и тех, кто еще родится, то они интересуют его лишь во вторую очередь.
Знаменитость собирает хоры. Она хочет слышать в них свое имя. Это могут быть хоры мертвых, живых либо еще не живущих — все равно, лишь бы это были огромные хоры, произносящие его имя.
Честолюбие, стремление к славе иррационально и разрушительно: порой оно требует напряжения всех сил и становится смертельно опасным. Энергия, которую расходуют богачи, властители и знаменитости на поддержание статуса, сравнима с природной стихией или войной: пусть гибнет весь мир — да здравствую Я!
Стремление человека к величию, как правило, содержит элемент болезненности: есть какая-то глубинная связь между тщеславием и шизофренией, господством и паранойей: не удивительно, что в психбольницах повышенный процент «великих людей». Впрочем, я, наверное, не ошибусь, утверждая прямо противоположное: среди великих людей психические отклонения тоже превышают среднестатистические. Сказанное в равной мере относится к «пророкам и поэтам», царям и диктаторам. Повторю важную мысль: человечество до сих пор не имеет защиты против «голых королей» и некрофилов с «великими идеалами», опасных своим числом и мимикрией.
Я уже писал о подобии тоталитарного сообщества с первобытным и тюремным. Э. Канетти обнаружил связь между политической властью и безумием, паранойей, шизофренией. На примере «случая Шребера» *, анализа П а м я т н ы х з а п и с о к параноика он выявил множество параллелей в сознании (точнее, бессознательном) маньяка и властителя.
Его [Шребера] безумие, принявшее облик старомодного мировоззрения, основанного на существовании духов, на самом деле есть точная модель политической власти, которая питается массой и из нее же состоит. Любая попытка понятийного анализа власти может только повредить ясности шреберовского созерцания. В нем содержатся все элементы реальных отношений: сильное и беспрерывное притягивающее воздействие, заставляющее индивидов собираться в массу; сомнительность их намерений; их связывание, когда они уменьшаются, становясь частью массы; их исчезновение во властителе, воплощающем политическую власть своей персоной, своим телом; его величина, которая, таким образом, должна беспрерывно обновляться; и, наконец, ...ощущение катастрофичности, угроза мировому порядку, которая обретает собственную притягательность именно по причине этого резкого и неожиданного возрастания.
[Шребер] хочет быть единственным живым посреди гигантского поля трупов, и это поле заключает в себе всех других людей. Этим он обнаруживает в себе не только параноика, это ведь глубинное стремление каждого идеального властителя — стать последним из оставшихся в живых... Властитель посылает людей на смерть, чтобы смерть пощадила его самого, он старается перевести ее на других. Смерть других ему не просто небезразлична: он старается превратить ее в массовое явление. Особенно он склонен прибегать к этой радикальной мере, когда колеблется его власть над живыми. Если он ощутил угрозу своей власти, то желания видеть мертвыми всех перед собой не смирить никакими рациональными соображениями.
[И в жизни, и в паранойе] спаситель мира и владыка мира — это одно лицо. Жажда власти — ядро всего. Паранойя — это, в буквальном смысле слова, болезнь власти. Исследование этой болезни во всех аспектах ведет к таким полным и ясным выводам о природе власти, которых не получить никаким иным способом.
В стремлении к неуязвимости и жажде выживания параноик... оказывается точной копией властителя. Различие между ними заключается только в позиции по отношению к внешнему миру. В своем внутреннем строении они тождественны. Параноик даже сильнее впечатляет, поскольку он довольствуется самим собой и отсутствие успеха во внешнем мире его не смущает. Мнение мира ему ничто, в своем безумии он в одиночку противостоит всему человечеству.
Адлеру принадлежит изобретение понятия «комплекс неполноценности» и идея связи последнего с агрессивностью. Неполноценность может иметь не только биологические, но и психические основания. Неврастеник, испытывающий этот комплекс, пытается «сверхкомпенсировать» свое чувство, например, деструктивностью. Именно в этом может проявляться «воля к власти». У Фрейда тоже было понятие «сексуальной неполноценности», возникающей у женщин, сравнивающих себя с «сильным полом». Адлер выяснил, что в не меньшей мере комплекс неполноценности присущ и мужчинам. В Н е р в н о м х а р а к т е р е он объяснил неврозы этим комплексом и связанными с ним болезненными переживаниями. Подобно тому, как учитель усиливал роль либидо, ученик переоценивал роль неполноценности.
Кстати, расхождения Фрейда и Адлера нередко носили терминологический характер: Адлер даже либидозные переживания толковал с позиция комплекса неполноценности. При соответствующих переобозначениях терминов расхождения сглаживаются или даже исчезают.
Физическое несовершенство действительно способно приводить в движение психические силы компенсации чувства неполноценности, что ведет человека к самосовершенствованию или активизирует творчество, но, с другой стороны, может рождать насильственные импульсы. Компенсация и сверхкомпенсация — важнейшие категории индивидуальной психологии. Компенсация чувства неполноценности может сделать заику Демосфена блестящим оратором, глухого Бетховена — великим композитором и сухорукого Кобу — убийцей миллионов. У великого неполноценность вытесняется сверхполноценностью, у низкого — людоедством...
Адлер ставил под сомнение жесткую причинную обусловленность психического. Психика жестко не определена, инстинкты и импульсы не являются исходными принципами психической деятельности индивида. Как у Канта, у Адлера психическая жизнь человека определяется его целями, но если Кант акцентировал внимание на сознательно формулируемых целях, то по-Адлеру конечные цели связаны с бессознательными механизмами компенсации.
Адлер отказался от примата бессознательного (судьбы) над сознанием (историей). Он призывал учитывать определяющее значение не только прошлого, но и устремленного в будущее «плана жизни». Человеческие вожделения не менее значимы, чем пороки.
Как и Дильтей, Адлер считал, что не все цели осознаны. Для Вильгельма Дильтея важна сама цель, для Альфреда Адлера — стремление к ней. Его цель — фикция, помогающая человеку ориентироваться в хаосе бытия, создающая иллюзию его понимания. Это — типичная концепция фикционализма, философии как если бы.
Конечная цель, писал Адлер, не существует реально, ее невозможно обнаружить раскрытием причинных связей. Но она может быть понята как телеологический план души, нуждающейся в ориентации. Она возникает в психическом органе и может быть понята как проект, как собственная конструкция индивида. Согласно фикциональной телеологии, каждый человек, бессознательно используя философию как если бы, вырабатывает для себя телеологический план действий, собственную руководящую фикцию, которая помогает ему в достижении цели. Но поскольку эта цель смутна и неосознаваема до конца, задача индивидуальной психологии — помочь человеку сделать ее осознанной и тем самым превратить в творческую силу. Для Адлера бессознательное — это еще не осознанное.
Понятие «жизненного плана и цели» предвосхитило сартровскую идею «основного проекта» человеческого существования, выдвинутую в Б ы т и и и Н и ч т о.
Конечной целью вовсе не обязательно является пресловутое стремление к власти и превосходству, экономическое преуспеяние и престиж. Ею может быть стремление к достижению идеала личности, к общественному признанию, к духовному или физическому развитию, вообще — стремление к совершенству, к достижению самости — высшей точки духовного абсолюта. Фрейд тоже указывал на существование подобного стремления: жизнь в этом мире, писал он, служит высшей цели, и хотя эту цель нелегко разгадать, но, по всей вероятности, она сводится к усовершенствованию человека.
Адлер внес большой вклад в психологию воспитания. Главная его идея: для того, чтобы преодолеть комплексы неполноценности, испытываемые детьми, необходимо любовное проникновение в личность ребенка. Детское насилие, разрушительность, вандализм своим происхождением обязаны дефициту любви.
Исследуя психику детей, Адлер открыл механизм сверхкомпенсации сознаваемых или ощущаемых несоответствий идеалу «Сверх-Я» — основу детской мотивации.
Современные исследования полностью подтвердили определяющее влияние на поведение человека событий раннего детского возраста: дефицит эмоционального тепла в раннем детстве, оскорбления, жестокость рождают страх, а страх — основа гнева, ярости, злобы, агрессии. Агрессивность — врожденное чувство, но сила его проявления во многом определяется «качеством детства».
Сегодня установлено, что бессознательное детей влияет на их поведение и здоровье не меньше, чем у взрослых. Если оно подавляется и не осознается, психика переполняется бессознательными аффектами, и это ведет к насилию, болезни, немотивированному поведению. Детский психоанализ могут заменить игры, фантазии, эмоциональное тепло близких — все, что помогает снять чувство страха, восстановить уверенность и дает возможность прорасти собственным душевным силам.
По мнению Фрица Виттельса, Альфред Адлер был плохим аналитиком. Став приверженцем ницшеанской воли к могуществу, он связал смысл жизни с этой волей. Поэтому у человека два выхода: воля к власти или комплекс неполноценности, подавление других или бегство от них. Сам Адлер был зациклен на собственных недостатках (он был низким и неуклюжим), и его разрыв с Фрейдом мог быть продиктован этим комплексом неполноценности.
По Адлеру все хотят стать мужественными из воли к могуществу — дети, девушки, женщины. Если сильные облекают силу и могущество в обходительность и великодушие, то слабые — в жестокость или бегство в болезнь.
Комментарии

Успей купить!
Льву и его спутникам удалось спастись, но что ждёт их впереди на неизвестных планетах, какие ещё тайны хранит пирамида?
Его позывной «Викинг», он бывший старший лейтенант Сил специальных операций и действующий "музыкант". Он защищал интересы страны в Сирии, Африке и на Донбассе. Волею судьбы он и его боевые товарищи оказались в Российской империи образца 1768 года. В судьбе страны грядут большие перемены, и они не собираются стоять в стороне. Есть шанс повернуть развитие России в лучшее русло, но для этого нужно пробиться в элиту. Значит они пробьются!
Жизнь Алисы неожиданно разделилась на до и после! Она имела стабильную работу, сына, собачку и безоблачное будущее! Страшные и необъяснимые события начали происходить после того, как она вернулась из отпуска. Кто-то проникает в квартиру и жестоко убивает собаку. От страха за жизнь маленького сына, она отправляет его к своей матери в деревню, а сама обращается к частному детективу, для того, чтобы с его помощью разобраться в том, что происходит!





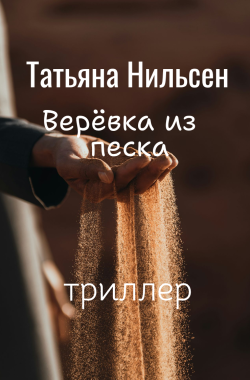



 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что


Комментарии отсутствуют
К сожалению, пока ещё никто не написал ни одного комментария. Будьте первым!