Читать онлайн "Цена Одной Ночи"
Глава: "Цена Одной Ночи"
Поначалу дорога не вызывала тревоги. Мы ехали по относительно оживлённому центру Тихуаны. Мелькали витрины магазинов, кафе, люди на тротуарах. Постепенно широкие проспекты сменились более узкими улочками, многоэтажки уступили место знакомым двухэтажным домам, оштукатуренным в те же серые и порой выкрашенные, но уже выцветшие пастельные тона. Я уже почти расслабился, думая, что второй шелтер будет похож на первый, только в другом районе.
Но город продолжал меняться. Двухэтажки стали редеть, превращаясь в одноэтажные постройки, тот самый «частный сектор», где каждый дом был за глухим забором, а на улицах было куда меньше людей и машин. Воздух, и без того густой, стал отдавать сладковатым запахом гари и пыли. Настроение, чуть поднявшееся было после разговора с Фарходом, начало медленно, но верно ползти обратно вниз.
Водитель, немолодой мексиканец с усталым лицом, что-то бормотал себе под нос. Вскоре мы окончательно свернули с относительно нормальных дорог на разбитую бетонку промзоны явно не предназначенную для легкового транспорта, и пейзаж за окном сменился на откровенно индустриальный и убогий. По обе стороны тянулись бесконечные серые заборы с колючей проволокой, за которыми угадывались низкие, длинные здания складов и цехов. Изредка в промежутках между этими складами попадались жалкие лачуги, сколоченные из ржавого листового металла и старых досок. Изредка попадались явно брошенные автомобили с разбитыми стёклами и полуразобранные, и по обочинам лежали тощие, бездомные собаки.
И хотя «Империал» за 400 песо теперь казался недостижимым раем, я с упорством достойным лучшего применения лихорадочно перебирал аргументы для новой управляющей, понимая, что отказ здесь, в этом богом забытом месте, будет равносилен приговору.
Дорога пошла в гору, становясь всё более разбитой. С одной стороны нависла отвесная стена из жёлтого песчаника, с другой — всё те же непроницаемые заборы предприятий. Казалось, мы выехали на окраину мира. Такси, подпрыгивая на ухабах, медленно ползло вверх.
Наконец, водитель резко затормозил у широких двухстворчатых ворот, встроенных в один из таких высоких заборов. Ворота были старые, из круглых металлических труб с заполнением из некогда оцинкованного, а сейчас большей частью поеденного ржавчиной проф. листа. Никаких вывесок, опознавательных знаков — ничего. Только забор, ворота и колючка наверху.
«Está aquí[1]» — буркнул водитель, показывая пальцем на ворота.
Я расплатился, вытащил свой чемодан и остался стоять на пыльной обочине, глядя на этот мрачный четырёхметровый забор. Такси развернулось и, жалобно скрепя и стуча несчастной ходовой видавшей виды машинки, покатило обратно вниз, оставив меня в гнетущем одиночестве.
Вплотную к воротам примыкала калитка в одном стиле с воротами. Звонка не было. Я постучал по профлисту покрытому толстым слоем пыли. Металл отозвался неестественно гулко и этот звук показался непереносимо громким, но он тут же растворился в давящей тишине вокруг, и только пыль, потревоженная неожиданным вторжением тонкой золотой вуалью, повисла в воздухе, становясь единственным свидетелем моего тщетного ожидания. Никакой реакции на мой стук не последовало, но я не собирался сдаваться. Через несколько минут ожидания я предпринял более настойчивую попытку достучаться. Теперь я пинал калитку уже ногами. Тишину разорвал не стук, а грубый, дребезжащий грохот. По листу пошла рябь, пыль осыпалась дождем. Этот грохот уже был похож не на скромный и даже немного испуганный вопрос, а на настойчивое требование, на грани приказа.
Я колотил еще какое-то время, в ярости и отчаянии. После каждой серии ударов я замирал, прислушиваясь, всматриваясь в щель между створками, пытаясь уловить затаенный скрип шагов, хруст гравия или хотя бы лай собаки. Но в ответ упрямо звучала лишь собственная кровь, стучавшая в висках.
И снова нога со всей силы врезалась в металл, заставляя его выть и вибрировать, словно живой. Я уже почти поверил, что эта битва с железным великаном бесконечна.
Но после третьей, а может, четвертой отчаянной атаки, когда я замер на мгновение, переводя дух, из глубины двора, издалека, будто из-под земли, донесся звук. Это был сердитый, пронзительный женский голос. Слова были неразборчивы, тонули в расстоянии и стенах, но резкий, вопросительно-угрожающий тон и испанская ругань были понятны без перевода. Пусть я услышал испанские ругательства, но тем не менее наконец то вместо гнетущей тишины — был отклик, вместо безразличия — пусть и яростная, но реакция. Моё сердце, застывшее было на грани отчаяния, рванулось навстречу этому голосу, и на губах невольно растеклась улыбка облегчения. Я перестал ломиться в калитку, застыв в ожидании и почувствовав, что наконец-то что-то сдвинулось с мёртвой точки.
Минут через пять – семь я услышал звук приближающегося автомобильного мотора явно не легкового автомобиля. Когда он приблизился, судя по звуку вплотную к воротам, они откатились на небольших резиновых роликах со старческим скрежетом и из ворот выкатилась ассенизаторская машина на базе грузового форда. Ворота откатывала видимо та самая женщина чей голос я слышал в ответ на мое яростное шумовое вторжение. Она была одета в военную форму и когда она откатывала ворота я видел её со спины и во всю спину у неё висел большой автомат с которыми ездят все полицейские в Мексике вообще и тем более в Тихуане. Машина выехала из ворот и когда полицейская стала закрывать ворота, я увидел, что это ещё совсем девчонка. На вид ей не было и двадцати. Юное, скуластое лицо с гладкой кожей цвета тёмного мёда было серьёзно и сосредоточено, но в нём не было и тени той свирепости, что звучала в её голосе минуту назад. Закатывая ворота, она даже не смотрела на меня, уставившись в свой смартфон.
Она с трудом двигала тяжёлые ворота, и когда я подошёл и стал двигать ворота со своей стороны, она почувствовав, что ворота покатились «сами», наконец взглянула на меня своим уставшим не по годам взглядом, без малейшей тени удивления, как будь то ей каждый день приходилось открывать ворота незнакомцам, колотившим в них ногами. Эта хрупкость, контрастирующая с грозным оружием за спиной, заставила меня на мгновение онеметь. Я приготовился к гневной отповеди, но вместо этого она лишь коротко сказала: «¡Gracias!»[2], и спросила: "¿qué quieres?"[3]. Я пытался заговорить на английском, но её английский был ещё хуже, чем мой испанский и поэтому мне пришлось прибегнуть к помощи моего смартфона, благо я скачал испанский переводчик и мог пользоваться ими оффлайн.
Я, как смог, объяснил ей мою ситуацию. Она сказала мне, что скажет обо мне управляющей и что бы я подождал здесь, закрыла ворота на щеколду изнутри и я услышал её удаляющиеся шаги.
Прошло минут пятнадцать, и я уже начал думать, что меня в очередной раз обманули и сказали подождать просто, чтобы отделаться от меня, когда из-за забора послышались голоса нескольких человек, разговаривающих на ломанном, но довольно беглом английском языке и по звуку голосов и шагов они явно приближались к калитке. Затем калитка открылась и из-за неё вышла довольно разномастная группа людей всего человек до десяти, оживлённо болтавших между собой явно на английском, но с таким ужасным акцентом, что понять о чём они говорили, тем более за такой короткий срок, я так и не смог, но зато я увидел свою старую знакомую в форме. Увидев меня, она отрицательно покачала головой и сказала в приготовленный мной в смартфоне переводчик, что она сказала управляющей, но та пока ещё занята. Короче прождал я ещё около часа, пока охранница не вышла ещё раз и не сказала, что управляющая вряд ли выйдет, и что она сказала однозначно, что мест нет и заселить меня она не сможет. Приводить какие-то аргументы или спорить с охранницей смысла не было от слова совсем, на уговоры пропустить меня к управляющей она категорично отвечала отказом, ссылаясь на то, что может в таком случае потерять работу.
Я стал думать, как мне выбираться из этой «задницы». Если ночевать на лавочке перед мусульманским шелтером был какой-никакой вариант, то ночёвка на краю Тихуаны, напичканной картелями, где-то в горах, вариантом вообще не являлось. Мой телефон без мексиканской СИМки (я так и не удосужился приобрести её, так как везде где я находился был вай-фай и я общался по телефону только с помощью мессенджеров, надеясь на то, что приобрету уже американскую СИМку после перехода границы) мог служить в лучшем случае переводчиком, и конечно вызвать такси с его помощью не было возможности. Проезжающие мимо редкие машины при поднятии руки шарахались от меня как от прокажённого.
Чуть ниже по улице, если можно было назвать улицей эту дорогу с раздолбанной вусмерть бетонкой вдоль заборов промышленных предприятий (по крайней мере мне они таковыми показались) стояла тележка типа той с каких у нас продают мороженое. Здесь же с неё продавали какую-то местную еду (я подозреваю что – такос или буритос). Рядом стояли мужчина с женщиной и совсем ещё маленький мальчишка, который тем не менее корчил из себя важного торговца. Я подошёл к тележке и через переводчика в телефоне попросил у женщины вызвать мне такси. Она сказала, что у неё нет телефона, и попросит вызвать такси мужа, который отошёл в это время к припаркованной поодаль машине. Через пять минут подошёл мексиканец лет тридцати пяти – сорока, и сначала немного поартачился, говоря что-то типа денег нет на телефоне, но появившаяся в моих руках купюра в двадцать песо сразу сняла все вопросы. Однако такси удалось вызвать только с четвёртой попытки. Каждый раз такси сначала брало заказ, но чуть позже видимо осознавая в какую задницу придётся ехать, сбрасывали заказ. Четвёртый таксист, судя по тому, что заказ не сбросил и приехал в течении нескольких минут после взятия заказа оказался совсем рядом….
Когда я показал водителю бумажку с адресом, выражение его лица, на границе отчаяния с обречённостью дало мне понимание, что поедем мы в место не на много лучше этого. И действительно, проехав полчаса по городским улицам, мы стали петлять по узким серпантинам, которые вздымались на холмы, открывая на мгновение панораму города, и тут же ныряли вниз, в тесные улочки, застроенные скромными, но ещё вполне крепкими домиками. Но вскоре и эти домики остались позади, сменившись другой крайностью по сравнению с тем местом, из которого выехали совсем недавно. Если там было нечто типа пром. зоны, то здесь был настоящий эпицентр трущоб. Дорога возле первого шелтера была вся в выбоинах, но там было хоть что-то отдалённо напоминающее асфальт. Здесь же асфальтом даже не пахло. Грунтовая дорога то шла по краю, то спускалась на дно чего-то среднего между оврагом и ущельем, по склонам которого ютились до того убогие лачуги что моё сознание отказывалось верить, что там могут жить люди, однако события следующего дня нашли тому подтверждение. Наконец после начала очередного подъёма со дна ущелья, я увидел площадку, на которой стояло здание, напоминающее собой огромную теплицу с металлическим каркасом и обшитым листами прозрачного поликарбоната. По высоте она была с приличный трёхэтажный дом, но перекрытий там никаких не было и соответственно заселён был только первый «этаж». Зачем было строить такие высокие здания для меня остаётся загадкой до сих пор. За поликарбонатом были отлично видны ряды двухярусных кроватей, стоящих вдоль прозрачных стен. Метров через сто, с другой стороны «ущелья» из-за высокого выступа скалы открылся вид на ещё одну «теплицу». Впереди дорога упиралась в довольно высокое, но явно одноэтажное уже каменное здание, с какими-то надписями на испанском языке. Судя по несколько раз встретившимся в этой надписи: «Jesús[4]», я понял, что это здание религиозного назначения. Не доезжая метров пятьдесят до «церкви», водитель остановился перед лежащим на земле не толстым, однако явно не дающим проехать бревном, как я узнал в дальнейшем выполняющим роль шлагбаума. Если дорога перед предыдущим шелтером напоминало пустыню, то пространство между двумя «теплицами» и «церковью» стоящими относительно друг друга наподобие не совсем правильной буквы «П» было похоже на людской муравейник с большим количеством разновозрастных (от стариков до совсем маленьких детей) и совершенно «разномастных» людей. Здесь было несколько человек даже совсем белокурых похожих на скандинавов. Были и совсем чёрные африканцы, но больше всего, конечно (наверное, процентов 80-85), здесь было латиносов. Пространство внутри этой буквы «П» нельзя было назвать «площадью», поскольку оно было образованно дорогой по которой меня привезло такси. Она упиралась в церковь, разворачивалась и расширившись примерно в два раза уходила круто вверх уже в обратном направлении и вдоль неё стояла «теплица», которую я увидел последней. Первая, стояла несколько поодаль и до неё можно было добраться, перебравшись по деревянному пешеходному мостику перекинутому то-ли через русло пересохшей речки, то ли через само образовавшийся канал для отведения ливневых вод, дно которого было сплошь усеяно довольно большими голышами размером с баранью голову.
Несмотря на всю неблагоустроенность этого места, оно создавало странное ощущение какой-то защищённости, почти крепости. Оглянувшись назад, с того места, где остановилось такси, открывался вид на большое ущелье, чашу, усыпанную хаотично прилепленными к склонам разномастными, но в основном убогими домишками. Они ютились там без всякого порядка, как правило, без заборов и оград, зачастую полуразрушенные или напоминающие жилища бомжей, слепленные из картонных коробок, ржавого профнастила и полиэтилена.
А здесь, на этой площадке, было иначе. Три массивных, пусть и странных, здания — две «теплицы» и церковь — образовывали подобие двора, огороженного не стенами, а самим рельефом и их монументальными стенами. Деревянный «шлагбаум» отмечал незримую границу, отделявшую этот микромир с его упорядоченным, хоть и бедным, бытом от хаотичной и беззащитной нищеты, раскинувшейся внизу. Воздух здесь был наполнен не тишиной отчаяния, а гулом десятков голосов, смехом детей, бегающих между этими тремя зданиями, и между кроватями, видимыми сквозь прозрачные стены. Это был не просто шелтер; это была что-то наподобие общины, нашедшей точку опоры на самом дне.
Взяв свой чемодан на руки, я прошёл несколько десятков метров до входа в церковь, которая, безусловно, казалась главным зданием в этой странной агломерации. Её каменные стены, пусть и потёртые, выделялись основательностью на фоне призрачной прозрачности поликарбонатных теплиц.
У дверей, отбрасывая на песок длинные вечерние тени, стояли несколько человек. Они не суетились, не метались, а стояли плотной группой, погружённые в тихую, но напряжённую беседу. Их позы, скрещенные руки, сосредоточенные лица с нахмуренными бровями — всё говорило о том, что они решают что-то важное. Обрывки фраз на испанском долетали до меня: «...no hay suficientes...» (не хватает), «...los niños primero...» (в первую очередь дети), «...mañana por la mañana...» (завтра утром).
Они перебрасывались короткими, отрывистыми репликами, их взгляды были прикованы не друг к другу, а куда-то внутрь себя, в пространство общей проблемы. Казалось, они буквально ощущали её вес на своих плечах. Это была не праздная беседа, а совет у руля этого хрупкого ковчега, затерянного на дне каньона. Никто из них не обращал на меня внимания, и я замедлил шаг, не решаясь вторгнуться в их круг, нарушить концентрацию, рождённую необходимостью выживать сообща.
Минут через двадцать напряжённое обсуждение у входа в церковь начало распадаться. Люди, кивая друг другу и бросая на прощание короткие, понятные лишь им фразы, стали расходиться в разные стороны — кто в сторону теплиц, кто вниз по тропинке, теряющейся в сумеречном ущелье. Вскоре у тяжёлых церковных дверей остались лишь двое.
Они составляли разительный контраст. Высокая мексиканка с усталым, но твёрдым лицом, чьи иссиня-чёрные волосы были убраны в тугой практичный пучок. И совсем юная, хрупкая на вид девушка-блондинка, чьи волосы, цвета спелой пшеницы с лёгким рыжеватым оттенком, казалось, светились в сгущающихся сумерках. Её светлая, почти фарфоровая кожа, покрытая легким загаром и веснушками, резко выделялась в этом месте. Если бы я не находился у чёрта на куличках в мексиканской глуши, то мог бы принять её за уроженку какой-нибудь страны Скандинавского полуострова.
Как оказалось в дальнейшем, моя догадка была верна. Она действительно была норвежкой, но, в отличие от большинства обитателей этого места, она находилась здесь не как беженка. Она была волонтёркой одного из международных благотворительных фондов, занесённая судьбой в самое сердце этой боли и надежды.
Они что-то тихо обсуждали, и высокая женщина, заметив моё приближение, подняла на меня внимательный, оценивающий взгляд. Норвежка тоже обернулась с лёгким, открытым любопытством. В её голубых глазах не было ни подозрительности, ни настороженности — только немного усталости и готовность помочь. Казалось, она была единственным лучом чистого, незамутнённого света в этом оазисе вынужденной стойкости. На мой вопрос говорит ли кто-нибудь на английском мексиканка сначала отрицательно качнула головой, а затем кивнула на норвежку, та же ответила на беглом английском: «На английском, французском, немецком. А вы откуда?» «Из России». Говоря это, я протянул ей бумажку с «рекомендацией» от Клары, которую она едва на неё взглянув передала высокой мексиканке
Слова повисли в воздухе, пауза затянулась. Я уже собрался было излагать свою историю на английском, как вдруг она слегка нахмурила брови, словно перебирая в памяти что-то давно невостребованное, и неожиданно произнесла на русском, медленно, с трудом подбирая слова и с сильным, но приятным акцентом:
— На русском... я тоже... говорю. Только... совсем немного. Очень мало.
Астрид (так звали норвежку) произнесла это с такой концентрацией, будто каждое слово было камнем, который она переворачивала, и выглядела при этом на удивление мило. Её русский был, вряд ли намного лучше моего испанского, и может даже чуть хуже, но сам факт прозвучал как маленькое чудо здесь, на краю света.
Затем она с облегчением перешла на беглый английский:
— Простите, это всё, что я пока могу. — Она улыбнулась, и в её глазах мелькнула искорка задора. — Здесь три шелтера. — Астрид повернулась, указывая рукой. — Тот модуль за пешеходным мостиком, через русло — предназначен для семей с детьми. — Затем она сделала легкий жест в сторону второго прозрачного здания. — Длинное общежитие у дороги — только для одиноких мужчин. А здесь... — она махнула рукой в сторону по грубой каменной стены церкви, — здесь размещаем всех остальных. В основном женщин без семей и пары. Это наше смешанное отделение.
Высокая мексиканка, прочитав записку от Клары, молча наблюдала за нашим диалогом, внимательно изучала мое лицо, словно сверяя его с каким-то внутренним списком. Казалось, она читает не по словам, а по реакции, по малейшим изменениям в выражении лица, пытаясь понять, что я здесь делаю на самом деле.
Норвежка, заметив мой растерянный взгляд, переведённый с мексиканки на неё, тихо пояснила на английском: — Это Мария. Она управляет всем здесь. Именно она решает, кого и куда разместить. И… размещать ли вообще. — Она чуть помедлила, глядя на меня с лёгким сочувствием. — Насколько я знаю, свободных мест сейчас нет. Но она уточнит.
Они отступили на пару шагов в сторону и заговорили быстро и тихо на испанском. Я мог следить только за интонацией и языком тела. Мария то качала головой, то указывала пальцем куда-то в сторону ущелья, её поза выражала крайнее напряжение и раздражение. Астрид жестом пыталась что-то предложить, её речь звучала более мягко, почти увещевающе.
Наконец Мария с резким вздохом, который был слышен даже на моём расстоянии, вытащила из кармана поношенной легкой куртки старый смартфон. Она с силой ткнула в экран, набрала номер и приложила трубку к уху. Её взгляд, тяжёлый и недовольный, упёрся в меня, но смотрела не на меня, а как будто сквозь меня.
Первая фраза прозвучала чётко и ясно: «¿Clara? Hola, soy Maria. ¿Cómo estás?» Но всё, что последовало дальше, было уже не приветствием, а потоком быстрой, эмоциональной речи. Я не понимал всех слов, но универсальный язык недовольства был понятен без перевода: резкие, отрывистые фразы, язвительная интонация, короткие паузы для выслушивания ответа, после которых её голос становился ещё громче и выразительнее. Она жестикулировала свободной рукой, тыкала пальцем в воздух, явно указывая на мою персону. Было совершенно очевидно, что Мария, мягко говоря, не в восторге от того, что Клара решила направить ещё одного человека, да ещё и без предупреждения, в её и без того переполненное убежище.
Я стоял, чувствуя себя лишним, почти виноватым, под этим пристальным, осуждающим взглядом и слушая этот односторонний разговор, исход которого решал мою ближайшую судьбу.
После непродолжительного, но эмоционального разговора, Мария с нескрываемым раздражением ткнула в экран смартфона, отрезав последние оправдания Клары. Она перекинулась с норвежкой парой коротких, отрывистых фраз на испанском, кивнула в мою сторону с таким выражением, будто только что согласилась приютить бродячего пса на одну ночь, и, не сказав мне ни слова, развернулась и быстрыми шагами направилась к длинному прозрачному зданию «мужского» шелтера, её силуэт быстро растворился в сгущающихся сумерках.
Астрид повернулась ко мне. На её лице читалась лёгкая усталость и сдержанное сочувствие.
— Вам повезло, — сказала она на английском, и в её голосе не было ни намёка на победу ни тени восторга. — Сегодня вы можете остаться. Только сегодня. — Она сделала ударение на последних словах, чтобы не осталось никаких сомнений. — Пойдём в церковь, я покажу Вам старшую по этому зданию, она Вам всё покажет и объяснит…
Она увидела, вероятно, мелькнувшую у меня в глазах надежду на большее, и покачала головой, предвосхищая вопросы.
— Завтра утром к нам прибывает большой транспорт. Очень много людей. Мест не будет. Нигде. Мария уже сказала об этом Кларе. Это... окончательное решение. Её слова висели в воздухе холодным неоспоримым приговором. Эта церковь – ковчег в окружении странных прозрачных зданий давал мне временную передышку, всего несколько часов прежде, чем выбросить обратно в безразличие каньонов Тихуаны.
Уже почти стемнело, когда я занес свой чемодан в полусумрачное пространство церкви в котором ярко освещена была только сцена возвышавшаяся чуть правее от входа. Внутри царила странная, торжественная атмосфера. Вместо церковных скамей рядами были расставлены простые пластиковые стулья, и большинство из них было занято. Люди сидели молча, устало, — казалось, здесь собрались обитатели всех трех убежищ.
Мой взгляд скользнул вверх, к металлическим балкам под потолком. По периметру здания шёл узкий второй этаж, больше похожий на галерею, опоясывающую зал. За невысоким ограждением были видны двухъярусные кровати, создавая причудливый симбиоз храма и спального барака.
Ближе к краю сцены стояла стойка с микрофоном, а позади, в голубоватом свете немногочисленных ламп, угадывались очертания музыкальных инструментов: ударной установки, гитар.
Внезапно общий гул стих. На сцену поднялась пожилая женщина с властной осанкой — та самая старшая по шелтеру, которой мне представила Астрид. Она стала что-то с воодушевлением и довольно пространно объявлять на испанском. Зал затих в почтительном молчании.
Затем на сцену вышел немолодой мужчина в поношенном, но опрятном пиджаке. Он бережно взял микрофон, и его голос, низкий и проникновенный, наполнил огромное помещение. Началась проповедь. Я не понимал слов, но ритм его речи, тихая сосредоточенность людей, их вздохи и кивки создавали ощущение общего глубокого переживания. В этом странном месте, на краю мира, среди боли и лишений, рождался миг тихого, непреложного единства. Я стоял у двери, чувствуя себя одновременно чужим и причастным к чему-то очень важному, что происходило за гранью слов.
Едва проповедник произнёс последние слова, зал взорвался. Не сговариваясь, собравшиеся поднялись со стульев. Музыканты на сцене — гитарист, басист и ударник, которых я до этого принял за статистов — ожили, и пространство наполнилось мощными, ритмичными аккордами. Это был не привычный мне православный хорал или католическое песнопение, а нечто живое, пульсирующее, заряженное raw-энергией.
Люди вокруг хлопали в ладоши, подпевали, раскачивались на месте, некоторые поднимали руки вверх, закрыв глаза. Звучала испанская религиозная песня — корридо о вере, полная страсти и отчаяния. Микрофон переходил от проповедника к женщинам в первом ряду, и их сильные, неидеальные голоса, сорванные жизнью, но полные непоколебимой веры, выкрикивали ответные рефрены. Звук усиливался под высокими сводами, ударялся о прозрачные стены и уходил в тёмное небо, становясь общим криком души, выплеском всей той боли, страха и надежды, что копились в каждом обитателе этого места.
И так продолжалось около двух часов. Песни сменялись краткими молитвами, молитвы — новыми песнями.
...Моё первоначальное любопытство, подпитанное экзотичностью зрелища, быстро сменилось свинцовой усталостью, накатившей на меня всей тяжестью этого дня. А день этот, наверное, был одним из самых насыщенных в моей жизни по количеству пережитых событий на единицу времени: от отчаяния у глухих ворот и яростного барабанного боя по профнастилу до неожиданного появления вооруженной девочки-полицейского, путешествия на такси в самое сердце трущоб и встречи со скандинавской волонтершей в этом surreal месте. Тело и психика требовали передышки, отключки, перезагрузки.
Веки наливались тяжестью, спина ныла от неудобного стула, а единственной мыслью было добраться до кровати и провалиться в забытье. Но завалиться было некуда. Всё свободное пространство зала было плотно заставлено стульями и занято людьми.
Так я и сидел, пленник этого неистового и искреннего действа, завороженный и измотанный одновременно, кивая головой в такт музыке, которую не понимал, и мечтая лишь об одном — о тишине и сне. Этот шумный, эмоциональный ритуал стал моим посвящением в жизнь шелтера — жизнь, где усталость тела должна была уступить силе духа, пусть даже и на пару часов.
...Моё первоначальное любопытство, подпитанное экзотичностью зрелища, быстро сменилось свинцовой, всепоглощающей усталостью, накатившей на меня всей невероятной тяжестью этого бесконечного дня. Казалось, он длился не восемнадцать часов, а несколько суток, настолько плотно был упакован событиями, каждое из которых выбивало почву из-под ног и перезагружало реальность.
Всё началось на рассвете в Ла-Марине, в предвкушении перелёта, который должен был стать простой формальностью. Затем — нервное ожидание в аэропорту Тихуаны, пограничный контроль, который я мысленно уже прошел раз сто, прощаясь со своим спиннингом, этой последней попыткой казаться не тем, кто я есть. Провальная попытка, стоившая мне верного спутника. Потом — леденящий душу момент, когда мой чемодан не появился на багажной ленте, и короткая, но яркая вспышка паники, сменившаяся щемящим облегчением, когда я всё-таки нашёл его.
Далее — такси сквозь незнакомый миллионный город, внезапно упёршийся в ту самую Стену, гигантский и бездушный рубеж, который я до этого видел только на картинках. Она возникла грубо и внезапно, превратив улицу в тупик, а мои мечты — в хрупкий призрак по ту сторону ржавых прутьев.
Первое разочарование у мусульманского шелтера, томительное ожидание на скамейке под чужими взглядами, встреча с Фарходом, подарившим призрачную надежду, и её стремительное крушение — холодный, безразличный отказ Клары. Новое такси, увозившее меня всё дальше от цивилизации в индустриальную пустыню, к тем самым глухим воротам, в которые я потом долбил ногой в отчаянии.
Появление вооружённой девочки-полицейского, этот сюрреалистичный контраст хрупкости и силы, и вторая порция унизительного ожидания, закончившаяся таким же безжалостным «нет». И наконец — третья поездка, уже в полной безысходности, в эту каменную чашу, на дно мира, к этим прозрачным теплицам-общежитиям, где меня, в итоге, приютили на одну-единственную ночь.
Каждый час этого дня выжимал из меня все соки, каждое новое унижение, надежда и её крах отнимали часть сил. Тело и психика, доведённые до предела, кричали о пощаде, требуя хотя бы мгновения тишины и неподвижности. Веки наливались свинцом, спина ныла от бесконечных переездов и неудобных сидений, а единственной мыслью, пульсирующей в такт головной боли, было добраться до горизонтальной поверхности и провалиться в небытие.
Но завалиться было некуда. Всё свободное пространство зала было плотно заставлено стульями и занято людьми, чья вера казалась мне в тот момент лишь источником оглушительного шума. Этот шумный, эмоциональный ритуал стал моим финальным испытанием — посвящением в жизнь шелтера, где усталость тела должна была уступить силе духа, пусть даже и ценой последних остатков моих собственных сил.
Каждый час этого дня выжимал из меня все соки, каждое новая надежда и её крах отнимали часть сил. Тело и психика, доведённые до предела, просили хотя бы несколько мгновений тишины и неподвижности. Веки наливались свинцом, спина ныла от бесконечных переездов и неудобных сидений, а единственной мыслью, пульсирующей в такт головной боли, было добраться до горизонтальной поверхности и провалиться в небытие.
Но завалиться было некуда. Всё свободное пространство зала было плотно заставлено стульями и занято людьми, чья вера казалась мне в тот момент лишь источником оглушительного шума. Этот шумный, эмоциональный ритуал стал моим финальным испытанием — платой за крышу над головой. Мне предстояло высидеть его, стиснув зубы, пока моё усталое тело не отказалось служить мне окончательно. Где-то в глубине сознания шевельнулась мысль, что в Судный день нам предстоит ответить за каждое праздное слово, а это пение и причитание — не что иное, как нововведение, грех. Но сейчас это не имело никакого значения. Я был слишком измотан, чтобы что-то отвергать или принимать. Я мог только терпеть, отключив всё внутри, и ждать, когда это наконец закончится.
Два с лишним часа спустя, когда моё сознание уже почти полностью отключилось, превратившись в подобие статичного шума, пение наконец сменилось финальной, особенно воодушевлённой молитвой, а затем — тишиной.
Тишиной, которая оглушила меня после этого какофонического марафона.
Люди начали шевелиться, потягиваться, с шумом передвигать стулья. Церковь наполнилась гулом обычных, бытовых разговоров, шарканьем ног и ножек стульев по полу. Несколько самых ревностных прихожан, с сияющими глазами, сразу устремились к пастору, окружив его плотным кольцом, чтобы поделиться пережитым «благоговением» или задать вопросы.
Тем временем, несколько человек, видимо, постоянные обитатели шелтера или добровольцы, принялись за работу. Они ловко складывали пластиковые стулья в высокие, неустойчивые на вид башни и задвигали их вдоль стен, освобождая центр зала. Затем помощница старшей по шелтеру открыла массивную дверь в углу, справа от входа (кстати совсем рядом от того места, где сидел я), обнаружив огромную кладовку, забитую под самый потолок стопками потертых матрасов, напоминавших гимнастические маты из школьного спортзала.
Шестеро мужчин, двое из которых были совсем ещё мальчишками лет пятнадцати, принялись растаскивать это тюфячное наследие по освободившемуся пространству. Матрасы с глухим шлепком падали на голый пол, образуя причудливый, тесный узор из спальных мест. Воздух наполнился запахом пыли и поношенной ткани.
Я наблюдал за этой суетой с каким-то отстранённым интересом. Во избежании всяких непредсказуемостей типа нехватки матраса, или чего-то подобного, я не дожидаясь, когда все матрасы будут разложены по полу церкви, зашёл в эту кладовку и взял себе матрас сам, положив его неподалёку от выхода из этой кладовки. Не было ни особой радости, ни даже сильного облегчения, было только понимание, что сейчас я рухну на этот матрас, и моё тело, наконец, получит то, чего оно требовало все эти бесконечные часы. Это была всего лишь передышка — вынужденная остановка в этом бесконечном пути, купленная ценой двух часов оглушающего чуждого мне действа, которое было для кого-то было обращением к высшим силам, а для меня — неистовым шабашем, наоборот уводящим участников глубже в преисподнюю.
[1] Está aquí (исп.) – это здесь
[2] «¡Gracias!» (исп.) – «спасибо!»
[3] "¿qué quieres?" (исп.) – "что ты хочешь?"
[4] Jesús (исп.) - Исус





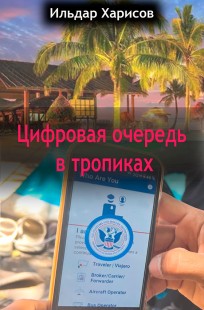









 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

