Читать онлайн "Крик Алектора"
Глава: "Глава 1"
Крик Алектора
Роман
Непрославленным новейшим
мученикам ХХ и ХХI вв.
– с молитвенной
благодарностью – автор.
Часть I
И надо мной,
как жернова Вселенной,
слоистое, распластанное небо
вращало медленно густую черноту
и перемалывало зерна света.
И. Важинская
1. Алектор
«Внимание! Внимание! Говорит руководитель гражданской обороны Санкт-Петербурга. Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога! Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной зашиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите соседей и при необходимости помогите больным и престарелым выйти на улицу. Как можно быстрее дойдите до защитного сооружения или укройтесь на местности. Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям гражданской обороны!». Один длинный и два коротких сигнала сирены последовали немедленно, равномерно сменяя друг друга. «Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!».
Несколько секунд Вета лежала неподвижно, за последние невероятные недели привыкнув к многочисленным учебным тревогам в Питере и почти перестав вздрагивать при первом гавке ближайшего уличного матюгальника (из остальных в их тихом южном микрорайоне, утонувшем в идиллических соловьиных сквериках, доносились лишь непонятные отголоски, ничуть не страшнее, чем отдаленные звуки уличных гуляний, вроде народной Масленицы, на скромной площадке перед бывшим кинотеатром, а ныне закрытым магазином дорогих спорттоваров). Она бегала с ребенком в подвал только в первый раз – от неожиданности, провела там полчаса и вместе с соседями убедилась в том, что никакой защиты – ни от чего! – это помещение по определению не может обеспечить: хлипкая пятиэтажка, стоящая в зоне поражения сразу нескольких ракет с ядерными боеголовками, нацеленных на разбросанные тут и там обреченные стратегические объекты, ближайшие из которых с одной стороны – Кировский завод, а с другой – аэропорт, эта бедная пятиэтажка не то что сложится хрестоматийным карточным домиком, а попросту превратится со всем содержимым в небольшую горстку праха, разметанную в кратере на глубине полукилометра под слоем «стекловидной массы толщиной 12-15 метров», как обещала упраздненная Всемирная Сеть…
Радио или телевизор теперь строго предписывалось держать включенными круглые сутки, чтобы не пропустить настоящую тревогу, – но как позволить себе такую пытку, когда твой нервный пятилетний внук даже в полной тишине засыпает не ранее, чем через час после дочитанной сказки про воронов Ут-Рёста – и еще минимум минут сорок ты не можешь пошевелиться, сидя на краешке его тахты: твоя самая скромная попытка приподняться и на цыпочках покинуть место ежедневного мытарства немедленно прерывается протяжным: «Ну, Ба-аа… Ну, не уходи-и…». Кроме того, когда еще работал интернет, откуда Вета жадно вылавливала все возможные подробности «Часа Икс», она вместе с другими любознательными гражданами благополучно вбила себе в голову, что ядерный удар по Москве и Петербургу по ряду очень – слишком! – убедительных причин будет нанесен именно в шесть часов вечера. Уже одно это само по себе могло навести на мысль о том, что противник прекрасно осведомлен об их ожиданиях и, уж конечно, устроит так, чтобы нападение оказалось совершенно внезапным, – ракеты рванут на Невском, например, в два часа ночи. Вот как сейчас. Неужели они – где-то там, на недосягаемом «верху» – всерьез полагают, что замотанные люди в который раз кинутся в отсутствующие бомбоубежища и угаженные подвалы – измученные страшным ожиданием люди, едва-едва ненадолго уронившие на подушки свои исстрадавшиеся головы? А еще лучше – потащат куда-то в ночи инвалидов в колясках, грудных детей в одеялах, сиамских котов в переносках – надеясь, что в панике никто не заметит, как в убежище тайком проносят незаконного поглотителя драгоценного незараженного воздуха… Вета включала радио только в полночь – когда за последними аккордами гимна воцарялась живая, чуть потрескивавшая в ночи тишина, в шесть утра закипавшая все тою же торжественной, но уже давно никакого оптимизма не внушавшей мелодией…
Упомянутые несколько секунд Виолетта Алектор промаялась ощущением смутной неправильности происходящего – что-то не так было в привычном сообщении об очередной учебной тревоге. Чуть-чуть не так… Не по правилам… И ее подбросило на раз и навсегда бесцельно разложенном для двоих диване: слово «учебная» теперь заменилось на «воздушная». То есть, тревога оказывалась настоящей. То самое, во что никто по-настоящему не верил – «До этого никогда не дойдет!» – взяло и пришло. До апокалипсиса осталось максимум четырнадцать минут – смотря откуда взлетели ракеты, а до закрытия всех входов в метро – шесть. Нет, уже пять, пока она тут разлеживалась. А потом будут применять оружие. Без разбора пола и возраста – против тех, кто попытается воспрепятствовать герметизации дверей.
«Молитесь, чтоб не случилось бегство ваше зимою». Но сегодня это бедствие, по-видимому, считавшееся самым страшным, им с Ванечкой не грозило: вплотную подступало лето.
* * *
Нет, нет, грех жаловаться: что такое настоящее счастье, Виолетта, урожденная Попова, знала не из книг. Она и до сих пор, незаметно перейдя границу возраста «бабы-ягоды», считала свою первую любовь не детской блажью, из которой следует попросту вырасти, как из старого платья, а полноценным женским чувством, вполне разделенным и принесшим законный плод – сына Владислава. И теперь, тридцать лет спустя, она без насмешки или отвращения мысленно возвращалась в ту нелепую комнату, просто не имевшую права существовать в Петербурге на радужном пороге Миллениума. Комната, в которой жил со своей разведенной мамой одноклассник Миша Алектор («Ты что, немец или еврей, да, милый?» – «Да Бог с тобой, Веточка, «алектор» – это просто «петух» по-старославянски!»), будто перепрыгнула в панельную сероватую «брежневку» из самого начала Железного Века. Там стояли две замечательные доисторические кровати с прекрасными панцирными сетками, хромированными спинками со множеством начищенных до блеска шишечек, покрытые одинаковыми светлыми покрывалами, поверх которых постилались еще и кипенно-белые кружевные накидки. Каждую кровать венчали три разновеликие, в крахмальных белоснежных наволочках подушки, идеально взбитые и положенные одна на другую в строгом порядке, торжественной пирамидой – от большой к маленькой; для них полагались отдельные тонкие покрывала – из хлопчатобумажного шитья, и свисать они обязаны были уголком, оканчивающимся точно в пяти сантиметрах от основания первой, наибольшей подушки. На всех полках вполне обычной, дубовато-советской «стенки», куда ни кинь взгляд, замерли в степенном шаге многочисленные слоники с эрегированными хоботами: папа-слон, за ним – мама-слониха, далее слонята мал мала меньше, соблюдая строгую иерархию, шагали друг за другом вдоль пестрых рядов редко тревожимых книг и чашек с блюдцами, беззвучно трубя в потолок. Наборы по семь особей в каждом – мраморные, серебряные, малахитовые, терракотовые, хрустальные, майоликовые, коралловые – и даже один раскрашенный пластилиновый, собственноручно вылепленный когда-то Мишей-дошкольником в минуту детского вдохновения, – занимали все свободное пространство.
Настольная лампа на рабочем месте Миши имела пыльный тканый абажур и солидное медное основание, опутанное гирляндами фарфоровых лилий, а на люстру под низким потолком, которую все то и дело задевали головой, и вовсе смотреть было немножко страшно: многоярусная, переливавшаяся синим, красным, желтым и зеленым стеклом, невпопад звенящая бесчисленными хрустальными подвесками, длинными и короткими, утыканная бронзовыми розами вперемешку с беззаботно свесившими пухлые икры амурчиками, – она выглядела почти монструозно, производя не то устрашающее, не то отталкивающее впечатление, – а уж смотреть на нее Ветке приходилось часто, по крайней мере, весь десятый класс, когда одну из двух ужасающих постелей они вдвоем основательно разворашивали, проводя там после школы часа по три почти ежедневно, ухитряясь даже поспать недолго в тесном переплетении размаянных тел. Ну, а в одиннадцатом классе на люстру смотрел уже Миша, потому что его довольно быстро расколдовавшаяся после девичества возлюбленная основательно занялась верховой ездой – что ему, сперва тайно страдавшему от утраты мужского доминирования, по мере вхождения во вкус стало нравиться даже больше, ибо Вета, взяв бразды правления в свои мягкие руки, скоро научилась продлевать обоим удовольствие до бесконечности… Рабочий день Мишиной матери-бухгалтера заканчивался ровно в шесть – и к половине седьмого они в четыре руки восстанавливали порушенный монумент на кровати и успевали сесть под пыльный абажур настольной лампы – голова к голове над раскрытым учебником.
А у Веты мама работала дома, она трудилась техническим переводчиком на вольных хлебах, у них рано появился настоящий компьютер, продвинутый «Пентиум», поэтому встречи дома у Поповых происходили только самые целомудренные, с чаем и печеньем, в присутствии мамы, все время тревожно переводившей глаза с невозмутимой дочери на ее сомнительного молодого человека – тощего шатена с взъерошенной шевелюрой и темно-сизыми, как у новорожденного, глазами. Как и большинство русских женщин, она обладала даром безошибочного предвиденья, и внутренний ее взор без труда проникал в недалекое будущее, где тинейджерская тощесть пока еще застенчивого юнца превратится через несколько лет в красивую мужскую поджарость, раздадутся вширь плечи, лягут мягкими шоколадными волнами умело подстриженные волосы, длинные ресницы сделают заманчиво сумрачным его пока еще открытый и вопрошающий взгляд… И где он походя не бросит, нет – просто смахнет, как крошку со стола, ее глупую дочурку – пегую блондиночку с незначительным личиком и пока тоненькой, но ровной, без выпуклостей фигуркой, обреченной после родов, в грядущей матерости, располнеть по невыгодному типу «яблоко»… Мальчик нацелился в программисты, компьютерную премудрость хватает на лету, денежкам счет любит – вот взять, хотя бы, тортик, который он к чаю принес: дорогой и красивый, слов нет, а с пластиковой крышки наклейку снять забыл: уценка семьдесят процентов, срок годности истекает сегодня… Нет, не будет он мужем ее Веточки… И хорошо! «Ты только не вздумай уступить ему! Сразу не нужна станешь! И опомниться не успеешь! Запомни: главное – им не уступать, иначе потом бегать за ними будешь, а они и в сторону твою не посмотрят!».
Вета, конечно, не могла рассказать маме, что уже почти два года, как не она Мише, а он ей уступил, жарко и обескураженно бормоча: «Вета, а может, не надо?.. Вета, ты точно уверена, что хочешь этого?.. Вета, ты понимаешь, что потом ничего нельзя будет вернуть?.. Вета! Вета…». «Мне никогда не захочется ничего возвращать… Мне нужен ты один – и навсегда», – с полным убеждением шептала она уста к устам.
Виолетта действительно так думала, а благим примером послужила именно мама, любившая раз и навсегда. Та вышла за однокурсника, распределилась с ним в одну организацию прямо перед темным событием истории, до сих пор носившим странное название «перестройка», через год родила дочку, а еще через пять уже стояла в длинном кафельном коридоре, одной рукой сжимая хрупкую ручку своего ребенка, а другой – терзая у горла воротник свитера, и вежливо просила спокойного человека в белом халате и высоком крахмальном колпаке со смешными треугольными отворотами: «Вы мне этого, пожалуйста, не говорите. У меня дочь пятилетняя. Как я одна ее подниму в такое время? А вы мне – «рак». Какой может быть рак, когда ему двадцать семь лет. Так что вы прекратите эти страшилки и поставьте нормальный диагноз. И, уж, пожалуйста, вылечите. Потому что у нас дочь. И потому что… Просто вылечите. Рак! Какой еще рак!».
А Вета трясла ее за руку – «Мам! Ну, мам!». Она хотела напомнить маме, что такое рак, вернее, кто это: это такие черно-зеленые, мокрые и блестящие водяные животные с хвостом и больно цапающими клешнями, которых папа и лысый сосед по даче руками в больших рабочих варежках вылавливали из-под камней в камышах у них рядом с пляжем на бирюзовом озере – и бросали в глубокое пластиковое ведро, где пучеглазые усатые пленники давили друг друга скользкими уродливыми телами, безуспешно пытаясь взобраться по гладким отвесным стенкам. Позже в огромной зеленой кастрюле их ставили на веранде на плиту – и девочка с тайным удовольствием смотрела, как они варятся, в адских муках пытаясь вырваться из смертоносного кипятка, будто жертвы инквизиции на допросе, но терпят закономерное поражение и становятся красными и неподвижными – мертвыми. «Вот кого смерть красит!» – всегда одинаково шутил сосед, входя на веранду с брякающей сумкой, полной зеленых и коричневых, чем-то напоминавших еще живых раков в ведре, бутылок с пивом. Взрослые дяди и тети садились вокруг стола, в центре которого возвышалось блюдо, где горой были навалены сваренные заживо, отмучившиеся раки, и весело раскурочивали их, бросая хрусткие куски панцирей в специальную миску – как крашеную скорлупу пасхальных яиц – некрасиво высасывали что-то из клешней, хвалили, запивали янтарным напитком из разнородных дачных емкостей, и четырехлетней Веточке разрешалось пригубить пену с папиной и маминой кружек, и было весело… Она определенно знала, что такое рак!
Мама больше не вышла замуж. Злые люди, как водится, объясняли это просто: «Кому она нужна была "с прицепом"!», но мама убежденно говорила всем желающим услышать: «После такого брака, как был у нас, любой другой – ступень вниз». Также считала и Вета про свою любовь: другой не будет, никакой ступени вниз – только лестница, и обязательно вверх, до самого неба. Как положено.
Ступенек вниз оказалось три: первая называлась потрясение, вторая, чуть ниже и не такая крутая, – изумление, а на третьей, пологой и безопасной, под названием «удивление», Виолетта застряла навсегда. Она до сих пор не могла понять – как вообще могла произойти такая нелепая, невозможная метаморфоза. Ведь это был один и тот же человек! Ее родной Миша, с которым она лежала на настоящей пуховой перине среди трубящих вокруг слонов, прижавшись так тесно, что казалось, будто, отодвинувшись, они вырвут у кого-то из двоих кусок приросшей к другому кожи, и слышала теплый шепот у виска: «Между нами сейчас и волоска не протиснуть! И это меж телами! А представляешь, что творится с душами?! Смогут ли они когда-нибудь разъединиться хоть на микрон?!». «Нет, конечно, – спокойно и уверенно отвечала она. – О таком даже думать смешно». Тот же самый, недавно писавший длинные, нежные, достойные любовного романа письма из армии, давший потом ей свою красивую таинственную фамилию и подаривший замечательного здорового сына Влада, – год спустя, наотмашь, по-мужски, не рассчитывая силы, бил ее, прикрывающую локтями исходящую молоком грудь, обеими руками по щекам и хрипло выхаркивал в ее из орбит от ужаса лезущие глаза: «Сука! Уродка! Обезьяна тупая! Да когда ж ты сдохнешь, наконец, чтоб мне от тебя избавиться!». Закон тогда еще не позволял мужу подавать на развод во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка, поэтому освободить его действительно могла только смерть супруги, которой он в тот момент неистово и страстно желал… Любимый, только вчера, казалось, баюкавший ее у себя на груди.
Причину Виолетта узнала через несколько лет после развода: в армии Миша влюбился «не по-детски» в замужнюю женщину, жену командира, – безответно. Это банальное несчастье случилось перед самым дембелем, пришлось обреченно возвращаться в Петербург, где ждала исстрадавшаяся от разлуки разлюбленная невеста… Ему бы и тут поступить по-взрослому: объясниться и расстаться – глядишь, и целей – целостней! – остались бы оба. Он же по неопытности решил выбить клин клином, женившись и даже сразу настояв на ребенке, – желая сжечь мосты и упрямо шагать вперед. Мосты сгорели успешно, но любовь сотворена несгораемой – это он понял быстро и возненавидел жену просто за то, что она – не та, которая еще много лет стояла перед глазами… Михаил буднично, именно походя, как давно ожидала его прозорливая теща, сломал Виолетте жизнь. Оставшись одна с ребенком и потерявшей работу матерью, которая теперь перебивалась случайными заработками, а чаще всего неподъемной гирей, с которой хоть топиться иди, висела на шее дочери, Вета не смогла окончить свой любимый медицинский институт, вылетела после третьего курса с правом работать медсестрой – и ею всю жизнь и проработала, таща на хребтине семью: сначала на двух сестринских ставках и одной санитаркиной в простой городской больнице, а потом удалось пробиться в получастную клинику, где хотя бы не приходилось мыть палаты с коридорами и выносить судна из-под лежачих… Мама умерла от быстрого и безболезненного инфаркта в пятнадцатом, успев пышно отметить свое никому не нужное и безрадостное пятидесятилетие, – и тогда Виолетта, в то время стремительно увядающая фиалка, позволила себе такую роскошь, как всего полторы ставки, благо девятилетний Владик учился в бесплатной районной школе и особых расходов не требовал, а на себя она давно махнула рукой: пара юбок, пара свитеров, обувь какая-то еще от матери осталась, плюс потертая дубленка с лысеющим, как старый пес, воротником, да защитного цвета пуховик, почти приличный, если регулярно обирать с него перья… Косметикой Вета не пользовалась, украшений не носила, серые волосы закалывала удобной заколкой.
Но никак не могла перестать удивляться.
* * *
Через час все было кончено. Апокалипсис на какой-то срок отменялся. Отбой воздушной тревоги. Там, во временно «свободном» мире, где существовал еще, наверное, интернет, вероятно, знали, что именно произошло, а по их единственному питерскому телеканалу врубили в половине четвертого утра успокоительную комедию конца прошлого века: седой представительный мужчина в костюме и галстуке, вися на карнизе небоскреба, цепляется одной рукой за раму открытого окна, из которого только что выпал, а другой – за детородный орган могучего каменного атланта, поддерживающего крышу здания, и, судорожно разинув рот в сторону своей экзотической опоры, изо всех сил тщится подтянуться обратно на подоконник; видя эту сцену, женщина с феном в другом окне истошно визжит…
Забытую Владом заначку – непочатую бутылку среднего качества водки – его мать нашла сравнительно недавно, но в дело – с полным правом! – пустила только сейчас. Руки тряслись крупным трусом – Виолетта задержала на них взгляд: разве это руки дамы? Или хотя бы просто женщины? Шершавые, с упругими шнурами вен, пока еще светлыми, но явно проступившими старческими пятнышками, неровно обстриженными ногтями с безнадежно заросшими лунками… Это руки бабы. Замотанной, навсегда испуганной и загнанной в пятый угол русской бабы, которой уже все равно. Фиалка увяла полностью, вот-вот упадет на землю ее сморщенный стебель – но весной не взойдет новый яркий цветок, потому что весны не будет. Скорей всего, ни для кого.
Она налила себе большую рюмку до краев, выдохнула, зажмурила глаза и опрокинула. Первая, как и должно, зашла «колóм». Вета наугад нащупала чашку с остатками вчерашнего бледного чая и сделала большой глоток, промывая обожженное горло… Стало легче. Молодец ее беспутный сын Владик: забыл бутылку, когда переезжал к своей Василиске. Хоть есть за что сыночка похвалить.
С сыном Виолетта в одиночку не справилась: в девять лет оставшись без бабушкиного строгого и нежного догляда, слишком рано получил он неположенную по возрасту вольность. Вета работала на полторы ставки – сутки через двое, и потому буквально с младшей школы пришлось Владику научиться эти сутки проводить полностью самостоятельно: газ она перед уходом перекрывала, поэтому мальчишка бойко разогревал обед в микроволновке и нес к компьютеру, где до поздней ночи погружался в продвинутые игры, даже не думая делать уроки или (к великому счастью) выскакивать в кишащий педофилами двор. Судя по обилию фотографий пропавших без вести детей обоего пола, коими обклеены были очень многие окрестные парадные, столбы и даже деревья, обширные дворы округи действительно представляли собой нешуточную опасность для рискового ребенка, но вот за свое домашнее немногословное чадо Вета могла почти не волноваться, каждую свободную минуту звоня ему по скайпу и убеждаясь, что от игрового компьютера мальчик отходит только в туалет или на кухню за невинной вкусняшкой. Вне дома он оказался за все годы лишь несколько раз – но исправно отвечал со смартфона, озвучивая вескую причину отлучки, – например, севшие батарейки капризной «мыши» или день рожденья очкастого соседа по парте. Следующие два дня проводя дома, мать гоняла упрямого отпрыска от компьютера, угрозами усаживала за уроки, которые Влад неохотно, но быстро делал, не вынимая наушников. Голова его, видимо, варила неплохо, потому что, не прилагая для учения почти никакого серьезного труда, в школе он уверенно занимал твердую и ровную позицию хорошиста с редкими тройками, что вполне устраивало как отрока-пофигиста, так и его со всем смирившуюся мать. С легкой грустью думала она редкими спокойными ночами в сестринской, когда удавалось прилечь и подремать вполглаза на мягком дерматиновом диване, медленно и коварно поглощавшим куда-то в колеблющуюся глубину ненадолго прилегшего человека, что помедлила бы ее мама воссоединяться на Небесах с любимым супругом – и, пожалуй, удалось бы им вдвоем слепить из головастого и невредного Влада отличника-медалиста с гарантированным будущим. Но одна Виолетта не потянула… К одиннадцатому классу у нее вырос рыхловатый юноша-тюфячок с неясными перспективами, смутными планами, равнодушно послушный, с лучшим другом-компьютером… Поэтому великой тайной, так никогда и не раскрытой, стала для Веты внезапная бурная любовь сына к однокласснице Леночке, тоненькой богемистой девушке, носившей по серебряному колечку на каждом пальчике, что странным образом выглядело не безвкусно, а загадочно. Леночка готовилась поступать в театральный, даже успела несколько раз сняться в эпизодах популярного детективного сериала, затащила туда в групповку покорного, как телок, Влада – и вот уже, вернувшись с ночных съемок в здании городского суда, он, возбужденно жестикулируя, чего за ним с рожденья не водилось, рассказывал на кухне как раз пришедшей с тяжелых «суток» матери, измученно припавшей головой к холодильнику:
- Слушай, а это круто, оказывается! Нас там было человек пятнадцать в групповке. Пока артисты снимались в зале суда – а Леночка-то секретаршу, между прочим, играла – маленькая роль, но даже со словами! – мы сидели за столом в холле – и каждому, прикинь, положен бесплатный горячий обед их трех блюд на выбор: там, типа, походный буфет поставлен. А чай-кофе-выпечка – вообще по принципу шведского стола – подходи, наливай, бери, что понравилось… Ну, мы, конечно, сразу все перезнакомились: есть люди, которые постоянно на съемках тусуются, надеются, что в эпизод пригласят. И, знаешь, случается! Одна красотка, черненькая такая, харáктерная – так ее прямо в «Войну и мир» раз пригласили. Там ее из горящей Москвы не то Пьер Безухов, не то Андрей Болконский спасал… Да, так вот, у кого-то с собой, конечно, «было»… Короче, всю ночь тусили классно – периодически только вызывали нас в зал, чтобы, это, публику изображать. Десять минут поизображаем – и опять за стол. А в зале артисты очередные дубли записывают… Наконец, приходит помреж и говорит: групповка свободна. Мы, такие, вещички свои похватали – и всей тусой на выход, светало уже. И вдруг слышим: «Куда? А деньги кто получать будет? Паспорта давайте!». А мы: «Так за это еще и деньги платят?!». И, прикинь, по две косых каждому выдали без всяких. Наличными. Тут я понял, почему некоторые чуть не каждый день снимаются, – чтоб я так жил!
Неожиданная мечта об актерстве завладела Владом прочно, почти так же, как и Леночка, только та, обросшая знакомствами и сама соответствующего роду-племени, с первого раза легко поступила в институт на Моховой, а Влад с грохотом провалился прямо на первом туре. По наущению Лены, он немедленно записался на какие-то ненадежные полупрофессиональные курсы актерского мастерства, где, внаглую подхалтуривая, преподавали почти все те же мастера своего дела, что и в государственном институте. Надо отдать Владу должное: с самого начала он платил за учебу лично, навострившись что-то ловко писать и продавать в Интернете, – сия наука была его матери непостижима, но она особо и не вдавалась в таинственные подробности… Сын и его девушка поселились в съемной квартирке неподалеку – и тут выяснилось, что Лена беременна. Едва вышедшие из детства полуподростки проявили дурацкую ответственность: тайно сходили в Загс, дабы обеспечить будущему дитяте рождение в законном браке, – и зажили было, как умели, весело – молодые, здоровые, полные любви и надежд… Виолетта не осуждала и не отговаривала: она помнила себя в их доверчивом возрасте, веру в чудо и сама не утеряла вопреки всему, от невестки подвоха не ждала, про сына знала точно, что не подлец. Все могло и сложиться…
Трагедия вошла к ним запросто: так нежданный гость, не потрудившись предупредить, бесцеремонно звонит в дверь нацелившимся на уютный вечер в кругу семьи, по-домашнему одетым хозяевам – жена без косметики и в бигуди, муж в растянутых трениках гол до пояса… Кто-то из «бывалых» убедил ребят решиться на модные домашние роды: Лена носила легко, играла на сцене до шестого месяца, не поворачиваясь в профиль к зрителям; акушерка, рекомендованная надежными друзьями, знала свое дело на ять… Здоровый трехкилограммовый мальчик родился быстро – в ванне – вынырнул красненьким, науке неизвестным дельфиненком на поверхность и, подхваченный умелыми руками, голосисто возвестил о своем прибытии в предапокалиптический, уже бурно лихорадящий мир. А у его матери не отходила плацента, требовалось ручное отделение под наркозом. Умелая акушерка лицензии на домашние роды не имела и «скорую помощь» все медлила и медлила вызывать, надеясь обойтись своими силами. Вколов кровоточащей Лене обезболивающее, она уверенно приступила к делу – и вдруг кровь хлынула неостановимо, как из крана. Юный отец, неловко державший первенца на вытянутых руках, не понимал в медицине ровно ничего – а Вету даже в известность о родах не поставили: ведь стоит детям достигнуть совершеннолетия – и решения прекрасно принимаются безо всяких там мам с устаревшими взглядами… С кровотечением акушерка не справилась, принуждена была позвонить в «скорую» – и немедленно скрылась с места преступления, испугавшись грозной ответственности и бросив умирающую родильницу без помощи. Машина приехала простая, не реанимационная, потому что, делая вызов, акушерка побоялась рассказывать диспетчеру подробности, упомянув лишь домашние роды… И до больницы Лену уже не довезли.
А дальше пошло как по писаному. Молодому отцу новорожденный младенец оказался пугающей помехой – и немедленно был сдан с рук на руки бабушке Вете, которая по счастливому стечению обстоятельство как раз вышла в очередной отпуск и сразу смогла наладить правильное взращивание и вскармливание; она же и стала крестной рабу Божьему Иоанну. Предполагалось передать его через некоторое время второй безутешной бабушке: той не было и сорока, так что Ваня мог стать ей фактически новым сыном-утешителем. Однако вскоре выяснилось, что молодая бабушка и сама давно уже ждет ребенка от некоего женатого друга, и второе дитя ей сейчас не по зубам. Вот и остался сиротка-Ванечка у Виолетты, самовольно переименовав ее в пожизненную «Ба» – а отец его, огражденный от армии врожденным, но никак не ощущавшимся плоскостопием, так по-настоящему домой и не вернулся. Заскакивал, правда, пару раз в неделю, сосредоточенно катал кроватку, от чего сынишка заходился неостановимым ревом, навязчиво тряс над ребенком огромной нелепой погремушкой, вызывавшей у того ступор, добросовестно жал на кнопки стиральной машины, забитой пеленками, даже памперсы несколько раз приносил – правда, однажды по ошибке купил девичьи…
Через год он заявил матери, давно оформившей опекунство над внуком, что ребенка мало крестить, а нужно причащать ежевоскресно: он-де теперь, наученный смертью юной жены, усердно «воцерковляется» и намерен вырастить сына в вере. К тому времени его увлечение лицедейством исчезло, как не было, он по очереди начинал и бросал какие-то смутные интернетные проекты, окончил несколько разнородных курсов, потом прибился к одному из храмов в качестве «на все руки мастера» – и стены белил как умел, и алтарничал в старом стихаре до щиколотки, и купол золотил – показали и перенял, и сайт вел согласно одному из дипломчиков, и на клиросе подвывал… За все был очень уважаем и получал копейки… А вообще стал типичным «перекати-полем» – видели они с Ванечкой в Крыму этот странный сорняк без руля, ветрил и корней… Упустила она сына. Упустила.
Влад действительно стал прибегать каждое воскресенье, хватал уже чин по чину снаряженную коляску с ребенком и торжественно катил в церковь – не ближайшую, а «свою», особенную, где властвовал кроткий и милостивый отец Петр. Собственно, этим отцовское воспитание и ограничивалось: объяснять подросшему Ванечке, зачем и к Кому таскают его утром выходного дня в церковь, не давая выспаться, пришлось именно терпеливой бабушке… А на неделе, хнычущего и надутого от недосыпа, наспех одетая Ба снова и снова волокла его в недалекий и нелюбимый «садик», полный злых теть и жестоких деток. Поспать вволю позволялось только в субботу – и это Ванечку категорически не устраивало…
* * *
Вторая пролетела «соколóм» – Виолетта ее даже на запивала: чай в чашке кончился, а встать за новым после пережитого не было сил. Не раз приходилось, отоваривая карточки в бывшем супермаркете за углом, почти искренне рассуждать в очереди с товаркой по несчастью о том, что «…если действительно долбанет, то прятаться все равно бесполезно, только хуже будет – уж лучше пусть сразу…» – а когда дошло до дела, неперебиваемый инстинкт самосохранения заработал автономно, не позволяя жертве не то что думать о высоком, но и просто делать лишние, к спасению не относящиеся движения.
При первом же проблеске подлинного понимания, что тревога не учебная, а взаправдашняя, Виолетту подбросило с дивана – а внутри мгновенно включился точный до миллионной доли секунды обратный отсчет. Он не позволил ей сменить трикотажную пижаму на любую приемлемую одежду, но заставил влезть ногами в кроссовки, и одновременно забросить на спину уже много месяцев ожидавший в прихожей своей минуты славы «тревожный рюкзачок», собранный по настойчивым советам держать наготове чемоданчик с запасами всего необходимого «из расчета на трое суток». Последние полгода подобные призывы неслись отовсюду – даже с уличных баннеров, где олимпийски спокойная перед концом света молодая семейная пара навеки покидала благоустроенную квартиру, имея каждый в одной руке по чемоданчику, а в другой – по умытому и причесанному ребенку; озадаченная голубоглазая хаски оставлялась на погибель и для полной убедительности была перечеркнута красным крест-накрест. Впрочем, и хозяевам оставалось максимум три дня – или на сколько хватит чемоданчиков…
Следующий шаг Виолетта сделала в комнату внука, которого, сонного, теплого, сладко бормочущего, одним движением сгребла в охапку вместе с одеялом, – и, зачем-то схватив с тумбочки ключи (что предстояло открывать ими по уцелении и возвращении после нескольких ядерных взрывов?!), бросилась в таком виде на лестницу, сотрясавшуюся от топота многочисленных вниз устремленных ног – и именно в этот момент по каким-то непреложным правилам безопасности отключили свет. Да – случись их бегство зимой – и пришлось бы нестись в полной темноте, но нарождавшаяся белая ночь обеспечила какую-никакую видимость в подъезде – где Вета сразу узнала одутловатое лицо соседки с третьего этажа: глаза ее показались настолько круглыми, что некстати вспомнилась базедова болезнь и, закономерно, – Надежда Константиновна Крупская, чей образ так и мелькал перед мысленным взором Виолетты, пока она не вырвалась с ребенком на руках в серую, без единого цветного проблеска ночь. Их подъезд был крайним у здания, оставалось пробежать метров пятьдесят мимо бывшего торгового центра до одного из восьми входов в подземный переход к метро – и туда, казалось, устремился весь город! Из всех несомых и волокомых детей, молчал, наверное, один лишь Ванечка – случайно глянув ему в лицо, Виолетта увидела открытые, наполненные странным пониманием и почти принятием, совершенно взрослые глаза – и сразу горячо плеснуло в сердце – где сейчас Влад?! – есть ли там метро поблизости?! Остальные человеческие детеныши животно кричали и выли, некоторые упирались, подкашивая ноги, как, впрочем, и женщины определенного типа. Одну такую, извивающуюся и визжащую, из последних сил тащил на руках здоровенный мужик с голым торсом и бритым черепом, по логике обязанный изрыгать страшные ругательства, но на деле, проскакивая мимо, Виолетта ухватила его уютное, будто младенцу в колыбели предназначенное бормотание: «А кто это тут у нас так пла-ачет горько…». Она так и не узнала, удалось ли женщине вырваться и создать ему еще больше проблем: он, конечно, не бросил бы свою жалкую дуру на произвол судьбы, погнался бы за ней – и испарился на бегу, успев или не успев увидеть, как она испаряется тоже. Еще через одну минуту – и, по внутреннему счетчику, за две до герметизации дверей – Виолетта с внуком были у ступеней – но там предсказуемо образовалась галдящая, матерящаяся, рыдающая, проклинающая, готовая затоптать и уже, вероятно, топчущая кого-то пробка. Люди поднимали вверх самое дорогое: большинство – детей, но кое-кто – и битком набитые чемоданы; и – да, плыли над головами две-три кошачьи переноски: даже среди бушующего вокруг апокалипсиса некоторые кошатники не изменили сердцу… Виолетту стиснуло со всех сторон, одна нога стояла еще на асфальте, но вторая уже зависла над бездной лестницы, сзади кто-то всей тяжестью навалился на рюкзак – надо поднять ребенка! Все еще замотанного Ванечку стало тянуть вниз из ее рук, потому что под ноги толпе попал конец его одеяла; бабушка отчаянно рванула внука под мышки и, к счастью, выдернула вверх, удобно перехватив под попу… А мальчик все молчал, прижавшись к щеке своей Ба, – «Закрой глаза, закрой!» – зашептала она, охваченная смутным желанием выдать все это за сон, а, когда кончится, объявить ночным кошмаром… «Они сожгут нас здесь!!! – вдруг истерически выкрикнула женщина по соседству. – Сами-то сидят сейчас в своих бункерах! С бассейнами и проститутками!». И надо же, и тут нашелся неутомимый шутник, из тех, что и перед казнью ухитряются рассмешить и товарищей с завязанными глазами, и расстрельную команду. Он немедленно прореагировал: «Что, уже, походу, не против была бы их там ублажать?» – и действительно, из ближайшего окружения донеслось несколько судорожных хмыков… Но тотчас раздался истошный вопль: «Закрывают! Закрывают!! Не успели!! Даже в переход не успели!!!». Толпа взревела – «Сейчас гореть будем!!!» – и поднаперла. «Не смотри… Не смотри…» – как заклинание повторяла Виолетта, смертельно боясь, что атомная вспышка ослепит Ваню навсегда, – но не представляя, как они сейчас за миг превратятся в пепел! И надо всем, не прекращаясь ни на миг, неслось прямо с неба, давило и парализовало волю самое страшное: один длинный – два коротких, один длинный – два коротких…
Это, наверное, уже трубили ангелы.
* * *
А остальные мелькнули мелкими пташечками – Виолетта опрокидывала рюмки одна за другой, не замечая ни быстрых ожогов, ни сивушной отдачи, – и дождалась целебного действия: хлынули теплые освобождающие слезы, словно прорвало какой-то давний нарыв, мешавший жить и дышать… Благодать слез была давно уж отнята у нее – не в эти последние месяцы запредельного напряжения – гораздо раньше: еще когда почти без выходных разносила лекарства, вела электронный журнал, разрывалась между капельницами, грохотала каталками по длинному обшарпанному коридору, ночами возила грязной тряпкой по сбитым плиткам, носилась со шприцами из палаты в палату, отругивалась от провонявших мочой и потом бесхозных стариков, а в половине седьмого утра, после рваного и короткого, как простыня в бесплатной палате, полусна, разносила электронные градусники… Вначале она еще молилась про себя, и тогда набегала легкая слеза саможаления, а потом уж и на это недоставало сил. Так слезы и кончились на долгие годы, но, конечно, копились внутри, иногда прорываясь наружу в виде вспышек ярости на пустом месте или внезапных странных болезней… Сейчас горькая соленая вода текла по лицу неостановимо, и вспомнилось вдруг, как больше тридцати лет назад, еще под занавес прошлого тысячелетия, долго зрел на верхней губе багровый, с жемчужной головкой фурункул, и опухоль перекинулась на нос и щеку, и больно было даже моргать, а еду в виде жиденькой кашки мама аккуратно засовывала Вете за здоровую щеку чайной ложкой – и каждый глоток причинял страдание; лекарства и мази не помогали, оперировать в носогубном треугольнике врачи не решались, но однажды фурункул лопнул сам, ночью, залив желто-зеленым гноем всю больничную подушку и оставив по себе алую дыру, в которую легко помещался кончик мизинца, – и зарастала она больше года… Только с оргазмом можно было сравнить то незабываемое облегчение и блаженство – и вот, что-то подобное испытывала Виолетта теперь.
Она уже плохо помнила сумятицу, наступившую после того, как ангелы вдруг перестали трубить, словно споткнулись, и донесся ясный, пусть и записанный когда-то заранее, но человеческий голос: «Внимание! Граждане! Отбой воздушной тревоги! Внимание, граждане! Отбой…». Наступила тишина – на малое время… Потом, из-под земли стал вырастать разноголосый гомон, выкрики, даже смех, толпа нерешительно качнулась в обратном направлении, замерла, дрогнула – и начала распадаться, как раковая опухоль под прицельным огнем облучателя… Ванечка заговорил только, когда надежная Ба отперла дверь все-таки пригодившимся ключом и уложила внука в свою собственную постель, укутала одеялом… Он деловито спросил: «А что, мое, с верблюдиком, та тетя так и унесла, да?». Оказалось, он заметил, что его одеяло упало на какую-то женщину, зажатую перед ними на ступеньках, – и так на ней и осталось. «А у нас еще одно точно такое же есть!!!» – изо всех сил выражая бурную радость, отозвалась Ба, и это было сущей правдой: им действительно случайно разные люди подарили на Новый год два одинаковых детских одеяльца. «Только ты сегодня, пожалуйста, у меня поспи: ведь мой плед такой мягонький, с мишками, он тебе тоже нравится, я знаю…». С обычно несвойственным ему детски-счастливым выражением Ваня завернулся в мохнатое покрывало, с преувеличенной готовностью закрыл глаза и даже ручки под щечки сложил, как пай-мальчик. Виолетта внутренне ахнула: да ведь он понял, что грозило нечто самое страшное, и бабушке пережить это было трудней, чем ему! И теперь, чтоб стало ей легче, Ваня ловко играет роль невинного малыша, который ничего не понял про ночную пробежку, воспринял ее как необычное развлечение, совершенно счастлив, вернувшись домой и получив разрешение поспать на бабушкином диване… «Ах ты, милый… – только и смогла выдавить Виолетта сквозь сухой ком в горле. – Маленький, а уже такой… большой».
* * *
Мысли путались, оглушающая нервозность, сопровождавшая последние месяцы каждый шаг, постепенно отступала… Как медик, Виолетта заученно кляла в мужских палатах водку – врага номер один семьи и здоровья – но сегодня вынуждена была испытать на себе всю пользу народного напитка. На дежурство не надо, в «садик» она Ванечку сегодня не поведет – да и вообще, после сегодняшнего ночного приключения, кажется, не поведет никогда! На несколько секунд она представила себя воспитательницей их старшей группы, двадцатидевятилетней Светланой Викторовной, у которой есть сын-первоклассник… Под детским садом имеется бомбоубежище, о чем гласит полуметровая надпись со стрелкой на стене здания, – говорят, чистое и с запасами, но мелкое, то есть, будущая братская могила. По инструкции Светлана Викторовна должна при первых звуках тревоги немедленно отвести группу в убежище и оставаться там с детьми до отбоя – если таковой последует; а если нет – то умереть там вместе с воспитанниками, как Януш Корчак в газовой камере. Только тут все, наверное, произойдет быстрее… А может, рванет далеко, и ребятки с воспитательницей выживут… Только вот представить себе, что молодая женщина-мать кинется спасать два десятка чужих детей, плюнув на спасение одного – своего собственного, который в тот момент окажется неизвестно где и с кем… Вряд ли. Виолетта, например, покинула бы их всех на произвол судьбы при первом же звуке сирены – и бросилась спасать внука или погибнуть с ним. Чудовище она или нет – пусть судит тот, кто поступит иначе… И после того, как поступит. Вот на работе, например, дежурным сестрам и санитаркам вменено в обязанность в случае тревоги обеспечить отправку всех больных отделения в бомбоубежище – и что? Они действительно кинутся это делать? Но даже младшая уборщица с дебильным лицом и вечно приоткрытым ртом понимает, что ходячие никакой помощи ждать не будут, сами рысью помчатся в направлении, указуемом грозными стрелками, а лежачие… Ночью, например, двум сестрам и санитарке втроем никакими силами не успеть перевалить всех на каталки и за семь-четырнадцать минут не спустить по лестнице в укрепленный подвал, да еще без лифта, который вместе с электричеством будет сразу же отключен… Никак. Делать этого никто не станет. А после, даже если кто-то уцелеет, спрашивать будет бесполезно – и, скорей всего, некому и не с кого… За совершенные в те минуты предательства никогда не взыщется, а за героизм – не воздастся. Во всяком случае, на земле. Ну, а там… Там войдут в положение. Потому что знают, что грехопадший человек – дрянь…
Виолетта перевернула бутылку вертикально верх дном, поймала рюмкой последнюю тонкую струйку, постучала по донышку – и аккуратно переместила пустую тару под стол – по старой памяти: так делали с незапамятных времен, чтобы пустая бутылка не коснулась стола, что грозило хозяевам дома обнищать до того, что никогда больше не выставить на стол полную! Так делали, но это не помогло: по карточкам на человека полагается в месяц килограмм таинственных «мясопродуктов», десяток яиц, по килограмму крупы, муки и сахару, двести грамм масла сливочного, литр растительного и бутылка водки на взрослого, а детям вместо этого последнего – три литра молока. Это считается гарантированным – но только если ты трудишься на государственной службе, являешься пенсионером или ребенком. Частные работодатели обеспечивают работников по своему усмотрению, всем остальным не положено ничего: крутился до этого – выкрутишься и сейчас… Все, в карточки не заложенное, нужно «ловить»: любые овощи, хлеб-булку, мыло, кур, чай, спички, свечи… Да мало ли еще что! «Поймав» что-то некарточное, берут столько, сколько дают в одни руки, или сколько удается унести; на площадях у бывших торговых центров, заранее превратившихся в пугающие памятники погибшей цивилизации – темные сооружения из ржавой арматуры и битого стекла, ежедневно бойко работают спонтанные обменные базары, где счастливчик, разжившийся десятью кусками мыла, может обменять их на десять же коробков спичек или столько же хозяйственных свечей – и уже деловито скользят в толпе мародеры, выискивая желающих пока еще тайно обменять золотые украшения на лекарства – ибо даже аспирин, чтобы сбить температуру ребенку, теперь продается только по рецепту в киосках при медучреждениях, а чем торгуют аптеки, не знает никто… Лично Виолетта беззастенчиво ворует оставшиеся лекарства у себя в клинике – и совесть ее не мучает…
Последнюю рюмку она выпила уже как воду – в половине шестого утра, упорно силясь вспомнить, выстроить события в правильный ряд: как могло все произойти так быстро? В какой последовательности подтягивались предварительные беды, чтобы где-то в оговоренном месте слиться в одно огромное, все затмевающее горе, и нагрянуть без предупреждения? Ведь еще минувшей осенью, да-да, осенью, когда был ее последний отпуск, они с Ванечкой преспокойно (ну, положим, не так уж спокойно, волновалась она, конечно, – как да что, но решилась же!) летали в Судак на бархатный сезон, объедались пьяным, густо-янтарным виноградом, и ягоды, казалось, были налиты сладким вином сами по себе, от солнца, и Ваня выбирал из легкого прибоя только зеленую гальку, про которую какая-то девочка наврала ему, что это дорогой нефрит, и он поверил, что они с Ба вот-вот разбогатеют… Перед Новым годом вдруг начался Великий Исход петербуржцев из родного города: ощущение близящейся катастрофы, растворенное в воздухе, гнало вон тех, кто имел загородные дома: люди стремились отправить хотя бы семьи подальше от мегаполиса-мишени. Виолетта могла только с завистью слушать разговоры удачливых коллег, имевших дальнюю недвижимость, где подвалы уставлены домашними заготовками: ее-то собственная купленная по случаю за бесценок щелястая избушка, топтавшая курьими ножками болотистый участок в районе Мги, благополучно сгорела еще позапрошлым летом – сама, без хозяев; то есть, подожгли, конечно, соседи, желавшие расширить свой участок, – но Виолетте предложили такие унизительные копейки, что она из принципа оставила бесполезную землю за собой, хотя возвести там новый домик не имела ни сил, ни средств. «Может, Влад соберется когда-нибудь, – утешала она себя. – Женится, другие детки пойдут, а тут тебе земля готовая, бери да стройся…».
Зависть к коллегам кончилась в тот день, с которого стало по-настоящему страшно – навсегда. Это случилось в феврале, когда в понедельник на работу неожиданно не вышла старшая медсестра Катерина, еще в Рождество отправившая маленькую дочь с бабушкой в хорошее обжитое село под Новгородом, где был у них лет пятнадцать как куплен, перестроен и оборудован надежный бревенчатый пятистенок, служивший в качестве дачи уже второму поколению... Старшая не позвонила сообщить о том, что заболела, ее домашний и мобильный молчали, доживавшие свое социальные сети сообщили, что она уже двое суток не выходила в интернет… Вечером операционная сестра, со старшей приятельствовавшая, по собственной инициативе отправилась к ней, боясь, что мог произойти несчастный случай, – упал, например, человек в ванной, лежит без сознания… И один нюанс имелся, деликатный: у нее были ключи от квартиры пропавшей, выданные недавно подругой для тайных встреч с женатым любовником.
Утром операционная сестра растеклась по дивану в сестринской, опухшая от слез до неузнаваемости: войдя накануне в чужую квартиру, она увидела Катерину в петле, уже окоченевшую…
На шум, производимый на лестнице всеми скорбными службами по очереди, от медицинской до ритуальной, следовавшими одна за другой, вышла и без того заплаканная соседка и, узнав в чем дело, пуще разрыдалась прямо перед полицейскими. Позавчера она встретила Катеньку на лестнице: та поднималась в свою квартиру, шатаясь и цепляясь за стену. Соседка удивилась: такая положительная женщина – и вдруг пьяна, как бомжиха. Нет, Катя оказалась трезвой. Она ездила на выходных навестить семью под Новгород. Приехала – а в доме уже опергруппа и следователь. Обеих – и пожилую мать ее, и маленькую дочь зверски изнасиловали и зарезали. Дом оказался разграблен дочиста, ни крошки съестного, ни одного сколько-нибудь ценного предмета в нем не осталось. Опера посочувствовали, сказали, что случаи такие в районе только за последнюю неделю исчисляются десятками, и, по мере бегства людей из больших городов, это явление вскоре станет рутинным и повсеместным. А противостоять ему не сможет никто. Беззащитные деревенские и просто дачные дома станут легкой добычей с каждым днем все более и более разнузданных отморозков. Даже двое мужчин с оружием в руках не смогут оборонить семью от банды вооруженных, пьяных, обкуренных или ширнутых нелюдей… И лучше мгновенно сгореть при атомном взрыве в Петербурге или Москве, чем попасть в лапы шныряющих по тылам и деревням озверевших от безнаказанности выродков… Коротко рассказав все это соседке, Катя сомнамбулически прошла мимо нее и заперлась в своей квартире… Больше никто не видел ее живой.
Снежный ком сорвался и покатился. На той же неделе «временно» пропал интернет, мобильная связь была ограничена домашним регионом; еще через месяц ввели продуктовые карточки, а на телевидении остались два канала – центральный и местный; включать оба было страшно, потому что там либо шли нелепейшие из комедий, либо в радужных красках, как обязательно победоносная, описывалась ожидавшаяся со дня на день большая война…
Большой Песец шел на мягких плюшевых лапах, давя зазевавшихся, стелился набитым добычей брюхом по застывшей в ожидании крови и пепла земле, воровато мел по сторонам огромным пыльным хвостом, разметая с пути людей, или вдруг останавливался, оскаливал острозубую пасть и остервенело выкусывал их из лоснящейся шкуры, как нерасторопных блох… БП. Эта аббревиатура еще означала – Без Просвета. Не для всех – для тех, кто не только понимал, но и чувствовал.
Виолетта Алектор была как раз из таких.
На пустом столе перед ней коротко пропел смартфон – пришла смс-ка. После исчезновения интернета они, почти исчезнувшие было из обихода, востребованные только теми, кто перешагнул семидесятилетний рубеж и отчаянно цеплялся за прошлое, вновь, как лет тридцать назад, стали популярным средством связи меж близкими и дальними – правда, только в пределах родного региона. Виолетта пододвинула, его, провела пальцем по экрану – и на крупной аватарке высветилось лицо ее блудного сына. «Мама я уехал в псковскую область, когда вернусь не знаю связи не будет сама знаешь обо мне не беспокойся благослови береги ваньку приеду заскочу», – гласило послание. Виолетта была рада уже тому, что Влад вообще написал ей о том, что уезжает куда-то, – обычно он просто пропадал на неопределенное время, становясь по телефону «недоступным», потом вдруг выныривал из серой пропасти под названием «ниоткуда», а на материнское волнение реагировал резонным: «А чего обо мне волноваться-то?». Теперь же, уезжая зачем-то в Псковскую область в такие неспокойные времена, он вдруг счел нужным даже попросить материнское благословение! Не будь его мать в этот момент так безбожно пьяна, она испугалась бы до печенок: ведь это означало, что сын ждет особой, личной, а не только одной на всех людей опасности от своего путешествия! Но сейчас Виолетта чувствовала простую чистую и сентиментальную радость, какая охватывает любую мать при получении даже краткой весточки от сына. «Благословляю тебя, сынок… – прошептала она, глядя на аватарку, откуда смотрели яркие глаза ее сына. – Дай тебе Бог удачи во всех твоих делах…». И Виолетта перекрестила экран смартфона.
2. Адресаты
Иногда Владислав просто поражался, насколько ложное представление родная мать может иметь о собственном ребенке. Его мама словно прочитала в интернете лженаучную статейку какой-нибудь феминистки-неудачницы, где каждому мужчине любого возраста полагалось быть отнесенным по нехитрым критериям в одну из немногочисленных психологических групп с говорящими названиями: «альфонс», «тюфяк», «раздолбай», «ботаник», «маменькин сынок», «подлец», «манипулятор» – и подобными, причем положительных заголовков, вроде «романтик», «защитник», «искатель», «воин», «отец» – не предусматривалось вовсе. Влад однозначно причислялся матерью к презренным «раздолбаям» – потому что не имел должного прилежания к постижению общеобразовательных наук (а она хоть раз слышала о школьнике, одержимом учебой?! Или, может, имела случай лицезреть такое чудо – в музее, под стеклянным колпаком?!). Переживала, что Влад «с его способностями» – не отличник с блестящим будущим, но сама не умела представить это радужное грядущее, а уж, тем более, путей к нему не знала (кроме приевшегося постулата: «Твоя обязанность – учиться!») и направить по ним сына не могла. По-настоящему мать беспокоила только его физическая безопасность; ее, по-видимому, преследовали по ночам кошмары с маньяками, поэтому, работая сутками, она постоянно желала убедиться в том, что сын ее дома, в относительной безопасности. Газовый кран перед дежурствами машинально закручивала, даже когда ее Владик уже готовился жениться. Беспрерывно проверяла наличие своего растущего чада дома за компьютером, вбив себе в голову, что оно занято игрой (это было положено по умолчанию: недоумки-отпрыски ее коллег ничего интереснее в компьютере не находили, кроме, разве что, порнографии). Влад же с тринадцати лет вел собственный продвинутый канал, через пару лет имевший несколько тысяч подписчиков: вроде, ничего необычного, просто высказывал свое мнение по разным вопросам и снабжал их эксклюзивными авторскими фотографиями; только мнения его, выходит, все-таки оказывались особенными, а фотографии – небанальными. За тем же компьютером или в смартфоне он запоем читал онлайн, читал не серийные страшилки про незадачливых попаданцев или жесткий постапокалипсис, а редкие в последнее время серьезные и жуткие произведения, наводившие на неожиданные мысли, заставлявшие пересматривать мнения, начинать жизнь сначала; читал даже презренных классиков девятнадцатого века, навязываемых школьной программой и вызывавших душевные и кишечные спазмы у большинства одноклассников, – и понял, насколько сложны и глубоки их произведения: ровно настолько, что читать их в подростковом возрасте – преступно рано. Достоевского, Толстого, Булгакова, позднего Гоголя – и даже прозу вечно молодого Лермонтова он отложил на потом, интуитивно постигнув, что может возненавидеть их сейчас – от недопонимания, – ну, а сочинения по ним скатал готовые, с легкостью перефразировав. Зато Пушкина принял, понял и полюбил всего сразу – без оговорок, с детской доверчивостью его недостижимому, на полтысячелетия обогнавшему свое время гению…
Объяснять все это маме? Несчастной маме, носящейся со шприцами и таблетками по ненавистным палатам, годами не слышащей ни от кого ни единого ласкового слова, – и от сына в том числе, но от него – по великой стыдливости и смущенности. Мама была уверена в своем тотальном контроле над ребенком, звоня ему, как ей казалось, постоянно, а на самом деле в быстро вычисленное мальчиком время. Неоднократно по разным поводам побывав у мамы на работе, со всем познакомившись и всему последовательно ужаснувшись (например, свежему покойнику, ожидавшему на каталке у служебного лифта, пока его отвезут в морг, принятому поначалу за тугой продолговатый узел с бельем), Влад прекрасно представлял, когда именно может выпасть свободная минутка в плотном графике медсестры, – и старался соответствовать, оказываясь дома перед честным оком компьютерной камеры, на фоне вечного бабушкиного постера с парижскими горгульями… Только несколько раз, нечаянно позвонив по скайпу не вовремя, мать заставала его вне дома – но отрок всегда знал, как умело отговориться. А когда ему было десять, однажды позвонила прямо в подвал чужого дома, где как раз… Но он ухитрился очень спокойным голосом соврать, что бежит в магазин за батарейками для издохшей «мыши»… На этом месте воспоминаний Влад зажмуривался, тряс головой и «менял тему».
Мама, ставшая бабушкой в сорок лет, бабушкой и выглядела вполне – обрюзгшая, в вечных широких и удобных черных брюках, кроссовках и бесформенных куртках, с густой проседью в давно не стриженных, в кукиш собранных волосах; его теще было тридцать девять – но к ней на улице обращались «девушка» и, случалось, приставали тридцатилетние самцы…
Вроде, дураком не считал себя, а женился в восемнадцать. Знать бы тогда, что этим навсегда перекрывает себе теперь единственный, осмысленный и желанный путь – в священство, ибо вторично женатых не рукополагают. Первая любовь, подкрепленная первым же – и удачным – сексом, казалась «вечной», как и всем от века кажется. Да, но только ведь они с Леной – не «все»! У них не могло случиться пошлой тривиальности, раскидывающей в стороны незрелых подростков, случайно спарившихся на высокой волне гормонального всплеска! У них была любовь двух сильных и зрелых личностей, любовь, неподвластная статистике и животным инстинктам… Ага, сейчас! И ведь буквально за месяц до Лениной беременности – представьте себе, не случайной, от неумения, как все снисходительно считали, а вдохновенно спланированной! – Провидение нарочно свело его за одним столом в случайной компании со случайным парнем, только что пришедшим из армии.
- Слушай, как я бате своему благодарен! – наваливаясь на Влада пьяным плечом, жарко дышал ему в ухо водкой свежеиспеченный, едва форму снявший дембель. – Иди, говорит, и служи, как мужику, б…, положено. Раньше два года трубили, н-на… А ты один год в Подмосковье на паркете каблуками отбарабанить не хочешь… В новой форме от Зайцева… Я головой мотаю, а сам думаю: вдруг она не дождется? Красавица ведь – кобели вокруг так и скачут… Но батя ни в какую. Не будет тебе отмазки, говорит, и все тут. Короче, идти пришлось. Ты б только слышал, как мы на проводах в любви объяснялись, какие страшные, б…, клятвы друг другу давали…
- И все равно не дождалась?! – горько посочувствовал временному знакомцу Влад.
Тот налил себе еще одну, чокнулся с пустой рюмкой Влада, опрокинул, занюхал острым перчиком и признался:
- Не-а. Не она. Я не дождался. Первые полгода еще туда-сюда, каждый вечер в час свободного времени смартфоны разрешались – так и по скайпу трепались, когда получалось уединиться, и письма ей строчил чуть не в стихах… А потом как-то надоедать стало. Раз пропустил, другой, соврал, что дневалил вне очереди – и, вроде, уже как-то не очень надо стало… Отвык. Потом несколько ее писем перечитал зачем-то – а там все одно и то же, в одних и тех же словах… «А ты, милая моя, глуповата, оказывается», – думаю… Ну, а еще через пару месяцев девчонка одна, прапорщица из канцелярии, на глаза попалась… Красивая, стервоза, как супермодель. По сравнению с ней моя – просто крокодила зеленая… И так погано мне стало: скоро приеду – и жениться придется. А уже не волокло, н-на… Короче, моя сама мне помогла: раз – и на стену к себе пост выкладывает с фотографией, где они с подружкой у другой на дне рожденья явно пьяные сидят, рожи корчат… Ну, я и отписал ей сразу в комментариях: раз ты такая, мля, самостоятельная, что без своего мужика по гостям шляешься и водку жрешь, то, типа, прости-прощай: откуда мне знать, кто фотоаппарат держит, и чем вы там вообще занимаетесь, пока я армейскую лямку тяну. И заблокировал ее – сама, мол, виновата! – парень налил себе еще, задумчиво выпил и выдал расхожий трюизм: – Прежде чем жениться, нагуляться надо. Иначе огребешь.
«А вы, сударь, подлец… – думал нетрезвый Владислав Алектор по дороге домой. – Девушку обнадежил, потом она ему разонравилась – так на нее же и свалил! Хорош, нечего сказать… Да, впрочем, чего от него и ожидать-то было? Быдло быдлом, да и «невеста», небось, из того же теста, ха-ха… Какая вообще любовь у таких могла быть? Одно только спаривание и воспроизводство… У кого это я прочитал: чтобы любить и страдать по-настоящему, нужно иметь душу воспитанную? Неважно… Но это точно. Это как раз про нас с Леной».
На что способны их воспитанные души, он понял уже через полгода жизни бок о бок с возлюбленной. Во сне, с вечно чуть отвалившейся челюстью, Лена была убийственно похожа на какую-то забытую дачную крольчиху из его детства, утром у нее ужасно воняло изо рта, причем, она упрямо лезла к мужу с поцелуями, а по мере развития беременности, стала и сама кисло пованивать хлевом сквозь все свои духи и помады; когда она с красивыми паузами и придыханиями читала перед мужем выученный в качестве домашнего задания монолог, он все сильнее убеждался, что ее актерский талант – не более чем скучный миф, а в институт ее вульгарно «толкнули»; жена спокойно оставляла повсюду, вплоть до обеденного стола, мерзкие предметы, вроде использованных ушных палочек, расчесок с пучками выдранных волос, пяточных терок, ватных дисков с пятнами смытого грима, нестиранных кружевных носочков – а еще считается, что это именно мужики разбрасывают по квартире вонючие носки! Разговаривая по телефону с товарками, Лена несла такую запредельную чушь («А он что? А ты ему? А она? И что? Вот сучка!»), что ему хотелось выматериться, вырвать у нее из рук айфон и швырнуть об стену; довольно быстро с ней стало не о чем говорить, потому что круг интересов любимой оказался драматически заужен предвкушаемым успехом на подмостках, ничего больше знать она не желала, отмахиваясь от любых отвлеченных рассуждений и просто серьезных тем. Чувствуя постепенное охлаждение мужа, Леночка ничуть не изменяла своим милым привычкам – но начинала вдруг навязчиво, как метящая территорию кошка трется о ноги хозяина, ластиться к нему, источая такую нестерпимую пошлость, что Влад еле удерживался, чтобы попросту не стряхнуть ее руки со своих плеч и не выскочить, хлопнув дверью. Нет, на этой девушке он не женился! Он женился на ухоженной, веселой, умной, опрятной! На какой-то другой, с которой и случилась та вечная любовь, о какой все мечтают! Когда она сделала первый шаг к этой подмене? Как он мог его не заметить?! Почему в тот же миг не усовестил, не остановил, не открыл ей глаза?! Было поздно. Лене вот-вот предстояло стать матерью их общего ребенка, и любые претензии молодого мужа к беременной жене автоматически превращали его в чудовище. В глазах всех, и самого себя – тоже. Он со всем соглашался: домашние роды в воде – пожалуйста…
В роковой день все потекло быстро и необратимо. Сначала он слышал редкие болезненные стоны из-за запертой двери ванной, негромкие приказы акушерки: роды, казалось, шли очень легко – во всяком случае, во всех фильмах, где их показывали, роженицы испускали дикие и неприличные вопли, а Лена так ни разу по-настоящему и не крикнула; он, например, гораздо громче вел себя в кабинете травматолога год назад, когда сверзился с велосипеда, и ему вправляли вывихнутое плечо… И таинственный хрупкий сынок, которого скоро с победоносным видом вынесла к юному отцу акушерка, тоже голосил прямо по-мужски – Влад принял его, неожиданно красненького и головастого, в свои трясущиеся руки. Прошло несколько полностью позабытых минут – их поглотило трепетное осознание важности свершившегося таинства, после которого жизнь не может идти по-прежнему…
Но эти минуты быстро кончились, и настали другие, навеки незабываемые: темные лужи на линолеуме, окровавленные тряпки по всему полу; на хозяйском диване, наспех застеленном куском полиэтилена, накрытая светлым плюшевым пледом, на котором тоже быстро проступают багровые пятна, крупной дрожью трясется и что-то бормочет родильница – уже отходящая, уже равнодушная даже к новорожденному сыну, в спешке положенному акушеркой голеньким прямо на стол, горько зовущему мать из-под наскоро накинутой пеленки с бабочками… Неустойчивый взгляд Лены на какой-то миг ловит искаженное лицо растерянного мужа – а у него нет сил и жалости даже взять ее ледяные руки в свои, прошептать нежное, подбадривающее, потому что нежности не осталось, потому что любовь ушла, потому что ее и вовсе не было; с великим облегчением кидается он на дверной звонок – это приехала уже бесполезная «скорая»…
* * *
И не общались в церкви запросто, и приходили-уходили не вместе – а вот поди ж ты: отец Петр прекрасно знал, про кого, опустив глаза, мямлят они на исповеди – живу-де невенчанно… И говорил каждому отдельно: «Кайся в этом на исповеди, молись, чтоб Господь управил», – и ничего более. Потому как знал природу человечью… Ну, что – сказать им теперь: либо женитесь, либо расходитесь, либо к Чаше не приближайтесь? А по Номоканону – так и вовсе за это на семь лет отлучать положено. Только уже лет сто пятьдесят, как ни одним вменяемым отцом не применяется. А он, отец Петр, и вообще не знает – не утратил ли сам право «вязать и решить» – с той проклятой ночи, до которой попадья его, Валентина, к счастью, не дожила… Как убивался он, тогда тридцатилетний безумец, узнав, что бездетность ее – неспроста, а из-за рака четвертой стадии, которую никто никогда не заметил, – да и где, кому заметить было? Загнали обоих после семинарии (в один год окончили; она – регентское) в полуживую деревню на краю области, где из медицины – только медсестра-пенсионерка на пункте, два раза в неделю с девяти до часу; ничего не болит – значит, здоров, заболело – анальгин прими или чаю с малиной выпей. А у Вали и не болело. По первости несколько лет, пока церковь достраивали, да трухлявый священнический дом до ума доводили, да прихожан себе отыскивали, – только радовались, прости Господи, что Он детей пока не посылает. Когда заволновались, еще пару лет недосуг было провериться – и вот собрались, наконец, в родной Питер, да и там не сразу руки дошли. А когда дошли – врач у Вали на яичнике огромную кисту обнаружил, удалили – а это рак; метастазы уже и в мозг выстрелили – то-то жена на головокружения недавно жаловаться стала… Думали, что от тревог и многозаботливости, а оказалось…
А оказалось, что радоваться надо было, потому что до той страшной новогодней ночи, что очень скоро разделила его жизнь на роковые «до» и «после», попадья не дожила буквально неделю… И вот уже тридцать один с лишком год он твердо знает: не служи за него невидимо ангелы, как за нерадивых или пьяных попов, – и вино с хлебом у него бы в Плоть и Кровь не претворялись. Только прихожане-то, умильно складывающие руки перед Чашей, не виноваты – вот и вышла ангелам лишняя работа. А то другой им мало. Особенно теперь, во времена, которые, вполне может статься, последние. А раз так – то все эти испуганные полухристиане, теперь валом повалившие в храмы, в том числе и Владислав с Василисой, в жизни будущего века могут оказаться выше первомучеников… Кто он такой, чтобы им указывать, как заповеди соблюдать, да еще и жизни их об коленку переламывать, если сам…
Владик ему нравился – среднего роста русоволосый парень с красивой бирюзовинкой в непростом, проницательном взгляде; а главное, по-хорошему, по-доброму веселый парень – не из лукавых смехачей и смехотворцев, а от глубинной доброты и вечной детскости, что прямой дорогой в рай ведет… Действительно жаль, что вдовый, – не то давно бы с Василисой обвенчал его, да и отправил в семинарию. Она-то замужем не была, ну, а про физиологические подробности ныне особо не вспоминают… Толковый бы получился священник со временем, к людям чуткий и характером легкий – да что уж теперь. А с Василисой точно любовь у них зреет, большая, тут не обманешься. Она – слева, у поминального ящика, даже в платочке темненьком – хотя сейчас в городах уж такое редко встречается. Со стороны посмотришь – никогда не скажешь, что бизнес у нее там какой-то крутой и успешный, что выйдет из храма – да и уедет на молодом «мерине». Владик же спустится с клироса – и полезет на леса тонкие золотые листы по куполу разглаживать; а к вечерне, когда останется в храме один псаломщик, по совместительству алтарник, – тут опять Влад тут как тут: и на чтении его подменит, и кадило раздует, и Евангелие на нужной странице раскроет – и все ловко, споро, без суеты ненужной… А живут-то с Василисой, скорей всего, вместе… Только в воскресенье часто стоит Влад с малым сынишкой (раньше на руках всю службу держал его, теперь чинно – за руку и иногда, склонясь, по-отцовски увещевает – смотреть умилительно) – и никто его утруждать на службе не думает: без матери ребенка растит, только с бабушкой – шутка ли! Нет, не пойдет за него богатая Василиса… Или пойдет? Есть в ней что-то надломленное… Стихи пишет, искренние и неумелые, что-то про «дикирий стойкий» и «царевен-мучениц», книжку свою издала и подарила ему – прочитал и прослезился: видно, что много человечек пережил, но внутри – как хрусталь, ничего не пристало… Как такое бывает? Красивая женщина, чистого русского типа, под платком тяжелый узел русых волос угадывается, лицо светлое и умное, глаза ясные, сама не худосочная, лет под тридцать, на пальце кольцо с большим сверкающим бриллиантом. Ну и что? Заработала. Когда церковную кружку вскрывают, отец Петр почти наверняка знает, что большая часть крупных купюр – ее. Так что ж – молодухе колечком себя не побаловать? Стоит, никого не трогает, ни с кем не разговаривает – а словно невидимая нить между ней и Владом натянута; нет, не нить – провод. Электрический. Он читает и поет – для нее (должен бы для Бога, конечно, да разве ж усовестишь), а она и в храм – не совсем к Богу, и тоже ничего не скажешь… Да еще сейчас, когда того и гляди жахнет.
Последнее время после службы он домой редко ездил – пусто, холодно, и сирень под окнами ироды вырубили – ночевал прямо в храме, на кушетке в своем настоятельском кабинетике. Вот и в ту ночь правило отбубнил с полузакрытыми глазами – и, у раковины наскоро ополоснувшись, навзничь лег, на лампаду глядя; задумываться не хотел, тогда бы точно сон долой, а уж сколько толком не спал… Да и о чем задумываться? Грех свой он так никому и не исповедал – язык не повернулся, только в общих чертах, запутанно промямлил что-то, когда заезжий священник одну литургию сослужал с ним, – так тот и не понял ничего – короче, не считается… Поэтому лежал почти без мыслей, радио потрескивало тишиной, язычок пламени в оранжевом стекле лампадки мерцал еле-еле… И все равно не спалось, хоть ты что делай, – как заноза внутри гноилась, даже злость какая-то подниматься стала – на Бога, именно на Него, не как-нибудь! Поднялась – и выплеснулась. В глухом раздражении подлетел со своего тощего одра, подумал в подрясник влезть – да не стал из принципа, только брюки натянул и свитер, в мирском в храм выскочил, свет включил… В алтарь, правда, не решился в таком виде – но прямиком к нерукотворному Спасу, лоб перекрестил – и безо всяких там предначертательных бухнул Ему в очи: «Ну, дай мне шанс! Я ведь тоже тварь Твоя, хоть и гнусная! Немощь мою и Сам знаешь – так помоги же, наконец, как-нибудь! Тридцать один год, пять месяцев и четыре дня терзаюсь – освободи! Ну, не могу я так больше мучиться! Один шанс дай! Один! Ну, а коли не оправдаю – прибей тогда, как пса смердящего, и труп выкини! Во тьму внешнюю…».
Другой бы испугался собственной дерзости, ужаснулся – а отец Петр, иссякнув на полуслове, стоял перед Спасом молча. И вдруг понял, что услышан. И что там сейчас именно о нем держат совет Трое… Постоял немного в растерянности: неужели так просто? Что это было сейчас с его стороны – дерзость или… дерзновение? Лучше не думать… Он перекрестился и тихо пошел к себе.
Утром его разбудил стук в окно – значит, пришел кто-то из своих, знавших о привычке настоятеля иногда оставаться в запертом храме на ночь. Светящийся циферблат показывал половину седьмого утра – то есть, службу он, по крайней мере, не проспал, зато кто-то, верно, при смерти, и сейчас повезут исповедовать. Он откинул зеленую штору и увидел близко за стеклом словно росой умытое лицо Владислава, чуть поодаль, за оградой, – пыльный Василисин «мерседес» и ее саму у раскрытой задней дверцы. «Надо же, не скрываются. Точно случилось что-то… Не приведи Бог, с ребенком…» – со сна тупо предположил отец Петр. «Дверь откройте, батюшка! Занести надо!» – кричал за окном Владик. «Гроб с покойником? В такую рань? И не позвонили?» – лихорадочно соображал священник, наскоро одеваясь.
Когда он, наконец, распахнул двери на паперть, молодые люди сияли; Василиса держала на весу перед собой что-то, похожее на маленькую столешницу, заботливо обмотанное тюлевой тканью и перевязанное.
- Скорей, отец Петр! – нетерпеливо бормотала Василиса, шагая внутрь. – Помогли бы даме… – она тоже улыбалась.
Донесла до широкой лавки, положила плашмя, и только тогда отец Петр додумался:
- Икона! Храмовая!
- «Нечаянная радость», – гордо сказал Владислав. – Только к вам. Больше не к кому.
Он не мог знать, что отец Петр в первый миг не понял, что ему просто сообщили название привезенной иконы, зато вспомнил свой ночной демарш к строгому Спасу, дерзкую молитву, понимание, что ее услышали и решают его участь, сопоставил одно с другим… Потому Влад и переглянулся с Василисой совершенно непонимающе, видя, как вдруг зашатался на месте их только что вполне бодрый духовник, как дико взглянул на них, перевел глаза на Нерукотворного Спаса…
- Батюшка… Все хорошо? – решилась женщина. – Может, мы что-то не так сделали?
Он кивал, постепенно обретая дар речи, сердце замедляло бег… Решение, значит, принято положительное. Теперь следует ожидать последний шанс.
Икону перенесли в кабинет, аккуратно положили на стол, со всею почтительностью распаковали… Это действительно оказалась она, «Нечаянная радость» с коленопреклоненным грешником; на вид – конца девятнадцатого века, с очень грязными, в потеках и разводах ликами, в дешевом и довольно грубом латунном окладе, во многих местах утерявшем гвоздики, которыми был прибит. Под ним могло скрываться все, что угодно: драгоценная икона, писанная в стиле классицизма или, например, безыскусно напечатанные лики и дурно отесанная доска. В любом случае, это была старинная святыня возрастом около полутора сотен лет…
- Батюшка, гвозди на окладе еле держатся, может, снимем его осторожненько? – угадал его мысли Влад. – И вообще интересно, что там под ним…
- Конечно, снимем, все равно мыть-чистить ее надо, – согласился священник, сам немало заинтригованный. – Где взяли-то?
- Да так… – замялся Влад при потупленном взгляде Василисы. – В деревне одной дом брошенный – кто только там перед нами не побывал! Мы так просто зашли, из любопытства… И вот…
Отец Петр энергично кивнул, не желая вводить ребят в смущение, – что, дескать, за деревня, как там оказались вдвоем, да не ночевали ли случайно в одной комнате, – и все немедленно в шесть рук приступили к делу.
Оклад сходил легко. Дребезжащий, хрупкий, во многих местах истончившийся почти до прозрачности, с будто мышами обгрызенными венцами у Богоматери и Младенца, заросший вековой пылью, грязью и паутиной, выбрасывающий из-под себя россыпи засохших мух и пауков, видевших этот свет быть может, в позапрошлом веке…
Уже было понятно, что это не штамповка – а полноценно написанная заказная икона, прекрасно сохранившаяся, только очень грязная, буквально исторгавшая из-под оклада комья свалявшейся пыли и мусора – и вдруг Василиса коротко взвизгнула:
- Ай! Крыса сушеная! – когда вывалилось что-то серое и продолговатое, глухо шмякнувшись об пол.
С полминуты поколебавшись, Влад подобрал это, пробормотав про себя: «Не могла она упасть с таким стуком…», – и выпрямился, отряхивая от векового праха неизвестный предмет:
- Да это сверток, господа… Обернут какой-то очень твердой материей, – («Парусина», – подсказала Василиса), – и перевязан… Ага, веревка сгнила давно…
Бросив свое дело, все они сгрудились над таинственной находкой и принялись осторожно разворачивать ее на краешке стола.
- Бомба времени… Вот, как она выглядит, оказывается… – прошептала Василиса.
- Главное, пока не ядерная, – сострил Владислав. – Смотрите, там бумага под парусиной… Коричневая, как оберточная, только плотнее…
- Осторожно, а то рассыплется еще… – волнуясь сверх меры, потому что откуда-то знал, что все это напрямую касается лично его, предупредил пересохшим ртом отец Петр.
Но лист бумаги оказался промасленным – из тех, почти неподвластных времени, в которых хранили оружие, но по весу пакета было уже ясно, что металла в нем нет. Бумагу сняли, обнаружив под ней еще одну, в несколько слоев, – твердую и хрустящую, в какой много лет назад продавались бинты…
- Что же там спрятано такое… – выдохнула женщина. – Может, бриллиант? Один, но очень ценный…
- Тебе-то он, в любом случае, не достанется, – с притворной строгостью сказал Влад. – Это все рано достояние Церкви…
- Да и вряд ли он сейчас кому-то особенно поможет. «…Злато будет, как грязь, под ногами потомков», – поэт это еще в прошлом веке написал, но время, кажется, наступает, – сказал отец Петр и, задержав дыхание, снял последний слой бумаги.
Пронесся общий разочарованный выдох: в сердцевине своей пакет содержал обычный, ввосьмеро сложенный тетрадный листок, пожелтевший до коричневатости, ровно исписанный несколько поблекшими карандашными буквами.
Влад вышел из остолбенения первый:
- Увы, увы, увы! – громко провозгласил он. – Кому бы ни было адресовано сие таинственное послание, адресат явно не дожил до его получения.
- А вдруг нам?! – с робкой и смешной надеждой спросила Василиса, и мужчины коротко хохотнули над ее дамской романтичностью.
- В любом случае, давайте прочтем, – скомандовал отец Петр, и три разноцветные головы – седая, пепельная и темно-русая – интимно сблизились над углом стола.
* * *
Владислав с некоторым изумлением начинал понимать, что ему действительно нравятся именно сильные и независимые женщины, сделавшие, как принято говорить, «сами себя». И обязательно умные – только не традиционно похвальной женской «мудростью», заставляющей отрекаться от себя в пользу надуманных ценностей, а настоящим, от пола не зависящим, гибким и острым умом. Умом, который не подавляет и не наставляет других, а просто есть в распоряжении обладательницы как данность – и женщина автоматически принимает верные решения, без насилия ведет за собой других людей обоего пола – тех истинно мудрых, кому чужды петушиные обиды, вроде: «А чего это тут баба раскомандовалась!». Мужчина, оценивший и полюбивший такую женщину, – вовсе не тряпка, как любят изгаляться неудачливые мачо, считающие, что «Баба должна быть вот, где!» – и демонстрирующие брутальный кулак, на деле не способный удержать и курицу. Чувствовать превосходство над откровенно беззащитной истеричкой, которую сам себе и вылепил с этой целью, – не велика мужская заслуга, думал Влад. А ты вот встань-ка рядом с такой вот – гордой, цельной, раненой, но уверенно поднявшейся на ноги, – и добейся, чтобы она считала тебя равным и спрашивала твое мнение, – вот только тогда и можешь называть себя крутым мужиком…
В тот летний день почти год назад – когда еще все было почти в порядке вокруг, еще не покатился под гору смертельный ком, готовый вот-вот захватить и его самого, и сына, и мать, и Василису, – Влад неловко оступился на лестнице, спускаясь после литургии с клироса, полетел головой вниз и довольно сильно разбился, подвернул ногу, ушиб грудь и голову… «У меня в машине есть аптечка», – сказала оказавшаяся рядом высокая статная прихожанка в темной косынке, с внимательными светлыми глазами. Он не стал изображать из себя героя – мол, пустяки, до свадьбы заживет, – потому что его действительно порядком оглушило, а на ногу едва можно было ступить. До машины доковылял, с одной стороны поддерживаемый здоровенным парнем-регентом, а с другой – этой доброй женщиной; почему-то ожидал увидеть старенькую обшарпанную иномарку, а увидел новехонький свежевымытый «мерседес» – из тех, в которых уже были поставлены первые автопилоты. Гаденько ухмыляясь, регент впихнул пострадавшего на заднее сиденье и исчез. А женщина сняла платок, обнаружив волнистые пепельно-русые волосы, небрежно собранные на затылке, – и, улыбнувшись, одним движением вынула заколку, чтобы рассыпать их по плечам. Влад сразу понял, что сделано это было не из пустого бабьего кокетства, а просто по привычке: садясь в машину после службы, она всегда снимала обязательный в церкви покров и распускала волосы, что машинально сделала и теперь. Сверкнули бриллианты в ушах… «Мужик у нее богатый», – ревниво кольнуло Влада, когда спасительница споро, явно имея не раз примененный навык, промывала ему ссадины перекисью и заклеивала лейкопластырем наиболее пострадавшие места; он пока еще был полностью во власти стойкого стереотипа, что благосостояние женщины зависит исключительно от ее мужчины. То, вероятно, действовал яркий материнский пример: нет мужа – есть нищета и тяжкий труд, а будь у них папа – и зажили бы другим на зависть.
- С ногой вашей я ничего не могу поделать, – закончив почти безболезненную, ощутимое облегчение принесшую первую помощь, сказала Василиса (имя ее он давно уже подслушал у Чаши, мимоходом подивившись). – Поехали в травмпункт, нужен рентген, вдруг вы лодыжку сломали…
Влад оценил ее деликатность: она, конечно, могла отвезти его в дорогую клинику, где за деньги его бы в эту ногу хоть поцеловали, и оплатить все исследования, – но, не зная, достаточно ли у него денег на платное лечение, и не будучи уверенной, что он примет их от нее, доставила в обычное районное отделение с длинной очередью покалеченных вдоль темного коридора – спасибо, хоть с рентгеном на том же этаже… Здесь ее христианский долг перед ним заканчивался, с чистой совестью могла Василиса, пристроив терпилу на скамейку, попрощаться – но она без колебаний осталась и просидела с ним плечом к плечу, подбадривая, рассказывая истории про собственные попадания в гипс – забавные, как все давно пережитое и благополучно закончившееся, – не менее четырех часов. А тем временем в кабинете кого-то неспешно зашивали, гипсовали и освобождали от клещей, после выдаваемых в бумажке для анализа на энцефалит… Нога болела жутко и пухла прямо на глазах – а Влад был идиотически счастлив. С Василисой он чувствовал небывалый покой – и совсем не как с матерью, рядом с которой все время приходилось держаться настороже, чтобы случайно не пошатнуть тот образ, который она сама для своего сына придумала – непутевого и безвольного болванчика, – и не огрести тем самым неприятностей. И не как с Леной, при которой требовалось постоянно как бы ходить на цыпочках, чтобы, опять же, дотягивать до придуманного ею – на сей раз для себя – образа «золотой» богемы. И уж, конечно, не как с несколькими другими девушками, глубоко его не цеплявшими и довольствовавшимися самым рядовым поверхностным отношением: подарил кулончик – значит, любит… С этой женщиной он с самого начала разговаривал, как с самим собой. Она родилась на четыре года раньше него – и тоже так и осталась тайной для собственных родителей, живя своей насыщенной внутренней жизнью, куда путь им был заказан, а внешне с дочерним послушанием демонстрируя то, что они ожидали увидеть: скромную девочку со средними способностями, в лучшем случае, будущую воспитательницу, чью-то в меру несчастную жену и мать… Сразу после школы она без сожаления покинула скучный отчий дом – и дальше пошли сплошные увлекательные «университеты»! Она работала телерепортером и помощником режиссера, организовывала и водила экскурсии, писала статьи в газеты, участвовала в кругосветной экспедиции, издала книгу стихов, волонтерствовала в детском хосписе, основала и раскрутила умный глянцевый журнал, которым владеет и до сих пор, – оттуда и внезапный достаток. А вот «корочек» не нажила ни одних! Но фору даст какой-нибудь очкастой краснодипломнице… Любой мужчина-авантюрист мог позавидовать внушительному списку «специальностей», коим обучил восприимчивую студентку самый искусный педагог на свете – кипучая человеческая жизнь. Влад смотрел на Василису с восторгом – и вдруг подумал: а ведь у нее, раз она, оказывается, не замужем, были связи с мужиками, и много – не могло не быть – не девственница же она с такой биографией! И вся эта бурная деятельность, за которую уважали бы и хвалили любого мужчину, неизбежно должна была запачкать окунувшуюся в нее женщину – потому что пришлось ей столкнуться с отвратительным безобразием, пережить много такого грязного и страшного, что меняет человека безвозвратно. Мужчине это не страшно – танки грязи не боятся! А вот будущая мать должна хранить чистоту души, не допуская в нее ужасных впечатлений, не наносить ей глубоких незаживающих ран, не допускать разъедающих сомнений – всего того, что лишает сердце умиротворения, необходимого для вынашивания и воспитания здорового потомства, не поврежденного дополнительно ко всеобщей человеческой поврежденности… И все же она была – родная. Тихий свет не угас на дне много чего повидавших серых глаз. Ей одной можно было рассказать не только про тот страшный кровавый день рождения и смерти, который, в конце концов, с каждым мог случиться, – но и о том, как он не подошел к разлюбленной умирающей жене в последние минуты, не утешил, не солгал, потому что знал, что актер из него дурной, и сыграет он неубедительно… Василиса кивнула. Было совершенно ясно, что ей знакомы подобные чувства.
Тут подошла очередь – и вновь подруга не оставила страждущего: вместе пошли (вернее, шла-то Василиса, а Влад комично скакал на одной ноге) и в кабинет, и на рентген, и в гипсовую… Больше они практически не расставались, даже деньги волшебным образом не встали между ними, как Влад поначалу боялся. Но, с присущим ей редким тактом, Василиса не кинулась немедленно одевать-обувать и вообще «приводить в божеский вид», пропихивать «на достойную работу» и обустраивать в жизни по своему усмотрению за каким-то хреном подобранного «неудачника», за что немедленно взялась бы другая богатая баба, с полным правом потребовавшая бы за это впоследствии благодарности: полного и безоговорочного рабства… Он действительно почти сразу, в гипсе еще, переехал в Василисину большую удобную квартиру – но продолжал обеспечивать свои нужды сам, по мере сил помогая сыну и матери, которая, разумеется, сразу решила – ведь так положено раз и навсегда! – что ее сына «купила» богатая стерва, которая выкинет его на улицу, как только «наиграется». «Хоть на семью с нее требуй, не стесняйся!» – с тихой свирепостью шипела мать, когда он навещал со скромными гостинцами ее и ребенка. Разубеждать было бесполезно – оттого дома Влад появлялся все реже и реже, да и то сказать: любовь, постепенно расцветая, поглощала его целиком…
Весной, когда мир уже агонизировал, Василисин журнал предсказуемо прекратил свое существование, лишив ее источника дохода, – ей даже карточек продуктовых по закону не полагалось! – а обесцененные деньги таяли на глазах. Влад, став теперь единственным, пусть сомнительным, кормильцем их тесного союза, почти решился сделать любимой официальное предложение – но все тянул и робел, хотя знал, что не встретит отказа. Но, женившись, он никогда не станет безбрачным священником; отказавшись же от брака, потеряет редкого, драгоценного человека, а вынесет ли безбрачие – Бог весть… Слишком много было не вынесших.
В мае Василиса однажды задумчиво сказала за завтраком (завтраки у них еще случались, когда по коммерческим ценам удавалось достать парижский сыр или копченую колбасу):
- Дальше откладывать нельзя, нужно решать что-то с моим домом.
- А у тебя еще и дом есть? – удивился Влад.
Она кивнула:
- На Псковщине, в Островском районе. В тучные годы – как все: купила участок, снесла развалюху, которая там раскорячилась, отстроила зимний дом со всем необходимым… Только ведь сейчас его бандиты, наверное, разорили… Надо поехать, посмотреть, что с ним; и, может, на продажу по дешевке выставим? В случае настоящей войны оставаться в городах, наверное, безопасней – а в деревне, боюсь, будут резать людей за банку тушенки.
Влад помрачнел, вспомнив рассказ матери:
- Уже режут. И давно. У матери на работе родственников старшей медсестры где-то под Новгородом зверски убили. Но в нашем-то городе оставаться точно опасно. Верней, смертельно, потому что, в случае чего, его просто не станет…
- Как бы то ни было, у тебя семья. И надо иметь свободу решения – везти их туда или нет, а для этого – выписать в сельсовете пропуск к моей недвижимости. Ходят, знаешь ли, слухи, что на дорогах из города вот-вот будут введены блокпосты – и никого просто так не выпустят, чтоб мародеры не затопили деревни. Надо ехать, милый, а одна я боюсь… – это последнее Василиса сказала так просто, будто не подозревала, что поразит возлюбленного: страх и она – это вообще совмещается? И, на худой конец, он-то какая ей защита?
- Конечно, поедем! – обрадованный ее доверием, подскочил Влад. – В такое время надо исследовать все шансы… Да и весной, наверное, безопасней… Мы туда и обратно – я своим даже говорить не буду.
Дом стоял на месте – целый и невредимый, с нетронутыми дверями и ставнями, неожиданно зажглось электричество и, сразу подхватившись, как вздремнувшая кухарка при виде строгой барыни, услужливо заурчал огромный золотистый холодильник, класть в который все равно было нечего. Безгрешно переночевав в прохладных сумерках, утром они нашли сельсовет открытым и мирным – в приемной тучная секретарша как ни в чем не бывало обсуждала с главой поселения грядущее страшное событие: вязку чужого свирепого быка, которого хоть завтра на корриду, и своей белолобой телочки, серьезно жалея ее, как девушку, насильно выдаваемую замуж. Справку о недвижимости и пропуск к оной Василисе выдали и заверили круглой печатью сразу же, оставив три свободных строки, куда позже можно было вписать имена ввозимых «гостей». Невежливо было уходить сразу, по деревенским правилам полагалось спросить сначала о новостях.
- Да какие новости! – махнула рукой секретарша. – Вымирает народ. Медицины нет. До района не добраться. Вот и мрем потихоньку. На той неделе бабки Семеновны померли – так за счет сельсовета хоронили, а дом их уж настежь стоит – вон, сама посмотри… – кивнула в сторону окна, за которым действительно низкий коричневый дом вдалеке стоял распахнутым, как разграбленный старинный шкаф.
- Семеновны – это две бабки-близняшки лет по девяносто, – шепнула Василиса в сторону скромно мявшегося в уголке Влада – и секретарше: – Что, в один день родились, в один и померли? Или по очереди?
- Девяносто три им было, – поправила секретарша. – Вера и Надя… В оди-ин… Всю жизнь ходили, как нитка за иголкой, иначе и быть не могло… А родни никакой…
- Чудно-о… – на деревенский манер протянула Василиса и дернула Влада за руку: – Пойдем, посмотрим перед отъездом. Я бабок этих, Царствие им Небесное, хорошо помню. Девственницы были, гордились этим очень. В молодости, говорят, на клиросе пели… – она усмехнулась. – Почти как ты…
…В разоренном и оскверненном доме не было темно – дневной свет шел буквально отовсюду – не только из распахнутых окон и дверей, но даже через какие-то щели наверху: смерть неразлучных двойняшек позволила беззастенчивым односельчанам не только мгновенно обнести их дом, но даже вытащить уцелевшие доски из потолка. Дом отчетливо походил теперь изнутри на древний парусник, потерпевший крушение; беспрепятственно вошедшие Владислав с Василисой чувствовали себя, как в трюме выброшенного на сушу затрепанного жестокой бурей корабля.
- Какое скорбное место… – присев среди отталкивающей кучи рухляди, проговорила женщина.
Она извлекла старый, рассыпающийся в руках фотоальбом, Влад глянул ей через плечо. На залитых дождевой водой, искореженных, почти полностью выцветших фотографиях, проступали лица неизвестных, давно умерших людей. Их карточки хранили, с любовью прикасались к ним, они будоражили память, заставляли болезненно трепетать сердце – но вот настал срок, и чьи-то бледные бумажные лица оказались в куче помойного хлама. Наибанальнейшая история, всегда одинаково печальная… Внимание Влада привлекло высокое, в человеческий рост зеркало, треснувшее сверху донизу, помутневшее от времени настолько, что казалось, будто в нем стоит вечный туман. Он подошел поближе, начал вглядываться – и вдруг в один миг остро, до печенок испугался, увидев отчетливое движение позади собственного отраженного плеча – словно кто-то двинулся навстречу из глуби зеркала. Влад непроизвольно вскрикнул и отдернулся, не сумев скрыть испуг от Василисы. Но та посмотрела на дело вполне серьезно:
- Отойди от греха. Это зеркало за столько лет успело отразить слишком много. В том числе и такого, на что не дай Бог даже намек увидеть. Со старыми зеркалами не шутят… «Алиса в Зазеркалье» не просто так написана… Пойдем в сени, там совсем светло, – и она за руку вывела слегка опешившего друга из комнаты.
В сенях они встали рядом у полностью лишенного стекол окна.
- Тут места непростые, – тихо говорила Василиса, глядя в запущенный, похожий на косматую голову великана, сад. – Не знаю, поверишь ли ты мне, но… Я дважды здесь видела… принято говорить, что галлюцинации, но я все думаю – а вдруг это было другое… На миг открытые кем-то двери в какое-то другое время или мир…
- Я верю, – правдиво сказал Влад. – Я знаю, что жизнь полна тайн, и никому не заказано с ними встретиться… Что ты видела?
- Первый раз просто девочку. Года два назад. Я выходила за молоком на пару минут и не закрыла калитку. Возвращаюсь обратно, а у гаража стоит маленькая девочка – лет так пяти, с совершенно льняными волосами и довольно странно одетая: в простую мятую рубаху и длинную, до щиколоток, холщовую юбку, все довольно грязненькое… И сама – неумытая, босая, волосы спутанные… А я ведь всех детей местных знала, деревня-то маленькая. Она могла только приехать к кому-то в гости – но почему в таком виде? Заметив меня, девочка застеснялась и, знаешь, проделала все характерные жесты смущенного ребенка: улыбнулась, набычилась, прижала кулачок к лицу, хитренько посмотрела на меня – и спряталась за стенку гаража. Я подумала, что нужно ее немедленно вывести с участка: еще схватит что-то острое, поранится, или мало ли что – а я буду виновата. Направляюсь к гаражу и строго говорю на ходу: «Девочка, где твои родители? Тебе нечего делать у меня во дворе!». Заворачиваю за угол, куда и она за десять секунд до этого, – а там никого. И, главное, деться некуда. Ты видел, это просто закуток из трех стенок: гараж, дровяной сарай и баня, а меж ними на четырех квадратных метрах тогда была клумба, а сейчас просто трава… Она абсолютно нигде не могла спрятаться, разве что взлетела. Вот тогда-то я испугалась до кишок, решила, что видела призрак… Потом, припоминая, сообразила, что гостья моя была одета, как крестьянские дети девятнадцатого века на картинах русских мастеров. Говори, что хочешь, но я видела девочку из прошлого, а она – меня.
- Ничего не скажу, – помотал головой Влад. – Так и было, скорей всего… А другой раз?
- А другой раз было раннее-раннее утро, июльское, прямо перед восходом солнца. Мне не спалось, и я вышла во двор; стояла молочная прохлада, а тот луг, который – видел? – у меня сразу за забором, лежал под слоем довольно густого тумана…
- Туман вообще опасная вещь, – подумав, сказал Влад. – Все, что угодно может таить.
- Именно. Так вот, я в одной рубашке и кожаных шлепанцах подошла к забору, чтобы увидеть, как из-за леса – он там дальше, прямо за лугом – выкатится солнце. Для меня это редкое зрелище – я ведь не ранняя пташка… Глянула – и остолбенела: в мою сторону по лугу шли танки. Много… В полной тишине, никакого звука моторов или еще чего-то… Они были отчетливо видны, у меня на глазах рвали туман и словно наматывали его на гусеницы… Это тоже длилось несколько секунд. Я даже испугаться не успела – зажмурила глаза. А когда открыла – танков не было. Тумана тоже…
Сердце Влада бурно забилось, когда он представил себе эту картину.
- Немецкие танки?.. – выдавил он.
- Наши. Но, дойди они до меня – и мало бы не показалось…
- Да… – протянул он. – Но это как раз понятно… Тут лет девяносто лет назад шли страшные бои во время Второй мировой. А у тебя на участке, похоже, какая-то аномальная зона, где периодически открываются ходы в другое время… или, хуже, измерение… И, самое страшное, не просто так посмотреть-полюбопытствовать, а можно туда-сюда ходить, как та девочка… Жутковато-вообще-то… Избавляйся-ка ты от этого дома, на фиг… Ведь третий раз-то обязательно будет, и неизвестно, какой…
- Ты так спокойно об этом говоришь, – поежилась Василиса. – Как о чем-то нормальном: другое время, измерение… Блин, да любой здоровый человек скажет, что это чушь форменная, бабье фэнтэзи!
- Ну, ты даешь! – усмехнулся Влад. – Ты выступаешь покруче апостола Фомы! Тот, по крайней мере, уверовал, когда вложил персты, а ты видела своими глазами – и все ищешь рациональное объяснение!
- Может, если б потрогала, как он, то уверовала бы! – усмехнулась женщина. – А так остается все же крошечная надежда на галлюцинацию… Смотри, что там за дверь? Чулан или туалет?
Оказалось, туалет, если можно так назвать небольшую загаженную дыру на возвышении, вокруг которого горой были свалены неаппетитные грязные тряпки и обломки, разбирать которые побрезговали даже мародеры. За вертикальной перегородкой, которой служила цельная столешница, на вдрызг разбитой метлахской плитке стояла не подключенная ни к какому источнику воды ржавая ванна, на дне которой еще держалась коричневая лужа…
- Пошли отсюда, – делая резкий шаг назад, распорядился Влад. – Противно смотреть на все это!
Он круто развернулся в тесном помещении, не удержал равновесие и с кратким: «Упс!» врезался плечом в перегородку импровизированного санузла – и та с грохотом повалилась на расколотую плитку. Машинально глянув, оба ахнули: от удара перегородка разделилась надвое, оказавшись не толстой деревяшкой, а двумя тонкими фанерками, с торцов прикрытыми планками в цвет. Фанерки легко отвалились друг от друга, как куски хлеба в сэндвиче. Меж ними что-то блеснуло тусклым металлом. Любовники переглянулись в страхе и удивлении и одновременно шагнули к находке. Драгоценной начинкой этого невиданного «бутерброда» оказалась небольшая, очень грязная храмовая икона.
* * *
«12/VII-1941, день святых равноапостольных Петра и Павла.
Окрестности г. Острова, у деревни Веретенниково.
Пишу, как мне было велено, никого не хочу обидеть.
Отступник, убийца и блудница – так я должен вас называть, а имена ваши мне не открыты. Так что простите меня, грешного. Знаю только, что пройдет много лет, пока это послание дойдет до вас, и что мир, в котором вы находитесь, страшнее даже того, в котором живу я. Мне отказано в праве отмаливать его у Господа – еще живы молитвенники, которые сделают это лучше. Но вам, которые придут, как мне обещано, через трижды по тридцать лет, суждено поднять меня на молитву – и мне будет позволено присоединить свой голос к другим, вопиющим к Небу о помиловании и отсрочке исполнения грозных обетований. Найти меня вам помогут три святые девы-воина, вы встретите их здесь неподалеку. Отправляйтесь немедленно по прочтении письма – времени у вас не то что мало – его почти нет.
Не сомневайтесь, не бойтесь. С вами мое благословение.
Недостойный иерей Герман».
Разбирать по слогам не пришлось. Вполне четко видимые, разборчиво и с твердым нажимом написанные буквы свидетельствовали о том, что автор, человек грамотный и образованный, приложил все силы, чтобы его правильно поняли, а способ сохранения письма говорил о том, что пишущий твердо верил в то, что писал.
Трое распрямились у стола и стояли с опущенными глазами. Потрясенная тишина длилась так долго, что перезрела и стала невыносимой.
- Та-ак… – глухим шепотом начал отец Петр. – Так… – Он перевел дыхание: – Судя потому, что ни от кого из нас не последовало закономерной реакции: «Это не нам!»… Никто из нас троих себя из возможного списка адресатов не исключает…
Василиса вздрогнула и подняла голову, священник махнул рукой в ее сторону:
- С вами-то проще всего… Он, наверно, блудницей считал любую женщину, которая… э-э-э… Жила с мужчиной без брака… Не сохранила чистоту…
- Да нет! – с вызовом сказала она. – Если уж на то пошло, что здесь, рядом со мной, кто-то из вас – отступник, а кто-то – убийца… Потому что, как вы совершенно правильно сказали, батюшка, никто из нас инстинктивно не крикнул: «Это не нам!»… То я первая скажу, пожалуйста: в числе моих многочисленных профессий была и такая. Я полгода проработала девочкой по вызову – из тех, что предназначены для высокопоставленных толстосумов. Один из них, добрый человек, меня и толкнул дальше по жизни, обеспечил связями, без которых хрен бы я достигла того, что имела. На исповеди я, конечно, каялась «в блуде» – да кто не каялся! – но без подробностей. А у меня они несколько пикантней, чем у других дам. Поэтому я себя и не исключаю. Вот так, – и Василиса строптиво вздернула подбородок, словно могла гордиться тем, что рассказала.
Отец Петр с секундным интересом глянул на Владислава – как-то он воспринял такую новость о возлюбленной – но тому явно было не до чужих грехов. Он громко не то выдохнул, не то простонал, поднял голову… Несколько раз набирал воздух, собираясь говорить, не решался, отводил глаза, пучил губы, а потом вдруг выпалил:
- Ну, убийца-то – это я. Мне тогда десять лет было…
Быстро научившись вычислять время маминых контролирующих звонков, маленький Владик вскоре догадался, что свободного времени у него до фига и больше, и далеко не всегда проводил его за приятными и безобидными занятиями. Например, его мама так до сих пор и не знала, что лучшим друганом его до пятого класса был мальчик самый что ни на есть неблагополучный: один из нескольких предоставленных самим себе сыновей родителей-алкоголиков, Миха был парнем отчаянным – настолько, что вспоминая его в последующие годы, Влад иногда думал, что паренек инстинктивно искал себе смерти, стремясь убраться из неблагосклонной к нему с самого начала жизни пораньше, пока не повалились ему на голову некие лично для него заготовленные несчастья. Перед пятым классом его мать с отцом, полностью опустившихся и пропивших все, вплоть до постельного белья, лишили, наконец, родительских прав, а всех их больных, дебильных, ожесточенных детей разлучили и отправили по разным интернатам. Это спасло Влада от дальнейшего влияния опасного вожака, о чьей дальнейшей судьбе так ничего и не удалось узнать. Но около года, с того момента, как Влад лишился суровой и ласковой бабушкиной опеки, весь четвертый класс после уроков он часто в дни материнских дежурств до темноты носился с Михой и еще одним отвязным пацаном по имени Гришаня в поисках опасных приключений. Иногда они втроем заскакивали к Владу домой, где он едва успевал включить компьютер и невинно усесться перед ним в ожидании, когда мама вызовет его по скайпу, и умело изображал перед ней свое недовольство тем, что его оторвали от интересной игры, – а друзья корчились от хохота в соседней – маминой! – комнате. После этого они опять уносились в раннюю питерскую тьму, зная, что ближайшие два часа звонка не последует, хотя смартфон, тоже, конечно, с подключенным скайпом, Влад всегда предусмотрительно носил с собой… Одно из самых безобидных развлечений, изобретенных Михой, как раз укладывавшееся в два часа времени, происходило на Неве, у ступеней, ведущих к воде прямо за Адмиралтейством, близ Дворцового моста. Доступно оно было только ранней весной, в самый разгар ледохода. Дом Влада стоял прямо у конечной станции метро, откуда ровно полчаса было добираться до «Адмиралтейской», и еще минут десять занимала лихая пробежка по Невскому и Дворцовой до нужного места. В распоряжении друзей оставалось сорок минут, потом следовало потратить еще столько же на обратную дорогу до дома, где с высокой вероятностью в ближайшие четверть часа раздавался материнский звонок и возникало на экране ее тревожное, старше, чем в жизни, лицо под темно-синей медицинской шапочкой, и строгий голос озабоченно спрашивал, не забыл ли «сынок» пополдничать…
Миха давно уже неизвестно как вычислил, что течение Невы именно у этих ступенек делает странную петлю: если положить на проплывающую мимо льдину какой-нибудь предмет, то его можно было получить назад не более, чем через три минуты: льдина описывала небольшой круг, обязательно возвращалась к ступенькам – и только после этого утягивалась навсегда и терялась среди других желтовато-серых, с фиолетовым отливом льдин… Ждали темноты, чтобы не привлекать к себе сочувственного внимания впечатлительных граждан. Чтобы проверить, работает ли сегодня аттракцион, запускали на льдине чью-нибудь перчатку и, благополучно вернув ее обратно, ждали льдину побольше, и, когда она подплывала близко, Миха первый прыгал на нее и, балансируя, ехал по кругу. Когда льдина вновь доставляла его к ступеням и уплывала на простор Невы, второй мальчишка проделывал тот же трюк, а за ним – третий… Все это как раз и занимало чуть больше получаса. Поразительно, но никто их ни разу не побеспокоил: то ли люди не замечали в темноте мелкой суеты у ступенек, то ли им было попросту плевать… А еще ребята бесконечно лазали по крышам, на одной из которых соорудили некрутую горку из слежавшегося снега и скатывались по ней к краю, врезаясь в достаточно крепкое, как им казалось, металлическое ограждение. Оно чудом выдержало. Именно чудом, как убедился Влад, уже подростком поднявшись однажды из любопытства на ту же крышу и основательно осмотрев хлипкую, еле державшуюся загородку… Подвалы со своей неизменной таинственностью тоже притягивали: туда Миха, умевший лихо вскрывать висячие замки школьной скрепкой, часто призывал соратников «бить бомжей» – хотя их мальчишки, конечно, опасались и под разными предлогами обходили стороной: всезнающий Миха давно уж в красках описал, чем для них может закончиться встреча, если силы противника окажутся превосходящими… Но однажды бомж был один и, мертвецки пьяный, спал, как под глубоким наркозом. Они не раз видели его раньше на улице: из всех этих несчастных, встречаемых почти ежедневно, он казался самым никчемным и опустившимся: на нем не было ни единой целой вещи, как на других, носивших пусть и грязную одежду, но все же не рваное тряпье. Вокруг же этого бывшего человека тряпки висели ленточками и колыхались при каждом шаге – даже непонятно было, чем изначально являлись его лохмотья; из широко разинутых спереди ботинок зимой и летом торчали одинаковые фиолетовые культи отмороженных пальцев; борода и волосы цвета земли состояли сплошь из колтунов, будто в волосах его запутались куски старых валенок, глаза вечно источали густой желтый гной – мысль о том, что его тоже родила мама, и когда-то он, беспечный мальчишка, бегал по улицам, как и они, даже не приходила в голову при виде этого утратившего лик чудовища… И вот оно беспомощно валялось перед ними под теплой трубой – грудой зловонного тряпья, откуда изредка несся гугнивый храп… Дело было на исходе невеселого января – сквозь узкое отверстие в фундаменте картина освещалась угнетающим, мертвящим светом отжившего дня... «Идея! – выдохнул вдруг Миха. – Ждите тут, я быстро!», – и он сорвался с места, только ноги дробно протопотали вверх по железным ступеням, ведущим в парадное… В то же мгновенье у Влада в кармане запищал скайп: мать звонила не вовремя, что случалось крайне редко и заставляло выкручиваться на ходу…
- Ты где это? – изумленно спросила она, увидев за спиной сына непроглядную тьму вместо привычного постера, привезенного когда-то ее собственной мамой из турпоездки во Францию.
- На лестнице на нашей! Лампочки опять кто-то спер! – быстро нашелся сын. – Бегу за батарейками, «мышь сдохла». Все, пока, мне успеть надо, пока угловой не закрылся! – и он отключился, едва переведя дух.
По роковому стечению обстоятельств, именно в этом доме – только на чердаке – имелся у Михи особый «схрон», куда он ревниво стаскивал все, найденное или попросту спертое в округе, что, по его мнению, могло когда-нибудь пригодиться. Не прошло и трех минут, как парнишка вернулся с белой пластмассовой канистрой, где, как знали его товарищи, было литра два дешевого бензина, откачанного им под покровом темноты из бензобака чьего-то старенького, прошлый век заставшего «жигуленка». При виде невинной белой канистры – такая стояла и у них на кухне, только с фильтрованной водой – Владу отчего-то стало страшно. Он ничего не сказал, не шевельнулся даже – но вот поди ж ты! – звериным своим, безошибочным чутьем Миха почуял желанный любым хищником запах жертвы, и протянул канистру именно Владу:
- Полей-ка его как следует.
- Зачем? – стараясь сохранить спокойный вид, спросил Влад, но голос прозвучал предательски сипло, как у лжеца.
- Полей, говорю! – простуженно (нос у него всегда был заложен, и кашель тоже не прекращался, то ослабевая, то усиливаясь), с нажимом приказал вожак стаи.
Влад не посмел ослушаться, потому что от Михи в эту минуту исходила такая осязаемая опасность, что сразу пронеслась вполне правильная мысль о том, что вся дружба их держится только на страхе. Отказываясь понимать смысл своих действий, все еще заставляя себя верить в то, что это очередная жестокая – но шутка, Влад начал трясти горлышком канистры над спящим.
- Да живей ты! – поторапливал юный главарь. – На башку теперь… Сильнее… Вот так. Все, – он деловито забрал пустую канистру. – Теперь ты, – это предназначалось уже молча сопевшему Гришане. – Спички давай.
Тот неохотно сунул руку в карман, но ослушаться не посмел – протянул Михе гремящий картонный коробок.
- Слушай, М-миха… – заикаясь от ужаса, решился Влад. – М-может, не будем… Это же… Это нельзя…
Маленький монстр повернулся к нему и сделал движение, будто собирается наступать: с оскаленным маленьким ртом, полным уже почерневших от курева мелких зубок, он остро напомнил крысу; мутные, рано погасшие глаза превратились в темные щелки:
- И пусть он по улицам ходит, да? И пацанов, вроде нас с тобой, в ж… имеет, когда захочет, да? – он мгновенно крутанулся и несколько раз с размаху ударил ногой в рыхлую гору тряпья: - Н-на, н-на, н-на!! Видишь, он даже не перднул – до того ужрался!
Влад инстинктивно попятился, но Миха был тут как тут: яростно толкнув между лопаток, он мгновенно вернул подельника на исходную позицию, быстро чиркнул двумя спичками зараз – и в полутьме явилось небольшое, но яркое пламя:
- А ну, взяли по одной! Быстро, сказал! Я не шучу!
Гришаня и Влад с обреченной торопливостью выхватили каждый по спичке.
- Теперь бросили. Живо! – поступила команда, и Гришаня послушался первым, потому что, как он уверял позже, много позже, спичка догорала, обжигая ему пальцы – вот он и откинул ее, совершенно инстинктивно…
В следующую секунду и Влад бросил свою – по той же причине… Просто так вышло. Но в участи несчастного бомжа это уже ничего не могло изменить, потому что и от первой спички по куче лохмотьев пронеслась быстрая голубая змейка – и мощный огонь вмиг охватил лежащего с ног до головы…
- Валим, – тихо приказал Миха.
Дети рванулись к лестнице.
В парадном никого не было, и лидер негромко подсказал:
- На улице бежим по дорожке вдоль дома, чтобы из окон не засекли…
Они кучкой вылетели на улицу, сзади легонько щелкнул дверной доводчик.
Глухой, страшный, потусторонний вой нагнал их, когда они уже заворачивали за угол. Он донесся словно из-под земли, на миг взмыл до почти до небес, как невидимый огненный столб, – и оборвался, упал на серый снег, так и не достигнув неба; а там в тот момент на миг разошлись антрацитовые тучи, мелькнул пронзительный свет, будто не солнце глянуло на маленьких преступников, а настоящее Ярое Око…
- …об этом никто не знает. Миха сгинул уже через несколько месяцев – я нигде не нашел его следов, ни в интернете, ни где-то еще… Гришаню перевели в другую школу после младшей, а через девять лет он погиб в армии на учениях – водитель танка не вовремя подал назад… Я же сумел убедить себя, что был слишком маленький тогда, слишком испуганный… И вообще, моя спичка действительно ничего не добавила – все загорелось от первой, Гришкиной… Я почти забыл, потому что после ухода обоих дружков как-то сама собой началась новая жизнь, стал взрослеть, расти, думать… Все это затерлось – да, как кошмарный сон, так принято говорить… Но там, выходит, зачли… Вот как… – Владислав через силу улыбнулся. – Надо же, думал, что меня это давно не мучает…
- Ага, не мучает его, как же… А во сне кто орет: «Нельзя! Нельзя!»? – мрачно вставила Василиса.
- …а рассказал вам – и как гора с плеч. Я ее, выходит, все эти годы носил, и убеждал себя, что ее нету… Ну, что я могу сказать… Я, походу, второй адресат, осталось найти отступника…
- А что его искать – вот он, – Василиса спокойно мотнула головой в сторону отца Петра. – Он же сам сказал, что никто из нас не крикнул, что письмо, мол не нам. Значит, тоже знает за собой что-то. Давайте, батюшка, колитесь, ваша очередь.
Священник отвернулся к окну, положил с виду спокойные руки на подоконник.
- А что я? Я, как тезка мой… первоверховный… Тоже ночью… Тоже из страха и тоже три раза… Как говорится, и алектор не прокричал.
…Отец Петр находился тогда в состоянии острого горя после смерти Вали. Час назад победоносно, с шиком, вступило на землю третье тысячелетие от Рождества Христова – в их деревне шли дикие хмельные гулянья с фейерверками и таким ревом, словно не люди веселились, встречая Новый год, а пришли варвары этих людей истреблять. Он заперся в священническом доме, погасив свет, чтобы, чего доброго, не вздумали явиться с какими-нибудь дурацкими поздравлениями. Дом стоял, как положено, внутри церковной ограды, прямо у кладбища, и свежая могила любимой жены, которая умерла со странным удивлением, умом понимая, но сердцем так и не приняв свой уход, днем была видна из окна спальни, заваленная миллениумным снегом и искусственными венками, – живые уже замерзли, скукожились, и он их выбросил, помня, как не терпела покойная увядших цветов. Ночью из окна был виден только крошечный подрагивающий огонек в красном подсвечнике-стакане с крышкой, защищавшем от ветра и снега толстенную пасхальную свечу… Состояние его было ужасно – не только в душевном, но и подлом физическом смысле: ни разу не заснув по-настоящему, а только иногда забываясь на несколько минут неглубокой дремотой и вновь подбрасываясь в детских слезах, он чувствовал дурноту на грани потери сознания от желания заснуть – и полной невозможности это сделать. При каждой попытке лечь поспать он забывался почти сразу – но во сне приходила беда и начинала жестко, будто петлю накинув, душить, и он выныривал из кошмара, едва переводя дыхание… Водку организм после первых смутных дней уже не принимал – он и вообще слаб был в этом смысле, с двух рюмок сухого когда-то тянуло петь – а теперь даже при мысли о спиртном поднималась к горлу отвратительная волна рвоты. В который раз он механически заваривал чай из дорогого импортного пакета, давно еще пожертвованного кем-то на канун, равнодушно прислушиваясь к то удалявшимся, то снова приближавшимся звукам праздничной вакханалии – и все смотрел, смотрел неотрывно на красный огонек у подножия Валиного деревянного креста. В голове крутился циничный анекдот, рассказанный кем-то кому-то на поминках – он услышал, но не успел понять среди общего говора, кто так изощрился, не то подошел бы и стукнул при всех… «Какие ваши планы на третье тысячелетие?» – спрашивает журналист известного писателя. «Очень простые, – отвечает тот. – Большую часть его я собираюсь лежать в гробу». Отец Петр опять вспомнил тот момент – и коротко простонал, прикрыв рукой глаза. А когда открыл их, увидел, что Валин огонек исчез и снова появился через секунду, словно мимо могилы быстро прошел в темноте человек, закрыв его собой. Но кто мог ходить ночью по кладбищу среди могил, подивился отец Петр. Разве что новогодние шутники решили завернуть и на кладбище для смеха – но те бы горланили пьяные песни и, пожалуй, пускали сдуру петарды… «Наверное, крупная собака пробежала», – решил священник и вновь замкнулся в своем горе, не отрывая взгляда от ожившего в ночи язычка пламени. Но через несколько секунд он ясно услышал сквозь приоткрытую от угара дверь в сени, как кто-то отпирает наружную дверь, осторожно позвякивая металлом.
Находясь в том состоянии, в каком находился, отец Петр на такую мелочь, как испуг, разменяться уже просто не имел физических сил. Он, конечно, понял, что в дом лезут посторонние, но как-то слабо верилось во что-то серьезное – в новогоднюю ночь, перед первым днем нового тысячелетия, при всеобщей безудержной радости и неутихающем грохоте, кто-то тихонько вскрывает дверь бедного священнического дома… Чушь какая-то. Он встал и быстрым шагом направился в сени, решив спугнуть злоумышленников строгим голосом из-за двери: они могли думать, что темный в новогоднюю ночь дом пуст. Но отец Петр и рта открыть не успел, как дверь бесшумно распахнулась ему навстречу, и на светлом снежном фоне мелькнули, заскакивая в дом, две высокие плечистые фигуры. Оба пришельца имели на лице черные балаклавы, но и без того было ясно: это не местные алкаши, решившие экзотическим способом добыть себе полсотни на недостающую пол-литру, – он бы их и в опереточных масках на раз-два вычислил по общему облику – примелькались, да и глаз хорошо поставлен был. Нет, это пришли залетные – по наводке или так – но чужие и шутить не собиравшиеся.
- Так, батек, руки не прячем и медленно отступаем в комнату, – спокойно приказал один.
Где-то внутри себя отец Петр даже обрадовался происходящему: оно словно разбавляло его непереносимую душевную боль. Жаль только было, что собранные с миру по нитке разнородные купюры, так на лечение Вали и не потребовавшиеся, поленился отвезти в банк, решив после Рождества расплатиться ими с рабочими, уже заканчивавшими недешевый косметический ремонт внутри храма. И лежали они прямо в письменном столе, в среднем ящике. Выходит, пропадали деньги – да и гори они синим пламенем…
Его толкнули на ближайший стул, и, заведя руки за спинку, споро прикрутили скотчем, заодно и ноги приторочив к низкой перекладине. Все делали основательно и очень привычными, ловкими движениями. «Бывалые ребята», – мимоходом подивился отец Петр.
- Ну, чего? – посветив жертве в лицо фонариком, деловито спросил тот, что был более кряжист. – Деньги-ценности сам отдашь или сначала в героя поиграешь?
Отец Петр пожал плечами: знали бы они, как безразлично ему все это сейчас…
- Сам. Вон, в среднем ящике берите. Какой из меня герой… И было б, из-за чего…
Последнее, как чуть позже оказалось, было очень напрасно добавлено. Очень. А пока второй злоумышленник, казавшийся повыше и постройней, просто с некой особой внимательностью остро глянул из прорезей маски. Деньги нашли, оценили толщину пачки, незначительное достоинство большинства купюр…
- Ценного у меня ничего нет, – с неподдельным равнодушием сказал отец Петр. – Даже среди икон – ни одной старинной. Золота-бриллиантов от матушки не осталось, соболей тоже: не уважала. Не верите – проверяйте, но здесь и прятать-то негде: сени, кухня и комната. Машина во дворе стоит, «москвичонок», видели, наверно… Семьдесят пятого года выпуска, от отца еще.
- Ты ему веришь? – негромко спросил кряжистый, которого потерпевший уже мысленно окрестил «Толстым».
- Да, – против ожидания, легко согласился второй – «Худой», конечно, для равновесия. – Какой ему смысл врать. Сам сказал, что не из-за чего геройствовать… Да и глупо бы…
- Ладно. Церковь твою мы и сами откроем, не гордые. Только ведь там, поди, сигнализация… Давай, батюшка, код вспоминай, если со страху позабыл. А помнишь, так говори сразу, – по-деловому распорядился Толстый.
Он так и знал, что домом не кончится, а церкви было жалко: в иконной лавке лежал объемный пакетик с только что закупленными старостой в преддверье массового повышения цен серебряными и золотыми крестиками, цепочками, образками – именными и богородичными, предназначенными для трех принадлежавших храму ларьков, раскиданных по району и понемногу кормивших клир и многочисленных церковных прихлебателей. Денег в церкви не было: все, что наскребли в конце года, потратили на эту покупку, и вот теперь… «А вдруг старостиха поглубже куда-нибудь спрятала, и они не найдут?! Или вовсе домой забрала от греха…» – пришла шальная мысль.
- Денег там нет: как раз ревизию провели. Утварь не из серебра – мельхиоровая. Старинная икона – одна, «Успение», но высотой четыре метра, шириной три и в кованом окладе. Не унесете. Только храм оскверните зря, – стараясь сохранить прежнее равнодушие, легонько воспротивился отец Петр.
- Конечно, нет денег: их на золотишко потратили, – со смешком отозвался Толстый, проявив полную осведомленность.
С горечью связанный понял, что отстоять пакетик не удастся.
Он вздохнул и сказал код, потому что знал, что неминуемо назовет его под пыткой, а, следовательно, будет лишь покалечен зря.
Худой одобрительно похлопал его по плечу:
- Молодец, поп, сговорчивый… Я с тобой побуду, а друг пойдет посмотрит… Но смотри, если насчет кода схитрил… Хотя нет, в такую ночь не поедет сюда никакая охрана, они там все бухие валяются, даже за руль сесть не смогут… Короче, мы все равно уйти успеем, а вот ты… – Он прикинул, чем припугнуть пострашнее. – А ты, например, лишишься трех-четырех пальчиков. Так, глядишь, и креститься нечем будет… Так что – не хочешь какие-то другие цифры назвать? Нет? Хорошо подумал? Ну, смотри, тебя предупредили.
- Я уже понял, – глухо отозвался священник. – Код правильный.
Бандиты кивнули друг другу, и Толстый исчез, а подельник его несколько раз задумчиво прошелся по комнате, с вялым интересом светя фонариком по сторонам; луч света скользил по корешкам книг, по современным иконам в окладах и без, по старой югославской «стенке»…
- Было б из-за чего… – вдруг задумчиво протянул грабитель. – А ведь есть, поди, а, батя? Из-за бабок ты не упирался – и правильно: дело наживное. А из-за чего бы геройствовал? А? Скажешь?
- Ну, мало ли… – уклончиво ответила жертва.
- Ну и не говори. Я сам скажу, – луч фонарика вдруг выхватил из тьмы образ нерукотворного Спаса, писанный современным, не особо умелым художником и подаренный на какой-то праздник. – Вот из-за Него, например… – луч перебросился на Казанскую Богородицу. – Или из-за Нее… Или, – он подхватил и подбросил в ладони репринтное келейное Евангелие в бумажной обложке, – вот из-за этой книжицы… А? Так дело обстоит? И не хотел бы геройствовать, а пришлось бы: ряса обязывает.
Тридцать один год, пять месяцев и уже пять дней он помнил, что именно в тот миг ему разом стало страшно. Страх охватил отца Петра мгновенно и целиком, потому что еще раньше самого вопрошающего понял он скрытую цель его праздных вопросов. «Господи… Неужели… Неужели мученичество предстоит… Прямо сейчас… Сейчас, а я не готов… Да нет, не может же быть… Так просто… Нет, я не хочу… Не сейчас… "Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный…"».
- Не обязательно ряса, просто вера… – все-таки нашел он в себе силы прошептать.
- Ага-а… Вера, говоришь? – усмехнулся бандит… – Ну, это мы посмотрим…
Дверь в горницу распахнулась, пропуская быстро обтяпавшего дело Толстого.
- Все, как мы и думали, – весело провозгласил он, вытаскивая увесистый сверток из сумки через плечо.
Сердце у отца Петра заныло: нашел, не забрала… Но тут же встрепенулось надеждой: получили, что хотели, и теперь уйдут! Но Толстый поставил сумку на стул и под нацеленным лучом налобного фонарика вновь запустил туда руки:
- Бонус! – фыркнул он.
На свет явились две бутылки дорогого, коллекционного ликерного портвейна, давно уж припрятанные в алтаре от всевидящих певчих и мальчишек-чтецов подальше, для нужд рождественской и всех святочных литургий. За штопором и на кухню не ходили – он оказался в складном ножике Худого, которым обе емкости были немедленно откупорены.
- Ну, за удачное дело! – провозгласил кто-то из них, и, без всякой мелочности чокнувшись прямо полными бутылками, грабители стоя припали к горлышкам.
Они одновременно выдохнули на полпути, Толстый расчувствовался:
- Помню, компот мамка летом из свежих ягод и слив варила… Духовитый, густой такой, сладкий… Напомнил… А ядреный! Не Агдам какой-нибудь…
«А ведь и этих матери рожали… Воспитывали… По головке гладили… Компотом вот поили…» – смутно подумалось отцу Петру. Толстый снова присосался к бутылке, а Худой, не донеся ее до рта, о чем-то вспомнив, передумал:
- Не-е, моя только и умела, что водку жрать. А нам с сеструхой и хлеба вдоволь не было, – и он резко повернулся к связанному священнику:
- Ты вот мне, батек, скажи, если такой правильный: почему твой Бог одним все дает, а другим – шиш с маслом? Чего молчишь, рожу воротишь? Не знаешь? А я знаю. Просто нет там ничего, зря ты надрываешься, – отец Петр с ужасом увидел, что Худой с полбутылки портвейна уже пьян в дымину, видно, будучи алкоголиком уже на третьей стадии. – Потому что если б была там какая-то справедливость, то мою сеструху шестилетнюю мамкины сожители до смерти бы не зае..ли! И бабулька добрая, которая меня к себе жить после этого взяла, не померла бы оттого, что просто косой себе ногу порезала! И меня бы в детдоме табуреткой железной по хребтине не отоварили, так что на три года ноги отнялись, и в дом детей-инвалидов под себя ходить не кинули бы…
- Так вижу, отошли ноги-то? Значит, есть Бог? Потому что если б не было, то, по всему, вы тогда же и умереть должны были… – тихо сказал отец Петр.
- Ах, ты еще проповедуешь… – с непередаваемой ненавистью процедил Худой; он судорожно поднес ко рту бутылку, в несколько хороших глотков опрокинул остатки вина в глотку, отшвырнул в угол тару и обернулся на товарища: – Слышь, он тут проповедует, пидор жухлый!
- Хватит. Валить надо, пока деревня заснула. Скоро утро уже, – Толстый крепко перехватил подельника за локоть и потянул назад, но Худой легко, змеиным движением вывернулся.
- Ща пойдем. Только дельце одно доделаю. Быстро. Погеройствовать дам сучонку…
Едва ли не с мольбой отец Петр глянул на Толстого, но тот уже поворачивался спиной, направляясь к двери, всем своим видом показывая, что ему очень досадна эта заминка, но поделать ничего нельзя.
Худой меж тем быстро задернул шторы и включил настольную лампу, взгляд его заметался по комнате, ища что-нибудь пригодное для намеченной цели, – и немедленно уперся в старый электроутюг.
- Ага! Вот сейчас мы и узнаем, есть Бог или нет! – и он воткнул вилку в розетку.
Ужас захлестнул отца Петра слепой черной волной, пелена отчаянья застила глаза – и несчастный начисто позабыл, что можно еще воззвать к Богу и умолить Его. Вместо этого он со всей интеллигентской жалобностью, на какую был способен в четвертом поколении, обратился к мучителю:
- Послушайте, не теряйте человеческий облик… Вам потом самому будет стыдно… Вы не понимаете, что делаете… Вы просто выпили лишнего… А потом ужаснетесь…
- Кто – я? – вдруг почти трезво и спокойно удивился Худой. – Я уже ничему не ужаснусь. Ужасалка отвалилась.
Он медленно шел к жертве с утюгом в одной руке и маленькой книжкой Евангелия в другой. Утюг он поднес к щеке связанного так близко, что тот почувствовал нестерпимый приближающийся жар и запах паленой курицы: то уже загоралась его собственная борода… Он отклонялся, сколь мог, но в примотанном к стулу положении это удавалось плохо, к лицу приближалась знакомая книга – Евангелие, а с другой стороны несся усмешливый шип:
- Плюнь сюда и скажи: нет никакого Бога… Давай, а не то приложу…
Отец Петр не вынес: зажмурив глаза, он булькнул пересохшими губами и выдавил:
- Хорошо, хорошо… Нет…
Утюг отдалился от лица, послышался похабный смешок:
- Халтура, батя. Штрафная!
Он метнулся к стене и сорвал знакомого Нерукотворного Спаса. Все повторилось: угрожающий жар, попытки извернуться, только перед глазами теперь стоял ясноглазый Божественный лик.
- Плюй и говори: Ты не Бог. Я жду. А схалтуришь опять – половины морды лишишься.
- Не могу… – простонал пытуемый. – Не мучь… Тебе игра, а мне… Не могу…
Но в ту же минуту он ощутил, как каленое железо почти вплотную приблизилось к беззащитному лицу, как затрещали, сгорая, взмокшие волосы, еще доля секунды – и этот псих изувечит его!
- Не Бог, не Бог… – торопливо пробормотал несчастный. – Ну, хватит уже, что вы еще от меня хотите…
- Хочу ясного и твердого ответа! – сказали ему. – А ты пока только мычишь, как телок на бойне…
Позади приоткрылась дверь, пахнуло холодом из порядком промороженных сеней, послышался приглушенный голос Толстого:
- Ты сдурел?! Хочешь, чтоб мы спалились из-за твоего гонора?! Скоро петухи запоют, а мы все еще тут торчим! – однако настаивать он не стал, дверь снова притворилась.
- А мы быстренько… – пообещал Худой вслед ушедшему товарищу и с деланой наивностью воскликнул: – Ой, что это? У нас утюг-то остывает… Ох, беда какая… Ну, ничего, ты у меня сам сейчас петухом запоешь, падла! – и утюг был немедленно поставлен сползшему было книзу отцу Петру на удобно подставленный живот.
Он ощутил, как стремительно становится горячо, и задергался, но металл действительно подостыл за разговором и уже не мог причинить сильного вреда, особенно сквозь довольно толстый домашний свитер Валиной вязки.
- Прекратите это… Прекратите… Это варварство… – неубедительно молил несостоявшийся мученик.
А палач его тем временем нес уже заранее присмотренную Казанскую. Розетка сразу нашлась другая – прямо в стене рядом со стулом, и вилка немедленно была воткнута туда. Отпустивший было жар начал исподволь зреть снова…
- Богородицу – не могу… За это накажут… Обоих накажут… Вы просто не знаете… – извиваясь, бормотал отец Петр, но путы держали его крепко, а утюг хоть и подрагивал, но держался на животе; сквозь слезы он уже не различал черты Божией Матери, только видел сероватый блеск небогатого жестяного оклада…
- Давай-давай, – напомнил мучитель. – Не то сейчас утюг в кишки провалится.
Терпеть было уже нельзя, свитер горел, секунда – и раскаленное железо оказалось бы на беззащитной коже… Заливаясь слезами он уже не пробовал сопротивляться и хрипло взвыл:
- Убери!!! Скажу!!! – утюг был немедленно снят, и, содрогаясь от рыданий, отплевываясь от хлынувших кипящими струями слез, страдалец выкрикнул: – Нет Бога! Нет! И не было! Не рожала Его Дева! Довольны?! Теперь уж лучше убейте!!!
Худой невозмутимо выдернул шнур из розетки:
- Зачем? Ты теперь живи, батек. Служи вон. Вино другое купишь. Денег еще наберешь у идиотов. А свитер тебе баба какая-нибудь заштопает…
Вдалеке раздался первый хриплый крик прочищающего горло петуха. Грабителям нужно было торопиться.
Отец Петр обернулся от окна. Седая его голова стала еще белее под молочным небом, карие глаза среднерусской породы славян отразили свет непогашенной лампы, сделав его на миг похожим на великого тезку.
- Я так и сделал, как он сказал. А что мне оставалось? Сан слагать? Приход бросить? А самому куда? Для этого тоже мужество нужно… Только с того дня и до этого, когда причащаюсь в алтаре, – иначе нельзя, люди смотрят – Причастие для меня всегда на вкус, как плесень. Даже если другой священник Дары освящал. Будто от горбушки, позеленевшей откусил. Так-то, – он помолчал с минуту. – Ну, что скажете, адресаты? Вот вам и отступник для вашей теплой компании. Пойдем или так оставим, не поверим?
Убийца встрепенулся, глянул бодрячком:
- Идти, вроде, надо…
- Ну, мне-то, в любом случае, к приключениям не привыкать, – улыбнулась блудница.
3. Адресант
«Если до того момента я еще сомневалась, приписывала его отношение простому дружеству, интересу к моей оригинальности, то именно теперь за столиком у Quisisana, я окончательно убедилась в любви Г. Не могли лгать его ясные голубые глаза, так тепло, так нежно смотревшие мне в лицо, – и я ободряюще улыбнулась в ответ на невысказанное признание».
Герман с недоумением глянул на обложку тетрадки: мелкие, увитые богатыми крендельками и росчерками буквы складывались в едва читаемое название: «Заметки для романа "Живительная любовь" писательницы Надин фон Леманн». «Ах, она еще и писательница!». Он почти захлопнул тетрадку, когда глаз вдруг резануло это изогнутое на манер недавно еще модной дамской шляпы заглавное «Г» – первая буква его собственного имени. Да и в сомнительной «Квисисане» они с этой Надин действительно сидели много месяцев назад, когда у него еще теплилась надежда… Он прикрыл глаза, и под веками словно что-то зазолотилось: это память вернула его в теплый после изнуряюще жаркого дня июльский вечер восьмого года, когда она впервые уговорила Германа «влезть» на некую известную «в ее кругах» богемную «башню Иванова», в которой можно встретить самых выдающихся людей – и даже запросто с ними пообщаться… Да, да, он прекрасно вспомнил теперь опаловый свет угасающего дня, из таинственных недр памяти всплыла даже отчетливо видимая сверху, из огромного окна второго этажа, у которого они с Надин сидели, бордовая лысина городового, появлявшаяся в те моменты, когда он, отдуваясь, снимал фуражку и быстро протирал голову огромным клетчатым платком; живая картинка – веселая барышня в светлом смеется на империале проехавшей синей конки над, должно быть, удачной шуткой вопросительным знаком изогнувшегося над ней дылды-студента; на сердце пустота и темнота… Как лекарь, он понимал, что душу точно не может тошнить, – но испытывал смутную общую дурноту, его, определенно, мутило именно душевно – при полном физическом здоровье. И прежде всего, при виде этой самоуверенной женщины, странно растягивавшей слова:
- Представля-аете, Герман, что он мне сказа-ал, нет, что он сказал, этот профессор! Это же так отврати-ительно… Вот досло-овно: «Оставьте, милейшая Надин, прерогативу создавать миры на-ам, мужчинам. Поверьте, это совершенно не женское заня-атие… Вам пристало розы писа-ать, букеты… Пейза-ажи, на худой конец. А то, на что вы зама-ахиваетесь – не женское, совсем не же-енское искусство! А ведь наши рисовальные классы – для да-ам… Вас неправильно пойму-ут…». Представляете? Нет, вы представля-аете, Герман? Создавать миры могут только мужчи-ины, а меня, с моим умирающим Бонапа-артом – неправильно поймут? По-вашему – то же, женщины не должны создава-ать миры-ы?
- Женщины дают новую жизнь – и каждая из них – целый мир, – попробовал отвертеться Герман, но сразу вспомнил, что, поскольку детей у Надин нет и, скорей всего, не будет, то ей и здесь не повезло.
- Ах, нет, Герман, это совсем не то, – опять завертела она свою шарманку, но слушать излияния по теме женского равноправия было выше его сил.
Он молча пил кофе, дежурно улыбался ей в шляпу и думал, насколько же может быть человек слеп. Взять хоть ту же Надин. Всею собою, во всех проявлениях она иллюстрировала женскую глупость и бездарность – и при том считала себя высоко одаренной художницей, писала маслом умирающего на своем последнем острове Наполеона; Герман видел несколько раз в ее мастерской начатую картину – неумелая мазня, удручающее зрелище… Не желал бы он умирать в окружении такого количества исключительных уродов с разновеликими конечностями и плоскими кровожадными лицами! Но богатая дура – наследство ей какое-то на голову свалилось в доказательство того, что дуракам везет, – могла себе позволить любую прихоть, например, превратить чердак собственного особняка на Петербургской стороне в «парижскую мансарду», благо потолок там был как раз скошенный. Туда же она велела притащить несколько мольбертов, разложила по столикам палитры и кисти, расставила всюду гипсовые головы, живописно развесила ткани – и получилась стилизованная «мастерская» – так чеховская героиня стилизовала столовую под крестьянскую избу – гордость Надин и обязательная достопримечательность дома, к которой был приговорен любой доверчивый гость.
Не вслушиваясь в плавную, совершенно бессодержательную речь, полную трюизмов, он иногда медленно кивал, чтоб не обидеть праздную болтунью, и все ждал момента повернуть на главное. Заодно он исподтишка рассматривал ее – и снова поражался. Невозможно было поверить, что девице не более двадцати пяти лет, – казалось, подкатывает под сорок. Но Надин, вероятно, вполне устраивала собственная внешность, а жизнь свою, со стороннего взгляда, заведомо обреченную, она вовсе не считала несложившейся. Без всякой застенчивости она вела себя, как записная красавица и кокетка, с отрочества не знавшая отбою от докучливых кавалеров, и одета была по последней, должно быть, парижской моде, в светлую юбку до щиколоток, с широкой завышенной талией, подчеркивавшей грудь в белоснежной блузке с высоким, почти мужским воротником… Но не ей бы все это носить! Как врач, он умел с первого взгляда примерно оценить вес пациента и мог с точностью до пары фунтов определить, что весу в Надин фон Леманн чуть меньше, чем восемь пудов – и даже частица «фон» перед ее немецкой фамилией каким-то образом добавляла ей тяжести. Никакие корсеты, в которых монументальная дама еле дышала, ухитряясь, тем не менее, отправлять в рот и благополучно проглатывать филипповские пирожки, ее не спасали, и весь наряд, предназначенный для легкой, узкобедрой, будто летящей дамы, смотрелся на ней забавно до карикатурности – да еще с этим массивным аметистовым ожерельем! А уж про смело выставленные напоказ щиколотки и говорить не стоило – из-под стола кокетливо выглядывала слоновья ножища, обутая в узконосую кремового цвета туфлю лакированной кожи и на пуговичках, что выглядело даже несколько жутковато… Широкополая, с целой клумбой наверху шляпа сидела на округлой массе подобранных кверху локонов – вот только под локонами пряталась – и просвечивала сквозь жидкие темные пряди толстая рыжеватая «крыса»… И притом, если уж она так следит за своей внешностью, то купила бы простой актерский грим, чтоб замазать коричневатые пятна на скулах, фиолетовые следы от выдавленных прыщей, темные тени под глазами, идущие от нездоровой печени, – она что, всего этого не видит? А золотые пломбы в слегка выступающих передних зубах! И, как специально, все время улыбается, считая, вероятно, свою улыбку обворожительной! Герман вспомнил мать, которая щавелевой кислотой, нанесенной на кончик зубочистки, выжигала у себя на шее малейшие, почти никому не заметные серые старческие родинки, а у Надин две крупные коричневые бородавки росли себе спокойно по обеим сторонам подбородка, из одной кудрявился жесткий черный волос – но ей, при всех ее туалетах и ароматических притираниях, и в голову не приходило пойти и удалить их в специальной клинике, под хлороформом – привыкла к ним и не замечала, что ли? Но разве такое возможно?.. Между тем Надин прикоснулась к его легкомысленно подставленной руке своими пухлыми, чуть заостренными пальцами, поросшими легким черным пушком по нижним фалангам – и он вздрогнул от легкого отвращения.
- Так что, идем на Башню? Честное слово, Ася Тургенева опять будет стоять на голове… Обещаю! А если сама не встанет – я лично попрошу! Для вас.
Герману совершенно не хотелось смотреть, как какая-то сумасшедшая истеричка будет совершать противоестественные трюки, но в этот момент к столу приблизился слегка разочарованный официант. Раз они не пили шампанского и не ели трюфелей, то и особо вежливого обращения не заслуживали. Кроме того, опаловое сиянье за окном, переливаясь, постепенно переходило в цвета сапфира: приближалось время ресторану превращаться из приличного места в ночное «гнездо разврата».
- Господа еще чего-нибудь желают? – с легкой наглецой спросил официант.
А Герман вдруг до холодного пота испугался, что этот мелкий лакеишка сочтет Надин его женой и презрительно пожалеет тощего барина, приняв за бедняка, женившегося на уродливой жабе из-за денег. Он торопливо чуть ли не крикнул через стол идиотскую церемонную фразу:
- Конечно, Надежда Николаевна! Почту за честь, если вы меня им представите! – уж это-то должно было полностью разубедить всех подозревающих вокруг!
Надин удовлетворенно сверкнула своими пломбами. Сбоку от нее на стене Гостиного Двора осветили электричеством квадратную рекламу: «"Перуин" для ращения волос» – и тонула, тонула в бурном море собственной растительности роскошная брюнетка в парижском корсете… «Хоть бы ты себе этот "Перуин" купила… – злобно подумал Герман. – Тогда, может, хоть "крыс" бы подвязывать не приходилось!». До той минуты он собирался не тащиться к незнакомым, судя по всему, слегка умалишенным людям, а посадить Надин в ее коляску, откланяться и спокойно пойти спать перед завтрашним ранним подъемом в больницу, раз уж не удалось сегодня заставить ее заговорить о Евстолии, – она просто не обращала внимания на наводящие вопросы, упоенно рассуждая о себе самой. Но после дурацкой фразы, отчаянно выкрикнутой ради не вовремя возникшего лакея, отговориться не представлялось возможности, и, бледный от злости, Герман отодвинул толстухе стул, автоматически предлагая руку…
Внизу немедленно подкатил экипаж, Надин весело крикнула своему кучеру: «Угол Тверской и Таврической!», и, подсаживая тучную барыню, Герман подумал, что хорошо бы сейчас захлопнуть за ней дверцу – и бежать, бежать по Невскому прочь, со скоростью мальчишки-газетчика… Но тогда не осталось бы в целом свете ни одного человека, от которого иногда, не каждый день, по чужой прихоти – но все-таки можно было узнать о Евстолии что-то новое. Он покорно примостился рядом. Ее похожая на чудовищный круглый столик с цветами и фруктами шляпа с размаху ударила ему по канотье и чуть не сшибла его с головы. Верх уже был поднят, и в полутьме висел сладкий и душный запах обожаемых госпожой фон Леманн недавно бурно ворвавшихся в моду «Coty»…
«Только прикосновение полей наших шляп сдержало предполагавшийся поцелуй. Я не знала, жалеть или радоваться. С одной стороны, любовь властно требовала своего, а с другой… Так приятно было знать, что все еще впереди, все только начинается, – и не торопить и без того стремительно развивавшиеся события. Я придвинулась ближе, стремясь к еще большей уединенности, но Г., видимо, смущенный только что чуть не свершившейся intimité, застенчиво отвернулся и принялся слишком старательно разглядывать то, что видел на улицах… А что там было рассматривать? Темнота сгущалась, и, когда мы свернули с торцевой мостовой освещенного электричеством Невского, наш путь освещали только редкие газовые фонари… Мне отчего-то сделалось грустно-грустно… Вспомнилась нелепая смерть Лидочки Аннибал – от детской болезни, после почти полугода мучений, да еще весь тираж ее книги именно во время смертной болезни был арестован цензурой, что, наверняка, эту смерть приблизило… Как она тогда кинула горящую керосиновую лампу в эту Санжаль, когда та пристала к ее мужу – хочет, видите ли, родить ребенка от гения… Я при этом присутствовала – Санжаль увернулась, а огонь вспыхнул на ковре! Мы бы, наверное, все так и сгорели там живьем вместе с Башней, если бы Иванов не сорвал со стены другой ковер и не швырнул его на пламя! И вот уже нет Лидии, зато ее дочка почти не скрывает, что у нее роман с отчимом… Как все перепуталось… И все равно интересно, красиво, необычно, никаких серых будней, когда знаешь, что снова настанет среда и всегда можно к полуночи приехать на гостеприимную Башню… Почему говорят «среды», когда собрания начинаются после двенадцати ночи? Правильней бы «четверги»… Я осторожно повернула голову в сторону Г. Понравится ли ему там? Не сочтет ли он милые проказы моих друзей эпатирующими эскападами? А вдруг это повредит высокому мнению, которое у него обо мне сложилось? Ведь он – доктор, ему совсем незнакомо общество художников и литераторов… Вдруг он решит, что и я, его избранница, способна, завязав юбки вокруг ног, встать на голову, как Ася? И, может быть, уже делала так, раньше, без него? А как Мейерхольд с Верховенским изображали слона! Спереди был Мейерхольд с хоботом, а Верховенский «изображал» зад… Вдруг для Г. это вообще неприлично – так вести себя взрослым людям, господам литераторам?.. Я заволновалась, пытаясь заглянуть Г. в лицо. Но увидела, что мой любимый улыбается краешком губ… Это было такое счастье! Я едва не сказала ему, что пора, наконец, отбросить все условности, что мы любим, что нельзя упускать драгоценное время, растрачивать часы и часы на обязательные в приличном обществе «ухаживания»… Какой вздор! Сейчас обнять его, сбросить тяжелую шляпу, растрепать свои густые шелковистые волосы, упасть к нему на плечо и сказать... Сказать: «Милый, милый…».
Герман двумя ладонями схлопнул тетрадь. Несмотря на весь высокий трагизм ситуации, он испытал приступ острого гнева, только сейчас полностью осознав, что весь текст романа, к счастью, так и оставшегося в набросках, касается его самого и описывает – в дикой, извращенной, безумной форме! – все их с Надин отношения – если редкие встречи и разговоры, которые он всегда с разной степенью успешности пытался повернуть на Евстолию, вообще можно было назвать «отношениями», а не эпизодическим, весьма поверхностным общением. Да, он не возражал этой женщине на ее пустые, хотя и претендующие на оригинальность высказывания, – но лишь потому, что она, обидевшись, отказалась бы периодически видеться с ним и невольно выдавать крохи сведений о своей институтской подруге, его недостижимой возлюбленной. А эта мегера, оказывается… Оказывается, она все это время лелеяла о нем гнусные мечты, представляя его с собой в таких ситуациях, что догадайся он об этом – и мог бы ударить мерзавку по лицу… Он-то знал, о чем мечтают страдающие неразделенной любовью! И вот эта – жирная, бородавчатая, приторно-вонючая, с нечистой кожей, волосатыми пальцами и огромными, наверняка, тоже волосатыми ногами бабища – представляла себе по ночам, что он… с ней… Вот тут Герман почувствовал приступ приземленной, а не возвышенной душевной тошноты, как тогда, в «Квисисане»… А его она спросила?! Ведь мечта каким-то образом затрагивает и того, о ком мечтают! Наука еще не знает – каким, но это факт! Он почувствовал себя оскорбленным просто тем, что эта зажравшаяся миллионерша, не знающая, каким еще порочным удовольствиям предаться, смела о нем мечтать – о нем, молодом красавце-докторе, образованном дворянине!
Но в этот момент Герман вспомнил, почему вообще эта тетрадь оказалась у него в руках и сразу присмирел, задумался… Так выходит, она его любила… Так же, как он любил Евстолию… Нет, Бог, конечно, есть… И дивны дела Его…
Как ни старался он окончить с медалью единственную мужскую гимназию в уездном городе Острове – подкосили на выпускном сочинении. «Литературные творения Екатерины Великой»… Гм… Да той минуты он вообще не знал, что она разродилась какими-то «творениями», – переэкзаменовки удалось избежать, выскочив на общей эрудированности и получив унизительное «посредственно», но с мечтой о медали пришлось распрощаться, как и с казенным коштом в Санкт-Петербургской медико-хирургической Академии, на который она давала бы право… В тот день он серьезно думал о том, что выкрадет у отца из кабинета охотничье ружье, зарядит крупной дробью, как на кабана, уйдет подальше в чащу и выстрелит себе в голову, встав на крутом берегу глубокого и опасного лесного озера, в котором не всплывают трупы: тамошние ужасные подводные течения, как известно, утаскивают утопленников через целую цепь более мелких озер в последнее, заболоченное, никого и ничего не выпускающее из цепких лап трясины… Горевать никто особо не будет: у родителей он был единственным поздним ребенком, мать не дожила до минувшей Пасхи, упорно соблюдая строгий Великий Пост, несмотря на прогрессирующую чахотку, а отец… Угрюмый и равнодушный человек, сломанный бедами запойный пьяница, промотавший свое и женино состояние и доживающий из милости управляющим в имении богатого и веселого друга бурной юности, может, и вовсе не огорчится, потеряв своего никчемного захребетника… Терзать от отчаянья седую бороду он, в любом случае не станет…
Набожность в гимназии была не в почете, поэтому страха перед вечным загробным наказанием юноша тоже не испытывал. Будущего он не видел: при мысли о том, что ждет его участь приказчика в мелкооптовой лавке или нищего телеграфиста на станции, холодело сердце: с очевидной способностью к учению, страстью к естественным наукам, горящим сердцем – прозябать в омерзительном деревянном городишке, с октября по апрель тонущем в какой-то особой, эсхатологической грязи, а с мая по сентябрь похожего на забытый домашний аквариум с мутной зеленью по стенкам и полудохлыми бледными рыбами, еле-еле шевелящими плавниками, – чем жить в таком городе нищим чиновником, медленно спиваясь, как отец, лучше уж покончить со всем разом.
Ружье он добыл тем же вечером, просто взяв его со стены над диваном, где храпел пьяный «папенька», унес к себе, со знанием дела разобрал, почистил и смазал, чтобы избежать досадной осечки, способной поколебать твердое решение, не спеша зарядил оба ствола и поставил спусковые крючки на предохранитель. Все было готово. Понимая, что спать в эту последнюю ночь не придется, юноша вышел в господский сад, где, будучи, в целом, чуждым любой романтике, хотел все-таки напоследок взглянуть на далекие холодные звезды в светлом летнем небе – и вдруг, повинуясь смутному полурелигиозному-полусуеверному порыву, загадал что не станет стреляться, если увидит, как упадет звезда. Но пора звездопадов еще не настала, и вероятность увидеть промчавшийся по небу метеорит была ничтожно мала – Герман это знал, поэтому загад его мог считаться вполне честным.
Выйдя на открытую полянку неподалеку от барской усадьбы, молодой человек задрал голову и принялся с удивившим его самого волнением пристально разглядывать слабо видимые на бледно-фиолетовом небе звезды, вполне отдавая себе отчет в собственной трусости: выходит, не очень-то и смел он перед лицом вольной смерти, раз так трепещет в ожидании знака надежды! Он разозлился на свое малодушие: сколько можно смотреть?! Что за ерундистика?! Конец девятнадцатого века на дворе, естественная наука – та, в которой ему никогда не преуспеть! – идет семимильными шагами к полному познанию мира, а он поддался каким-то бабкиным предрассудкам! Ведь очевидно же, что не будет никакого знака, да и некому его подавать оттуда! Именно в ту секунду, прямо в подставленное лицо Германа словно кинули горсть переливающихся алмазов. Юноша даже инстинктивно зажмурился и втянул голову, словно звезды действительно могли на него просыпаться, как небесное зерно! Словно Кто-то огромный и невидимый в непостижимой высоте доброй усмешкой отозвался на пустой мальчишечий бунт: «Ах, ты не веришь в Меня? Ну, получай!».
Герман словно очнулся. Он стоял один в сырой серой траве под спокойным сиреневым небом. Хотелось спать, зевота выворачивала челюсти, глаза часто моргали, будто засыпанные песком. Он еле добрел до их с отцом длинного одноэтажного флигеля, вяло отвел рукой дернувшегося навстречу из-под крыльца веселого и ласкового сторожевого пса, на ходу расстегивая рубаху, нетвердыми шагами прошел по коридору и рухнул к себе на узкую постель поверх сурового солдатского одеяла, уже в полусне скидывая ботинки на дощатый крашеный пол. Сначала с тихим стуком упал один, сквозь сон юноша с недоумением ждал второго глухого удара, дрыгнул ногой в нетерпении, стряхнул ботинок с кровати – и с удовлетворением погрузился в непроглядный сон.
Летом даже пасмурные дни исполнены серебряного света. Проснувшись, Герман увидел, что самые обычные предметы в его комнате – письменный стол, глобус на нем, хрупкая этажерка с книгами, чернильный прибор в виде деревянной собаки, положившей лапы на подставку для перьев, пресс-папье с треснувшей перламутровой ручкой, гимназический ранец на венском стуле, распахнутый шифоньер, мирно вытянутая вдоль тела рука – все это было словно покрыто тонким слоем серебристой пыли – и страшно было пошевелиться, разрушить таинственную прелесть новорожденного бессолнечного дня… Но вдалеке, за кухней, из отцовского кабинета, слышались яркие мужские голоса, причем, прозвучало раскатистое «р» его нечасто встречающегося имени. Быстро стряхнув серебряный морок, молодой человек вскочил и высунул голову за дверь, прислушиваясь. Немедленно раскрылась и дверь «девичьей» – небольшой каморки у входа, где жили две молодые вдовушки: уродливая горничная и красавица-кухарка, которой Герман был тайно благодарен за то, что вчера собирался свести счеты с жизнью хотя бы не девственником. С тех пор она пользовалась подобием его дружбы – во всяком случае, служила добровольным агентом во всех доступных ее любопытному носику делах, а он за это иногда дарил ей платки и сережки и разрешал называть себя наедине на «ты» и по имени. Вот и теперь она быстрыми мелкими шажками пересекла коридор и без приглашения шмыгнула в комнату бывшего возлюбленного, ловко прикрыв за собой дверь:
- Ох, Герочка, сокол мой, дела-то какие! – секунду подождав поцелуя, обманувшись и не обидевшись, жарко зашептала она. – Усылают тебя господа отсюда! На учение, в самый Петербург!
В груди горячо плеснула, но сражу же опала волна радости:
- Нет, Глаша. Это отец еще думает, что я с медалью выйду. Не знает, что я сочинение по Екатерине Второй провалил. Ну, почти… Вчера отметки объявили. Так что даже похвального листа не будет… Денег у нас – сама знаешь: на жалованье управляющего разве разбежишься… Так что не плачь, – он по-хозяйски вытер ей ладонью небольшую, еще хранившую утреннюю серебряность слезу, – дальше Острова не ушлют или вообще здесь оставят отцу на смену…
- Дослушай же! – вырвалась девушка. – Знает все старый барин! Сама слышала, как он твоему папеньке час назад говорил: эка, мол, великая писательница – Катька с ассигнации! И немудрено, что парень ее россказней не читал, я бы, мол, вообще «неуд» схватил, а твой, вишь, еще выкрутился, переэкзаменовку не схлопотал, головастый… Я под дверью стояла, как мышь, тихо, а они – вон, как басят, чисто трубы иерихонские! Все до последнего словечка, не сомневайся. Барин за ученье заплатит – так и сказал. Отпрыск твой, говорит, к естественным наукам склонность имеет – так вот и сделаем его доктором. Барыня как раз в нашей деревне больницу с этой, как ее, проклятую… амбулаторией… строить собирается – как царица, хочет быть. Тебя сюда, когда курс кончишь, главным доктором и поставят… Это уж как пить дать, раз барин сказал…
Герман прислонился к дверному косяку, ноги подкашивались – ночная горсть небесных бриллиантов только сейчас до него вполне долетела. «Господи, а ведь Ты есть, – прозвучало не в голове, а в сердце, как молитва у исихаста. – Потому что, если б не было, лежал бы я сейчас без башки на дне болота…».
- Гер, а, Гер… – робко теребила его рукав красивая, но уже отжившая в нем свое Глаша. – Я знаю, что мне с тобой нельзя… Не твоего я поля ягода… Но, может, потом, когда вернешься… Уже, наверно, с усами, в очках… женатый… Хоть в няньки к своим деткам возьмешь меня?..
Вернуться в родные пенаты Герману не пришлось. Когда через несколько быстрых лет, хотя уже и в следующем веке, он стал выпускником Санкт-Петербургской медико-хирургической Академии «в степени с отличием со всеми правами и преимуществами, законами Российской Империи сей степени присвоенными», барыни-энтузиастки на свете уже не было, а больница, ею затеянная, во врачах не нуждалась: совершенно не интересовавшая овдовевшего супруга, она мирно разваливалась на семи ветрах, недостроенная и растаскиваемая тороватыми крестьянами на хозяйственные нужды. Отец давно упился до смерти и тихо лежал на сельском кладбище; старый друг, похоронивший его, слово насчет Германа сдержал, полностью оплатив его обучение и маленькую комнату на всем готовом, – но рассчитывать на дальнейшую поддержку юному эскулапу не приходилось. Способный и тяжкого труда не боявшийся, молодой человек был сразу же принят на скромное жалованье палатным врачом в Мариинскую больницу, в хирургическое отделение, вскоре начальством выделен и поставлен ассистентом к столу – ну, а там уж оказалось недалеко и до самостоятельных ампутаций. Небольшой, но драгоценный дополнительный доход, который можно было свободно тратить на выписку иностранных медицинских журналов, давали частные визиты, куда его все чаще и чаще стали приглашать по рекомендациям «чудесно исцеленных» пациентов больницы – мелких чиновников, лавочников, церковных дьячков…
В одном из небогатых петербургских домов – деревянных, похожих на убогие загородные усадьбы, на шестнадцатой линии Васильевского Острова, неподалеку от зловонной речки Смоленки, он и встретил любовь своей жизни – бледненькую безденежную дворяночку, измученную частыми родами женщину, названную по Святцам в честь преподобной Евстолии Константинопольской, но стяжавшей жизнь не блаженную, как та, а незаметно-мученическую…
«Но я не посмела… Как всегда, не посмела ничего… А Г., по причине своей природной робости, тоже все не решался на серьезный разговор, которому так явно приспело время… Тишина затягивалась, становясь мучительной… Я изо всех сил искала тему для разговора, чтобы разорвать адскую пелену молчания. «Ах, да! – наконец, нашлась я. – Вам велела кланяться Евочка Суханова». Г. оживился, довольный тем, что мне удалось изыскать повод нарушить тишину. Мимо окна проплыл газовый фонарь, и я различила в темноте его благодарную улыбку. «Merci, – вежливо отозвался он. – Не расскажете ли, как поживает семейство Сухановых?». Разумеется, его мало интересовали эти «маленькие трагедии», но, чтобы слышать мой глубокий грудной голос бесконечно, он готов был выслушивать все, что угодно, даже истории про посторонних или мимолетно знакомых людей. Мало кто из мужчин на такое способен – я оценила такт и деликатность моего Г.»
О, нет. Она считала свое сипловатое козье мемеканье чуть ли не изысканным контральто… Тогда, в карете, он готов был действительно убить Надин – за то, с каким эпическим спокойствием она не рассказала, а именно поведала ему, словно былину, о том, что Евстолия неделю тому, как разрешилась почти мертвой девочкой, промучившись больше суток, в конце которых их общая подружка, окончившая, кроме их общего Павловского, еще и Повивальный институт, пошла на наложение щипцов, коими буквально раздавила хрупкую головку плода… Ребенок еще дышал, когда измученная мать, сама еле живая, потребовала немедленно окрестить его и впала в глубокий обморок только после того, как увидела, что акушерка сполна проделала весь обряд… Надин еще и присовокупила, интимно привалившись к плечу остолбеневшего попутчика и обдав его волной несвежего дыхания и кислым, не смотря ни на какие духи, запашком вечно потного тела толстой женщины: «И знаете еще, что? Можете считать меня enfant terrible, но я почти рада этому ужасному обстоятельству. Ну куда, скажите на милость, ей сейчас, в двадцать четыре года, шестой ребенок? С семнадцати лет она рожает их даже чаще, чем раз в год: кроме этой девочки она еще двоих потеряла, вы ведь не знали? Да, да, один другого заразил корью – и оба сразу… Но были еще двое старших, которых удалось уберечь, потому Евочка и не умерла от горя еще тогда… Это чудовище, ее муж, и месяца после родов ей передышки не дает, а у нее плодовитость просто какая-то исключительная… – она мерзко понизила голос: – Один раз – и готово, затяжелела… В общем, ей и пятерых сейчас хватает, все здоровье съели. Хорошо, что малышку Бог прибрал…». Этого своего откровенного монолога в задуманном увлекательном романе «ужасное дитя» конечно, не упомянуло! Как и того, что Герман закрыл лицо руками, представив себе, как сутки напролет кричала любимая женщина, мечась по мокрой постели, рожая ребенка от ненавистного изверга, а рядом не было даже опытного медика, только какая-то недоучившаяся повитуха, вообразившая себя «акушером», – совсем люди с ума сошли! Куда смотрел Государь, как дал убедить себя разрешить женщинам отвечать за жизнь людей, когда они и за свою-то собственную толком ответить не могут! Надо же, взяла щипцы и раздавила! А потом тащила наружу, ломая и выкручивая девочке шею, раздирая нежные ложесна матери, не обращая внимание на стоны и кровь… Надин, конечно, не написала и о том, как, выслушав ее, он сказал, что ему дурно, велел остановить карету и выскочил в ночь! Попал в подсохшую лужу, погубил брюки от единственной летней льняной пары, растянул лодыжку, потерял ориентировку, столкнулся на ходу с фонарщиком, гаркнул ему в лицо: «Где Нева?!» – а тот не то испуганный, не то просто ошарашенный, молча махнул рукой назад… Почему-то не догадавшись кликнуть извозчика, Герман бросился в ту сторону бегом, и уже к полуночи, когда на Башне болтунов и бездельников, наверное, открывалось очередное собрание клинических идиотов, Герман стоял у обшарпанного, без ограды и дворника, деревянного дома с темными окнами, со стороны Смоленки густо несло тиной, от недалекого ночного трактира слышались пьяные голоса гуляк…
Только у двери, едва не дернув на волне все того же страстного порыва старомодную цепочку звонка, он внезапно опомнился: о, Боже, что он сейчас чуть не сделал! Герман мгновенно представил себе всю ситуацию не со своей, такой очевидной точки зрения (возлюбленная, возможно, при смерти, он примчался спасать), а с позиции ничего не подозревающих Сухановых. Весь дом (в котором больная родильница и пятеро детей, между прочим) заснул после тревожного душного дня, а сама Евстолия, может, только сейчас забылась неглубоким сном, истерзанная болью, дурнотой, горячкой и еще Бог весть чем, спит набегавшаяся прислуга на кухне, няньки похрапывают в детских… Вдруг всех будит отчаянный звон у двери, будто ночной прохожий, настигаемый разбойниками, умоляет его спасти! Кто-то, еле поднявшись, ковыляет к двери, долго гремит замками, открывает, а там – спаситель! Доктор, которого никто не вызывал, – в грязных по колено брюках, с безумным взглядом и даже без верного саквояжа с инструментами. Может, он догадался бы пробормотать что-то полувразумительное о том, что пришел по просьбе Надежды Николаевны… Но почему ночью? И в таком виде? Возможно, его и впустили бы как знакомого врача, еще недавно успешно пользовавшего главу семьи, но вряд ли стали бы будить барыню! А если бы и «барин» проснулся! Тут уж байкой для прислуги не отделаться!
Сдвинув канотье на затылок, Герман прислонился потным лбом к двери… Нужно успокоиться, придумать завтра благовидный предлог – и уже чинно-благородно, с инструментами, днем… После больницы нанести визит фон Леманн (бездельница как раз проснется после своего ночного «заседания» и будет кушать на балконе кофей со сливками и кучей пирожных; нет, так действительно в революционеры запишешься – ему-то в семь утра надо уже обход делать!), уговорить ее ехать вместе, рассказать, каким опасным может сейчас быть положение ее подруги… Да… Да… Так лучше. И знакомство возобновить, и очевидную пользу принести любимой… А там…
Он был застенчив и за «там» не заглядывал. И правильно делал: на следующий день Надин с категорической томностью отказалась везти его лечить подругу – ее, якобы, уже благополучно поставила на ноги все та же «женщина-акушер», отправившая на тот свет ребенка и чуть не спровадившая туда же и роженицу…
Той ночью после бойкой пробежки и внутренней встряски заснуть оказалось делом трудным. Обычно, встав в половине шестого утра и оказавшись дома ближе к полуночи, он заставал прислугу, сорокалетнюю девицу Катю, спящей (ей у холостяка оказалась вольница: нанятая за пять рублей «с отсыпным», немудрящий обед, ради которого и кухарку держать было не с руки, она кое-как готовила лишь по воскресеньям, а всю остальную снедь хозяин делил с ней почти по-братски), наедался оставленных для него на кухне сандвичей с белорыбицей по средам и пятницам или бужениной, если не было поста, потом наскоро ополаскивался под приготовленным умывальником с остывшей водой, а после буквально рушился в постель, на ходу, почти в полусне раздеваясь, – а глаза открывал только после третьего Катиного крика: «Бари-ин! Бари-ин! Службу-то проспите!».
На этот раз он в постели глаза даже не закрыл. Лежал, закинув руки за голову, смотрел в серый потолок, на котором чуть подрагивал отсвет крошечного огонька лелеемой Катериной лампадки, – со своего места на кровати Герман видел его синим через цветное стекло, а наверху трепетавшим уже первозданно оранжево с красивым голубым ореолом – и скорбно думал о том – как в двадцать пять лет могло такое приключиться. Как угораздило в возрасте, когда холостые ровесники после тяжелого дня весело едут в публичный дом или греются ночь у костра за Мариинкой, стоя за театральными билетами, или едут с дамой на Морскую в «Вену», где и кухня хорошая, и цены доступные, и приличные писатели ужинают, – как угораздило его безответно влюбиться в хилую чужую жену, в очередной раз беременную от нелюбимого мужа, и все силы свои, кроме тех, что отдавались больным, всю жизнь положить на это чувство!
Все началось с маленького, кривобокого и до карикатурности тонконогого писаря, повредившего, казалось, необратимо, свое главное орудие труда – правую руку: ее раздавили полозья лихача, даже не обернувшегося, когда какой-то мелкий человечишка, остановившийся его пропустить, вдруг поскользнулся на ровном месте и шлепнулся в навозно-снеговую кашу на Загородном, неловко выбросив руку вперед. Эту-то руку и пересек толстый железный полоз, и, конечно, присоединилась инфекция… «Готовьте ампутацию», – бросил через плечо хирург, мельком глянув на повисшую среди рваных лохмотьев обескровленной плоти почти неживую кисть. Герман, палатный врач, молча кивнул, с тяжелым сердцем соглашаясь, но несчастный, должно быть, уловил искру жалости и сомнения в глазах молодого врача. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! – тонким, почти девичьим голосом возопил он, цепляясь здоровой рукой за полу докторского халата. – Не погубите, доктор! Пропаду калекой! Деток трое! Жена на телеграфе работает! Неужели ж мне на шею к ней! Ведь писарь же я, а как писарю без руки! Помилосердствуйте! Не режьте – может, снадобье какое поможет!..». И Герман на свой страх и риск отложил ампутацию, понимая, что рискует местом, если разовьется заражение крови и маленький писарь умрет. Четверо суток юный доктор ночевал при больнице, но руку, лично прооперировав и загипсовав, отстоял. Когда больного выписывали, у него уже двигались пальцы, и все шло к тому, что через несколько недель он сможет снова этой рукой мученически зарабатывать свои гроши коллежского регистратора… Германа же он почитал после этого за полубога и даже явился благодарить, титулуя спасителем и благодетелем, – вместе с худосочной супругой в большой, как у барыни, шляпе и с тремя прилизанными гимназистами, заученно шаркавшими ножкой под строгим взглядом «папеньки». Семейство преподнесло «избавителю» странный подарок – многоэтажный пирог, собственноручно выпеченный телеграфисткой и содержащий на каждом этаже по нескольку видов начинки меж перегородками. Пирог потом ели несколько дней всем хирургическим отделением, включая ночных сиделок, а спасенный писарь с тех пор принялся исправно поставлять доктору частных пациентов, рекомендуя его с такой горячностью, что те, наверно, думали, будто речь идет о медицинском светиле в ранге статского советника, и очень удивлялись, увидев в лице Германа высокого костлявого молодого человека в пенсне и с потертым коричневым саквояжиком. Так и оказался он в деревянном доме Васильевском острове, где ему тоже пришлось спасать конечность, хотя и не такую судьбоносную, как в случае с маленьким писцом. Хозяину дома соседский дворник и два его подручных уронили на большой палец ноги тяжелый комод, который по распоряжению главы семейства переносили в другую комнату; слишком уж бурно проявил пострадавший свой начальственный нрав, желая лично руководить переноской и водворением вещи на нужное место и путаясь у мужиков под ногами, – те и потеряли в какой-то момент равновесие…
Когда доктора, призванного в качестве волшебника, только еще ввели в прихожую, где страдальческая оленья голова словно высовывалась из стенки, он сразу услышал сверху громкие, но, как ему показалось, несколько демонстративные стоны и оханья. Из гостиной вышла огромная, одетая в светло-сизую шелковую блузку женщина с грубым лицом и двумя черными бородавками под подбородком и отрекомендовалась:
- Здравствуйте, доктор, меня зовут Надин фон Леманн, я подруга хозяйки. Она наверху с супругом. Пожалуйте на второй этаж, – и пошла рядом, указывая дорогу.
В доме не было электрического освещения, поэтому впереди бежала старая горничная с подсвечником, в узком коридоре, ведущем к лестнице, все время приоткрывались какие-то двери, демонстрируя в полутьме чьи-то любопытные лица, – а у Германа вдруг захолонуло сердце – так, что он сам удивился. О чем было беспокоиться? Обычный визит – он уже два года по таким ездил и давно перестал волноваться. Но ту короткую дорогу ему еще много раз предстояло вспоминать, как паломнику, вернувшемуся из Палестины, еще долгие годы снится Via Dolorosa. Сердцебиение участилось, слегка похолодели руки. «Да что это со мной? – недоумевал Герман. – Неужели какой-нибудь приступ, не приведи Господь, начинается?». Трагические завывания стали слышны на лестнице еще громче.
- Вот ирод! – не стесняясь, прокомментировала вполголоса Надин. – Жена у него семь раз рожала, восьмого ждет. Представляете, доктор, когда Евстолия однажды ночью не смогла сдержаться и закричала в родах, так он прислал горничную сказать, что барин-де почивают, а сии бесчинные крики ему-де спать не дают. Так она, бедная, кулак себе в рот засунула и кожу насквозь прокусила, до мяса… А сам пальчик, видите ли, ушиб, и ревет, как резаный боров… В жену вцепился, будто помирать собирается, и ее же обвиняет…
Они уже подошли к двери, за которой разыгрывалось представление, и Надин со странной интимностью шепнула ему:
- Вы уж, доктор, освободите ее… Скажите, чтоб жену услал… Она носит тяжело, а эта кровососная банка, ее муж, ей уже сутки прилечь не дает…
«Если все так, то экая же мой пациент скотина!» – успел подумать Герман, открывая дверь. Но то не дверь оказалась, в Врата Судьбы.
Впоследствии именно впечатления того дня помешали ему увлечься стремительно входившей в моду теософией – потому что она содержала учение о реинкарнации. Принять это соблазнительное верование, перелагавшее ответственность за все дурное и награду за все хорошее, совершенное человеком жизни, на некую неизвестную, весьма удаленную во времени и пространстве особу, в которую дóлжно перевоплотиться, ему помешало простое и ясное знание: жизнь у души одна, просто перед единственным воплощением ей показывают все, имеющее произойти. А особо впечатлительные души в поворотные моменты судьбы могут отрывочно вспоминать показанное.
Так и он, определенно, узнал ее – эту маленькую женщину, бледную до синевы от бессонницы, осунувшуюся, с тяжелыми тенями вокруг больших, источающих мощный внутренний свет глаз, с каштановыми прядями, отделившимися от небрежно сколотой прически, в мышиного цвета домашнем платье без единой украшающей детали… В дрожащем свете трех свечей в бронзовом подсвечнике, женщина поднялась ему навстречу со стула, стоявшего в притирку к огромному покойному креслу, где, завернутый в плюшевый плед, с повязкой на голове и ногой, опущенной в эмалированный таз с водой, громко стонал, полулежа, брюхастый мужчина с капризно-брезгливым выражением одутловатого лица. В глазах хозяйки дома, шагнувшей с вымученной улыбкой навстречу доктору, мелькнуло, как и у всех, удивление его молодости. Но, несмотря на это, она уже торопливо приветствовала его:
- Как я рада, что вы пришли, доктор! Проходите же! Я имела смелость пригласить вас, потому что вы, как известно, спасли руку писцу из Ревизионной части, где мой муж служит секретарем. Когда он послал на службу, чтобы сообщить, что не выйдет из-за несчастья, то сам столоначальник отправил к нам посыльного с вашим адресом и настоятельными рекомендациями пригласить вас, потому что про случай с писцом все знают. Боюсь только, не упустили ли мы время: все произошло еще вчера днем, но только сейчас мой муж согласился показаться доктору… – этот надломленный голос с легкой врожденной хрипотцой тоже до сердечного трепета был знаком ему.
Не в каком-то далеком прошлом «воплощении», где оба они могли быть только другими, не похожими на себя нынешних, а именно эту женщину, именно с этими глазами и голосом он знал и любил всю жизнь, но только теперь произошла судьбоносная встреча. Она тоже смотрела ему в лицо с неким смутным узнаванием…
- Евсто-олия! – послышался протяжный требовательный стон из кресла. – Опять твоя несносная болтовня! А между тем никто не спешит избавлять меня от мучений!
Герман взял себя в руки:
- Сударыня, я настоятельно прошу вас теперь же удалиться, а еще лучше – лечь отдохнуть. Вам необходим сейчас длительный сон, чтобы восстановить силы. А я пока займусь осмотром нашего пациента.
Услышав это, пациент, кажется, даже забыл о своих мучениях:
- Сон?! Как это она будет спать, когда ее муж так страшно страдает?! Да еще и по ее же вине! Ведь если бы она, как умелая хозяйка, выполнила свою обязанность и толково распорядилась перенесением проклятого комода, мне не пришлось бы вмешиваться, и ничего бы не случилось! Место жены – у скорбного ложа супруга, и никто не имеет права освобождать ее от святого долга облегчения…
- Вы овдоветь, я полагаю, не хотите?! – резко перебил Герман, взяв привычный тон общения с такого рода страдальцами – тон, от которого они мгновенно принимали вид покорный и испуганный. – Что с вашей ногой, мне еще неизвестно, а вот ваша жена – на грани сердечного припадка, и это видно без всякого осмотра. Сударыня, я настаиваю, чтобы вы немедленно отправились куда-нибудь, где вас не будут беспокоить, и легли отдыхать. Возможно, вам тоже потребуется лечение: впрыскивание камфары, скорей всего… Я зайду к вам позже.
Благодарная улыбка промелькнула на ее губах:
- Хорошо, доктор, я послушаюсь вашего совета, – и она повернулась к мужу: – Никифор Егорович, мне действительно нехорошо, доктор прав. Я скоро опять приду, а пока вам вместо меня поможет доктор…
- …Богданов, – подсказал Герман.
- …доктор Богданов, – эхом отозвалась Евстолия, и он точно знал, что уже слышал эти слова из ее уст.
- Велите, пожалуйста, свету подать, чистой воды побольше, и какую-нибудь старую простыню, которую не жалко выбросить, – мягко попросил Герман. – Вероятно, придется возиться с гипсом…
«Либо мы много раз живем одну жизнь – тогда это и есть ад, либо просто знаем, кого ждем в единственной жизни, чтобы наверняка не пропустить…» – растерянно подумал он.
Мощный большой палец ноги Никифора Егоровича Суханова просто треснул в двух местах, и никакой ампутации не требовалось. Если бы не было на нем нескольких глубоких ран, грозивших нагноением, то следовало наложить гипсовую повязку на всю ступню и спокойно ждать выздоровления в течение месяца, но раны, к несчастью, имелись, поэтому вместо твердой белой калоши Суханов получил мгновенным наитием изобретенную Германом гипсовую лоханку, оставлявшую раны доступными для врача, но надежно фиксировавшую сломанный палец. Чтобы угомонить взвизгивавшего при каждом прикосновении, как огромный свин, титулярного советника, потребовалась чуть не двойная доза морфия, после которой он кротко дал обработать раны и наложить гипс, а потом и вовсе захрапел, откинув голову. Потом была уродливая и стыдная возня с перекладыванием мирно свистящей и хрюкающей туши на кровать, для чего прислугу посылали в соседний дом за дворником и еще какими-то дюжими парнями; поднимали г-на Суханова, как покойника на стол под образа, после этого доктор лично совал каждому гривенник в лопатой подставленную ладонь, и все это время думал: «Как она несчастна; Боже, как же она несчастна; и какой счастливой мог бы сделать ее я...».
Когда Герман уходил, хозяйка уже беспробудно спала, и гораздо милосердней, чем разбудить и ставить диагнозы, было дать ей проспать столько, сколько позволят супруг и две няньки, уже озадаченно торчавшие в коридоре в ожидании барыниных распоряжений насчет укладывания детей, которых, как оказалось, обязательно надо было ритуально вести прощаться на ночь с папенькой. В своем не ослабевавшем вдохновенном порыве Герман зверски распугал всех, сказав, что господа болеют и будить их он запрещает, пока сами не позовут; а паче не велит беспокоить барыню, даже если барин проснется раньше и ее к себе потребует; иначе барыня умрет «от сердца», и он за это обеих нянек и горничную, а заодно и кухарку с ее пожарным, отправит в кутузку в кандалах, а оттуда – прямиком в Сибирь…
«Причудливый быт обитателей и гостей Башни, всегда очень развлекает меня! Везде коридоры, неожиданные повороты, драпировки, странные маски, костюмы, фигуры… Поэт Белый (это, конечно, интересней, чем прозаическое Бугаев, ха-ха!) говорит, что войдешь сюда – и забудешь, в какой ты стране и времени. Вот уж это точно! Той ночью я отвела его в сторонку и настойчиво попросила быть моим судией – прослушать одно мое экзотическое стихотворение, которое мне самой очень нравится: Незримый луч коснется тихих губ /И упадет, согрев две синих тени…/ «Любимая!» – как ветра стон из труб! /Восточный гордый мальчик на коленях. /Он прям и строен, и упрям, как бог, /Он молод, словно смуглый повелитель, / «Все для тебя, любимая – Восток, /Бриллианты и цветы, твоя обитель!» /Как мне хотелось подобрать слова, / Стать гордой и прекрасной, словно праздник. /Он клялся мне, что кругом голова, А я клялась: он мой земной избранник!
Борис Николаевич очень внимательно слушал и кивал, а потом спросил, долго ли я прожила на Востоке, раз так похожа на турчанку… Тут нас позвали в залу, где как раз закончился доклад мистического анархиста Чулкова – и его всерьез, представьте себе, закидывали апельсиновыми корками, потому что доклад не понравился. Мне тоже дали корку и хотели, чтобы я кинула, но я сказала, что доклада не слышала, потому что читала Белому стихи и, следовательно, не могу «бросать камни»: вдруг доклад показался бы мне интересным? Все сразу бросились к Чулкову и предлагали ему уединиться со мной в одной из комнат и прочитать доклад лично мне – а потом принять из моих рук вознаграждение, какое я сочту нужным… Я со смехом отказывалась: все-таки я еще слишком молода и красива, чтобы оставаться наедине в комнате с чужим мужчиной. И, кроме того, моему жениху это точно не понравилось бы… Такую мою твердость все очень одобрили, а одна странная женщина (она точно курит гашиш, иначе что там в лакированной шкатулочке, которую она не выпускает из рук, за странные «медовые» пилюльки) назвала меня столпом нравственности – и все опять очень смеялись… Пяст подал мне шампанского, встав на одно колено…».
Нет, читать это было положительно невозможно. Герман ощутил в кончиках пальцев странный зуд – настолько неприятно было даже просто держать в руках эту пухлую тетрадку, набитую пошлостями. Он аккуратно положил ее на стол и огляделся: позднее февральское утро понемногу заявляло свои права слабым пепельно-серым светом за раздвинутыми гардинами. Он повернул выключатель настольной лампы с солидным бронзовым основанием, изображавшим вставшего на задние лапы тигра, и свет в окне сразу приобрел перламутровые оттенки, предвещая день с высокими, почти весенними облаками, уже слегка подсвеченными бледной розоватостью. Прошелся по мягкому ковру кабинета Надин, отвел довольно пыльную бархатную портьеру у двери, выглянул в темный коридор. Под дверью столовой мерцала узкая полоска света и неслось вполне разборчивое бормотанье: «…благ еси Ты, Господи, и благостию Твоею научи мя оправданием твоим…, – опытная монашка из Новодевичьего исправно продолжала свое скорбное бдение над телом, не заснула, не бубнила себе под нос невразумительное, читала тихо, но четко: – Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя…».
Хотелось спросить себе чаю и хоть булку какую-нибудь – но он не знал, где спит прислуга, кого нужно – и можно ли! – будить по такому поводу, потому решил пока потерпеть и вернулся в кабинет, обставленный с кричащей, даже вопиющей, а потому неприличной роскошью. Один чернильный прибор из хрусталя, малахита и золота – вычурный, громоздкий, аляповатый – стоил, наверное, его годовое жалованье. А у Надин был так – безделушкой на столе… Картины, однако, она покупала с толком: в потемках почти верилось, что на стенах мелькают этюды Федотова или даже какие-то наброски Иванова. Но при этом не повернуться и не продохнуть было от тряпок вишневого бархата, свисающих в «художественном беспорядке» буквально отовсюду; на драгоценной, красного дерева мебели было неудобно сидеть, потому что зад скользил по шелковой обивке, немецкий полусекретер-полубюро огрызался неожиданными ящичками и тайными дверцами, хранившими сущую ерунду, вроде засохшей розы или надушенного платка с таинственным инициалом – платка, верно, украденного, чтобы целовать его и в него же – плакать, у беспечного владельца, имевшего несчастье стать объектом романтического чувства Надин… «Роза, конечно, тоже была не преподнесена владелице, а сорвана с какого-нибудь куста, у которого состоялась некая знаменательная беседа», – с правомерной после всего прочитанного злостью подумал Герман. Он вспомнил, что однажды после прогулки с Надин не досчитался запонки – дешевой, серебряной – и подумал, что неплохо бы поискать ее сейчас в одном из ящичков – так, чтобы убедиться в подозрениях.
- Пышки, горячие пышки! – пропел вдруг прекрасный, прямо оперный тенор неподалеку.
Герман вздрогнул: одно из окон кабинета выходило на торцевую сторону дома, поэтому крик первого разносчика, расхваливавшего свой товар во дворе, будя заспавшихся в кухнях кухарок, здесь был очень хорошо слышен; Надин, никогда не появлявшаяся в своем кабинете раньше трех пополудни, наверное, даже не знала, сколько по-настоящему вкусных вещей можно купить рано утром, просто высунувшись в окно.
Герман так и поступил: шустро откинул очередную гардину, раздвинул локтями на подоконнике горшки с поникшими растениями, брякнул шпингалетом и рванул заклеенную на зиму раму. Та с треском поддалась, осыпая вату, как снег, – и вот уже влажный, прохладный и все же неуловимо весенний воздух ударил в разгоряченное лицо. Он высунулся до пояса и замахал руками в сторону тепло одетой фигуры с лотком, невозмутимо распевавшей оду пышкам, подняв лицо в светлеющее небо.
- Эй, любезный!
Фигура с достоинством развернулась и медленно направилась в его сторону, а дойдя до окна, оказалась красивейшим молодым мужиком в тулупе, белом переднике и на совесть завязанном треухе; синие, как у барышни на эмалевом медальоне, глаза, были так ярки, что цвет их прекрасно различался и в утренних сумерках:
- Чего тебе, барин? – удивился пышечник необычному покупателю.
- Чего-чего, пышки давай, пять штук. Держи гривенник, – и, смутившись, Герман пояснил: – Доктор я…
- Так это, мы, ваше благородие, по записи торгуем… Расчет в конце месяца, – парень озадаченно ковырялся двузубой вилкой в лотке, укладывая румяные пышные тестяные кольца на слой пергаментной бумаги.
- Да бери уже! – с жадностью хватая сверток с пышками, Герман насильно сунул монетку в руку мужичка. – До конца месяца еще дожить надо…
Он прикрыл окно и стал с наслаждением поедать горячие, подернутые сахарной пудрой пышки, по-студенчески запивая их водой из графина, обнаруженного в углу за кисейной занавеской. Некоторое время он задавался вопросом, питьевая ли это вода или сырая и старая для поливки цветов, а потом мысленно махнул рукой. Он жевал, глядя в окно на оживающую улицу и прихлебывая из горлышка, слушал знакомую и любимую утреннюю музыку петербургского двора:
- А вот спи-ички хорош, бумаги-конве-ертов!..
- Селе-одки, голландские селе-одки!.. Ки-ильки ревельские, ки-ильки!..
- Клюква-ягода-клю-уква!..
- А вот чинить-паять-лудить самова-ары! Кастрюли лудить-паять-починя-ать!..
- Костей-тряпок-бутылок-ба-анок!... – это последнее завывание принадлежало уже забредшему старьевщику, нечастому утреннему гостю.
Со смутным трепетом ожидал Герман появления шарманщика с небольшим органчиком и с несчастной, многократно битой, больной обезьянкой на серебряной цепочке и в платьице, наученной кувыркаться под жалобный скрип тяжелого ящика-катеринки, выдававшего всю ту же «Сharmant Katarina» или несколько фальшивых аккордов «На сопках Маньчжурии», – но ему, конечно, был еще не сезон...
В светлеющем с каждой минуте мареве то и дело мелькали белые фартуки разносчиков снеди, даже просеменил в пестром халате смешной «ходя-ходя»; под конец, сопровождаемый целым кошачьим оркестром, прошествовал с узким длинным лотком продавец печенки для кошек по две копейки порция, и Герман вспомнил, как студентом брал ее на гривенник, якобы для кота, а сам жарил для себя на маленькой керосинке и съедал прямо со сковородки, подбирая потом вкусный сок вчерашней горбушкой ситного: оплаченный «стол» был скуден и недостаточен для еще растущего организма… Он вдруг с улыбкой подумал, что тот лоточник ни минуты не обманывался насчет прожорливого животного, будто бы поедавшего в день по пять порций и все еще не околевшего от обжорства, и шел к горемыке-медикусу первому, зная, что тот сделает его торговле хороший почин.
В коридоре уже слышались мелкие шаги расторопной прислуги, можно было – но теперь не хотелось! – требовать чаю; выглянув, он велел позвать монашку, сунул ей за услуги серебряный рубль, вновь сел к секретеру и наугад раскрыл трепаную тетрадку, все-таки влекомый собственным образом, запечатленным там, – пусть и пропущенным через чужой, вовсе не проницательный, все и вся искажавший взгляд…
«Счастливейший день в моей жизни пришелся на Вербную среду, так что последовавшая Страстная с ее тремя днями говенья и приобщением в Чистый четверг оказалась неподобающе радостной. Сколько ни пыталась я проникнуться приличествующим случаю мрачным покаянным настроением – все равно постоянно ловила себя на мысли, что невольно улыбаюсь, вспоминая тот яркий, серебряно-синий от вербы и неба день. А всего-то приехала я на Конногвардейский, имея смутную мысль купить на Вербе всем знакомым по маленькому смешному подарочку, вроде обезьянки на булавке или какой-нибудь галантереи, да и просто вербы набрать побольше, чтобы велеть украсить иконы хоть в нескольких комнатах. Все шесть лет, с тех пор, как вышла из института (отсидев там даже класс пепиньерок, что было условием в завещании бабушки), я всегда шла за вербой сама, не поручая прислуге, потому что однажды выяснилось, что мне очень нравится выбирать ее, прикидывать, на каких ветках ярче и пунцовей кора, а тугие, как бы из жемчужно-серого бархата, шарики чаще и крупней. А еще мне нравились те, которые уже покрылись золотистым пухом, готовые раскрыться: когда Пасха не ранняя, их обычно больше… Игрушки я тоже всегда любила, как маленькая. Вот и в ту благословенную среду я не стеснялась, идя к своему экипажу с охапкой вербы, играть на ходу пестрым раскидайчиком, за что злой гимназист, подкравшись сзади, сбил мне шляпу с головы на нос, а грубый народ вокруг расхохотался… У меня навернулись было слезы обиды, но я быстро успокоилась, рассудив, что, раз я веду себя, как кухаркина дочка, то меня и примут за горничную, принарядившуюся в даренную барыней ношеную шубку… Пришлось рассмеяться вместе со всеми – и в тот же момент я увидела моего Г., как раз весело покупавшего «американского жителя» у разбитного мужика, сопровождавшего товар обычной присказкой: «Черт водяной, питается травой, лешему свояк – стоит пятак!». Забыв про все, я протиснулась к Г. и, пользуясь ярморочной свободой, легонько хлопнула его по плечу: знакомство наше можно было считать довольно тесным, потому что весь минувший месяц, когда ужасный Евочкин муж преувеличенно долго хворал, требуя к себе внимания, доктор Б. исправно навещал его, а я – Евочку, чтобы не дать ей сойти с ума в этой нездоровой обстановке.
Правда, если совсем уж не кривить душой, то из-за нее я приходила только первые дни, когда Никифор Егорович был особенно несносен и во всем искал Евочкиной непростительной faute. А потом… Да, потом между мною и доктором установилось что-то вроде тайного союза: внешне соблюдая безупречный светский этикет, мы разговаривали улыбками и глазами, и на этом пути продвинулись так далеко, что к концу нудного лечения надутого дурака Суханова были вполне уже близкими людьми, заговорщиками нарождающейся любви. Когда Г. спускался от пациента, Евочка взяла обычай непременно поить его чаем с постными коврижками и пряниками, внимательно расспрашивая о том, как идет выздоровление ее мужа. Только я одна знала, что моя подруга обманывает самое себя: на самом деле, будь она хоть-чуть свободней хотя бы в мыслях, то мечтала бы о том, чтобы у благоверного развилась гангрена, и тот бы скончался в страшных мучениях, оставив ее пусть бедной – но свободной вдовой титулярного советника и хозяйкой собственного дома. Мечтала бы, если бы могла допустить в себе такие чувства. А чувства эти, принимая во внимание личность ее дражайшего супруга, были бы вполне естественными, ибо простительно жертве на пытке мечтать о смерти палача… Но Евстолия слишком добра, чтобы понять саму себя, увы… Разговаривая с ней, Г., конечно, вполне разделял это мнение, что было понятно из его грустно-вопрошающего взгляда, который он исподтишка поднимал на меня. Я незаметно кивала и ободряюще улыбалась, переводя разговор в область воспитания детей, лечения воспалившегося отростка слепой кишки или постной стряпни… Кивала – и мечтала о том, чтобы хоть раз остаться с доктором Б. наедине и поговорить по-настоящему – голосом, а не глазами… Почти собралась с духом в следующий раз предложить подвезти его после визита, но, когда через день с этим твердым намерением я приехала на Васильевский, оказалось, что Суханов сегодня неожиданно заявил, что здоров, приказал снять гипсовую повязку и скупо расплатился. С обычной грубостью он распорядился при мне и чуть не расплакавшейся от стыда жене: «И довольно, матушка, этого пройдоху-лекаря поить-кормить задарма… И так, как липку нас ободрал, не пойти бы по миру… Эй, Фроська – или кто там есть в прихожей! – проводи-ка господина, да поживей!». У них всего одна прислуга и кухарка со своим горячим, да две няньки неученые, которые не знаю, как детей еще не угробили, – но обрадовались, злыдни, унижению образованного человека. Он побледнел и, не попрощавшись, быстрым шагом покинул гостиную, и слышно было, как в прихожей кто-то из деревенских баб небрежно накидывал на него пальто с издевательским «Пожалуйте-с»… Я, конечно, не осмелилась броситься вслед, что выглядело бы уж совсем не comme il faut в тот момент… Евочка закрыла лицо руками от стыда, а я – от горя: в тот момент я вообразила, что потеряла свою любовь навсегда.
И вот, не прошло и недели, как вдруг я вижу его – и где! – на Вербе! – в самом, казалось бы, неподобающем месте для встречи двух влюбленных из хорошего общества! Итак, я похлопала его по плечу, и он обернулся… Не могу описать того живейшего восторга, который вспыхнул в эту секунду в его голубых, как вербное небо, глазах!
- Надежда Николаевна! – и мы оба уже протягивали друг другу руки, причем, от волнения он сорвал перчатку только в последний момент. – Как же я рад вас видеть! Откуда вы здесь?
- Ах, на Вербной я каждый год сюда езжу… – пробормотала я, словно оправдываясь за то, что оказалась в столь экзотическом виде: с шариком на резиночке, в шляпе, едва задвинутой обратно после дерзкой выходки мальчишки, с пучками рассыпающихся веток и повисшей на тесемке муфтой. – Люблю сама выбирать вербу и покупать милые безделушки… И потом, эта праздничная суета… Толкотня… Все это меня так будоражит… «Улыбкой ясною природа /Сквозь сон встречает утро года…» – помните? Вот, например, вафельщик… Когда еще можно будет подойти и так запросто…
- Сударыня, вы желаете вафлю? – сразу же услужливо подхватился он.
- Да! Да! С кремом! – по-девчоночьи лихо согласилась я.
Подхватив под руку, он ловко повел меня к торговцу, и три минуты мы оба, завороженно, как приготовишки, наблюдали за простым, но торжественным процессом: пожилой серьезный грек заливал на чугунную дощечку жидкое тесто, накрывал другой и отправлял на минутку в жаровню; потом румяную, но еще мягкую вафлю он сворачивал в кулек, который мгновенно заполнял сливочным кремом… «Сейчас я попробую это лакомство в шестой раз!» – дрожа в странном нетерпении, подумала я. Г. с улыбкой передал мне трубочку – она была ужасно горячая сквозь бумажку, и я подумала, как это было бы мило с его стороны, если б он взялся держать вафлю сам и кормить меня с рук – но, конечно, просить о таком не дерзнула… Для этого он, наверное, должен все-таки быть официальным женихом… или даже мужем…
- А вы что же? – удивилась я, заметив, что себе Г. вафлю не покупает. – Не любите?
- Н-не знаю… – вдруг замялся он. – Я их никогда на Вербе не пробовал… – он совсем смутился и замялся: – Я, видите ли, Надежда Николаевна… Я пост соблюдаю… Все шесть недель и Страстную… И даже рыбы не вкушаю, кроме Вербного Воскресенья и Благовещенья. Но зато Пасха тем дороже выходит, и причащаешься, вроде бы, со смыслом… После одного случая... Сразу после гимназии… начал. И отвыкать не намерен… А крем тот сливочный – скоромный, стало быть…
Я чуть не выронила свою вафлю:
- Вы?! Но вы же доктор, образованный человек!..
- А вы считаете, что посты заведены только для черни? – тихо спросил он.
Я не нашлась что ответить… Так вот он какой! Что ж, таким я еще больше его люблю! И пробормотала:
- Просто у меня недостаточно сил на такие подвиги… Но на Страстной я говею! Всегда говею! Это с института еще привычка, там распределяли, кому когда говеть, и мне почему-то часто выпадала именно Страстная… Правда, рыбу всегда на обед давали, конечно… А этот базар… Вы не думайте… Я не скоромное есть пришла, я просто хотела вербы купить и подарочки знакомым, вы ведь тоже… – и тут, охваченная мгновенной вспышкой ужаса, я запнулась на полуслове…
«Для кого он покупал чертика?! Не матери же или сестре! А вдруг он – женат?! И уже дети есть! Вот и пришел, как добрый отец, купить им смешных игрушек! А я-то… Боже мой, Боже мой!». На моем лице, наверное, изобразилось такое смятение, что Г. попросту испугался. Он сжал мой локоть:
- Давайте переменим тему разговора. Вижу, она болезненна для вас… Если я невольно затронул какие-то, быть может, неприятные воспоминания (а вряд ли – о женском институте! – они могут быть слишком приятны), то прошу покорнейше простить.
- Вы… для кого… «американского жителя»… покупали?.. – выдавила я с жалкой улыбкой жертвы, желая расставить все точки над «i» сразу, чтоб не мучить себя понапрасну. – Для… – тут я вздрогнула, – … сынишки, верно?
Но Г. беззаботно расхохотался:
- Помилуйте! Откуда было взяться у меня сынишке, когда сначала – Академия, потом больница, операции, визиты к пациентам! Тут и захочешь за барышней поухаживать – да где ее найдешь, эту барышню, когда только к ночи, бывает, освободишься и спать валишься, как подкошенный… Нет, игрушка эта для одного слабоумного юноши, который лежит у меня в палате после операции… Мы все его жалеем и иногда приносим гостинцы. Мать у него очень бедная, на поденщину ходит, а отца и вовсе нет… У нас ведь больница для бедных, вы, может быть, знаете…
Я так обрадовалась, что почти крикнула:
- Я тоже хочу! Давайте, я ему что-нибудь куплю и передам!
Мы огляделись в довольно густой шумной толпе: отовсюду слышались задорные крики продавцов, расхваливавших свой товар, смех покупателей и зевак, треньканье шарманки, надрывные крики попугаев и свист канареек в клетках – все это слилось для меня в одну торжественную музыку любви… Совсем рядом раздался зычный голос:
- А вот теща околела и язык продать велела! – и мы разом обернулись на продавца знаменитых «тещиных языков».
Я сразу же купила один и передала Г. для несчастного больного мальчика. Мы вышли с базара, отнесли вербу в мою карету, а потом пешком добрались до набережной и долго стояли у парапета, глядя, как ладожский лед неровными серо-желтыми глыбами несется по невской стремнине, и разговаривая о единственных общих знакомых – все тех же Сухановых: я с возмущением рассказала Г. историю их брака, мимоходом возмутившись попранием женских прав – с целью посмотреть, как он к этому отнесется. Г. горячо поддержал меня, утверждая, что браки должны заключаться только по взаимной большой склонности, а выдавать бесприданницу за кого попало, лишь бы сбыть с рук, – свинство…
Именно с того благословенного дня мы стали видеться с определенной регулярностью, благо назначать свидания нам было удобно: освободившись, Г. иногда телефонировал мне из больницы, я ехала ему навстречу, и мы шли пить чай или на прогулку, а однажды я даже решилась пригласить его к себе домой и показать свою студию с незаконченной картиной на мольберте, которую он очень похвалил. Но, к великому моему сожалению, встречи наши были не так часты, как мне бы хотелось: ведь после службы в больнице Г. часто ездил с частными визитами в разные концы города, возвращаясь порой поздно ночью. В те дни, когда я, устав ждать, телефонировала в клинику сама, а он говорил, что встреча опять не состоится, я читала ему в утешение свои стихи…».
Если, читая предыдущие отрывки, Герман испытывал целую гамму неприятных чувств – от раздражения через неприязнь до откровенного гнева и возмущения, то теперь к горлу подступила острая сентиментальная жалость. Бедная, бедная, глупая большая девушка Надя с отдаленными немецкими корнями, обеспечившими ей жалкое «фон», – такое же округлое и в золотом пенсне, которое она из кокетства надевала, рассматривая то, что считала «произведением искусства»! Они никогда не ходили вместе в театр (Герман боялся столкнуться со знакомыми и сгореть от стыда), но легко было представить, как она томно лорнирует публику полной рукой в белой перчатке до локтя. Стихи Надин были не стихами, а катастрофой, в голове иногда назойливо всплывали вычурные, как и ее шляпа, нелепые строки, которыми она угощала его по телефону: «Держу в ладонях горсть хмельного инея, / Твой образ обжигающе жесток…» – а он стоял у черного аппарата, уткнувшись лицом в стену и чувствуя спиной насмешливые взгляды коллег, считавших, что молодой доктор разговаривает с невестой… Однажды он простоял так, слушая витиеватые вирши, до тех пор, пока позади не раздалось требовательное покашливание: оглянувшись, он обнаружил главного хирурга, давно уже терпеливо ждавшего своей очереди телефонировать – и терпение, наконец, потерявшего.
Ту среду Герман тоже запомнил как переломный день. Ни на какую Вербу он, конечно, не собирался, потому что коробку марципана с картинкой, изображающей упитанного ангелочка, сидящего, судя по цвету ветвей, на кусте ивы, он подарил своему подопечному оперированному идиоту еще утром, а украшением скромной квартиры к праздникам занималась только старая Катя. Просто он рано отделался от визита на Вознесенском и вдруг оказался совершенно свободным в пять часов пополудни, а день был так ярок и чист, так явственно ощущалось первое дыхание весны, что даже крайняя, давно привычная усталость не погнала его домой на Бассейную, а смутное радостное предчувствие заставило неторопливо, со вкусом пересекать Исаакиевскую площадь, улыбаясь на ругань извозчиков, трепетать жадными ноздрями, как почуявший запах овса молодой мерин, – только пахло талым снегом, навозом и Невою… Впрочем, он, наверное, впоследствии придумал себе это романтическое предчувствие, потому что уже неделю, с тех пор, как удачно вылеченный, но неблагодарный пациент самым неожиданным и хамским образом велел почти что выгнать его из дома, Германа так и тянуло хоть глянуть в сторону Васильевского, а глаза сами искали в любой толпе невысокую и неприметную фигурку Евстолии. Странное дело! Он знал, что любимая женщина ждет шестого ребенка от прегнусного мужчины, своего мужа, в любовь ее к которому, пусть даже отцветшую, увядшую и опавшую, он не верил ни одной минуты. Молодой человек прекрасно понимал безнадежность и даже некую «непрактичность» собственной любви – и несомненную греховность ее – тоже, но рад был своей неизбывной муке и готов довольствоваться малым – теплым взглядом поверх откушенного кренделька, медленным движением бледной руки, протягивающей полную чашку на блюдце, всегда робкой, словно нарушающей какой-то строгий запрет, улыбкой… Теперь все это грубо отняли и перечеркнули: явиться в дом было немыслимо, караулить на улице – так «барин» не задумается и околоточного кликнет, да и в участок отволокут, чего доброго… И вообще, сказано же: «Не пожелай…».
А дальше все случилось как в сказке: миновав Конногвардейский манеж, он ускорил шаг, содрогаясь от варварских звуков, несшихся с Вербы, инстинктивно желая быстрей пройти место скопления одуревшего от веселья народа, – и почти налетел с разбегу на Евстолию, как раз сошедшую с извозчика. Разминуться было невозможно. Скромная шляпа, серая накидка, отороченная старым собольком, весьма потертая муфта и лицо, вспыхнувшее от счастья, которое не удалось в первую секунду выдать за подобающее случаю выражение светской любезности. А он свое и не думал скрывать, да и организм не позволил: голос сорвался и охрип, задрожали губы, спутались слова на языке:
- В-вы… В-вы… Еств… Евл… Евстолия…
А она уже преодолела первый порыв, легонько засмеялась, подсказывая: «…Владимировна», – и подала руку в перчатке – руку, с которой он забыл, что делать, захватил в обе ладони и начал мять и трясти, не отрывая взгляда от ее порозовевшего лица.
Евстолия руку не отнимала, продолжая неотрывно смотреть Герману в глаза со странным вниманием, словно ища что-то важное в глубине его взгляда, – нашла и удовлетворенно кивнула сама себе…
- Доктор, вы, конечно, приехали на Вербу? – наконец, нашлась она и быстро-быстро заговорила: – А я вот тоже вырвалась. Никифор Егорович всегда приезжает домой в полдень, чтобы пообедать и соснуть пару часов, а в три опять собирается и едет на службу – и уж до семи… Так столоначальник завел – никто, конечно, противиться не смеет… Все привыкли… И вот я с шести утра до полудня с детьми и хозяйством кручусь, потом слежу, чтобы мужу обед правильно подали, и сама поем… Пока он спит – дети гуляют, в любую погоду, даже в ливень и мороз, чтоб не тревожить, а я рукодельничаю… Но вот после трех часов иногда удается сбежать, когда детей покормят и уложат на дневной сон… Правда, в семь должна быть, дома, как юнкер на плацу, иначе… Неважно, что иначе… А на Вербу я каждый год обязательно езжу, старшим детям – остальные-то совсем малыши еще – за игрушками, чтобы было чем удерживать их в воскресенье на обедне… Они уже знают, что получат игрушки, и стоят тихо, не ноют… И вот, мы всей семьей приезжаем домой и садимся за рыбу – на Вход ведь положено рыбное – и они все такие тихие и кроткие, едят быстро и все смотрят на меня… А когда папенька разрешает нам встать из-за стола, мы гурьбой бежим в спальню, пока Никифор Егорович не поднялся наверх… Я быстро раздаю им всех этих обезьянок и чертиков, говоря, чтоб играли тихо-тихо… Няньки их уводят на первый этаж, в детские, и в доме у нас воцаряется тишина… Дети играют, я вышиваю, а папенька не сердится и ложится вздремнуть… Хоть на полчасика дух перевести, а потом…
Герман внимательно слушал эту на первый взгляд бестолковую речь, за которой так и вставала гнетущая, полная угрозы атмосфера дома, где даже детский смех под запретом, ребят выгоняют на улицу в снег и холод, подарки дарят так, чтобы не увидел глава семьи, хозяйке можно выйти из дома лишь тайком, а из-за стола встать только после разрешения… Среди немногочисленной прислуги, наверняка, есть доверенные лица хозяина, а проще – шпионы и докладчики, считающие съеденные пряники и потраченные медяки…
- Идемте… – прошептал он, сглотнув. – Идемте, купим, все что хотите… Много-много игрушек купим вашим деткам!
У первого же развала, где она придирчиво выбрала три разноцветных, украшенных фольгой раскидайчика, Герман полез в карман в поисках мелочи, и между ними завязалась короткая борьба за право заплатить. Он с холодным ужасом понял, что своих денег у Евстолии нет ни копейки, что она урывает и копит на эти грошовые подарочки крохи из, наверняка, подотчетных денег, выдаваемых мужем на хозяйство, а в этом спартанском «хозяйстве» не предусмотрены ни шпильки для волос, ни лавандовое мыло, ни лайковые перчатки, ни резинки для чулок, ни одеколон, ни пудра – словом, ничего из тех будничных мелочей, которые как воздух необходимы женщине; представил, насколько мучительно ей просить у сурового супруга пять копеек на коробочку крючков для корсета или полтинник на пару чулок, предъявлять протертые локти на трижды перешитом платье, чтобы вымолить средства на самое простое новое – да еще и получать постоянно высокомерные отказы вкупе с упреками в расточительности, и с болезненной жалостью подумал, что Евстолия просто крадет эти деньги, чтоб избежать унижения… У Германа слезы выступили на глазах и, проглотив сухой ком в горле, он решился:
- Евстолия Владимировна, я хочу, чтобы вы знали: я все понимаю о ваших… обстоятельствах… Располагайте мной, как вам угодно, и не стесняйтесь… Не считайте себя моей должницей – это я ваш должник по гроб жизни, потому что… Потому что, не узнав вас, я не узнал бы самого нужного и драгоценного – того, чем жив человек… Поверьте, детские безделушки – не цена для такого знания… Весь материальный мир – не цена…
Он думал, Евстолия не поймет, испугается, возможно, даже возмутится таким почти признанием малознакомого человека, начинающего доктора из больницы для бедных. Она подняла на него серьезный светлый взгляд, и молодой человек увидел, какое скорбное и смиренное выражение лица у этой юной женщины, выражение, делавшее ее на десятилетие старше:
- Спасибо вам, доктор, за вашу заботу. За понимание. За доброту и щедрость. Пока вы говорили, я думала от последней отказаться, считая, что она может сблизить нас… излишне. Но теперь поняла – я обязана согласиться, потому что… – голос ее отчетливо дрогнул, и Герман понял, что она едва сдержала слезы, – …потому что, если не считать неразумных детей и моей бедной Нади (от нее я беру иногда подарки – но только детям, ведь она всем им крестная)… У меня никого в жизни нет. Иногда и словом не с кем перемолвиться. Поверьте, я часто вижу в глазах людей снисходительную жалость – например, когда сослуживцы мужа и их жены приходят с визитами, – но искреннюю доброту – никогда. В вас я впервые встречаю то, что давно ждала почувствовать в живом человеке, и бессовестно с моей стороны было бы лишать вас радости сделать мне приятное. Поверьте, даже все эти копеечные игрушки в моем положении – не пустяк… Вы даже не представляете…
Герман стиснул ей руку:
- Больше ни слова, – и немедленно заплатил пятиалтынный за раскидайчики, а потом, как сумасшедший, устремился к другим лоткам.
Были куплены обезьянки, заводные канарейки, «американские жители», «тещины языки» – еще какие-то вербные пустячки, каждый строго в трех экземплярах – и большой лист расписной бумаги, чтоб завернуть все это… Евстолия благодарила очень сдержанно, понимая, что не он ей, а она ему в каком-то смысле сделала одолжение. Тогда молодой человек купил в мелочной лавке маленькую синюю птицу с булавкой для дамской шляпы и попросил разрешения самому приколоть ее:
- Пусть и у вас останется что-то на память об этом дне…
Евстолия не сопротивлялась. Достав крошечные часы на серебряной цепочке, она быстро взглянула на них:
- Седьмой час. Мне пора… Никифор Егорович может вернуться раньше… – и грустно добавила: – Если он не застанет меня дома, то мне несдобровать.
- Он смеет поднимать на вас руку?!! – почти взревел потрясенный Герман.
- Нет пока еще… Но думаю, это не за горами, – обреченно отозвалась Евстолия.
Он побелел от гнева:
- Знал бы я – до колена бы ему ногу ампутировал! А я палец лечил! О, идиот… Но наверняка можно найти на него управу… Обратиться к закону…
- Закон делает жену без собственных средств полной рабыней мужа, – чуть усмехнулась Евстолия. – У меня ведь и паспорта нет. Надя уточняла у своих знакомых, даже к адвокату ходила – ведь она у нас такая деятельная… Но и она признала, что в моем случае все бесполезно. Было б у меня приданое, от которого он зависел бы, – тогда другое дело.
- По-моему, я скоро сделаюсь революционером, чтобы освободить всех несчастных, ради вас одной, – почти серьезно сказал Герман.
Евстолия опустила глаза:
- Я не стою такой крови. Вспомните французскую революцию... А у нас в пятом году что творилось – забыли? Я в те дни была больна после родов, но прямо под нашими окнами жандарм кого-то застрелил. Хорошо, что не дошло до гильотины, как в Париже. Но в следующий раз вполне может дойти, не правда ли? А какая гарантия, что и меня не гильотинируют вместе с другими? Вот и пропадут все ваши революционные труды втуне… – горько улыбнувшись, она сама себя перебила: – Мне решительно пора, кликните извозчика, пожалуйста.
В эту секунду рядом раздался зычный крик:
- Рытцать копеек! Рытцать копеек! – то вейка ссадил ездока и зазывал нового.
- Раньше они были только на Масляной… – улыбнулась Евстолия.
- А он во времени заблудился! Аргонавт, как у Уэллса, – стараясь во что бы то ни стало перебить ее и свою грусть, рассмеялся Герман и махнул финну. – Милости прошу, Евстолия Владимировна, прокатиться на машине времени.
Они забрались в открытую коляску, и бодрая крутобокая лошадь, вся в разноцветных ленточках, рысцой потрусила к Благовещенскому мосту… Евстолия остановила извозчика сразу за Малым проспектом, говоря, что подъехать к дому на вейке и с кавалером немыслимо, и решительно пресекая все попытки проводить ее. Герман только и сделал, что помог ей выйти и быстро поцеловал теплое запястье над перчаткой – а она уже рвалась прочь, тревожно оглядываясь по сторонам… Он сел обратно в коляску и не велел кучеру трогаться до тех пор, пока серенькая, как весенняя воробьиха, фигурка не скрылась из глаз, смешавшись с пестрым человеческим ручейком…
- Ну, что ж – обратно… – вздохнув, велел он, зная, что вейка должен вернуться к базару, и смутно желая оказаться там снова.
На Конногвардейском он рассеянно ходил в толпе, иногда ловя себя на мысли, что улыбается, будто милая тень все еще шла рядом и звучал над плечом дорогой надломленный голос… Здесь они впервые серьезно заговорили рядом с тележкой, где горой навалены раскидайчики… А у этого торговца он покупал дурацких «американских жителей»… И вдруг мелькнула смутная мальчишеская мысль: «У нее хоть синяя птица на шляпе осталась на память об этом дне, а у меня – ничего!» – и он немедленно купил себе глупую игрушку, уже предвкушая, как будет нажимать пальцем на резинку, будя сонного чертика, немедленно вспоминать все подробности отдаляющегося во времени яркого вечера – и улыбаться после тяжелого дня, полного чужих страданий и собственной усталости.
В этот момент кто-то залихватски хлопнул его по плечу, Герман вздрогнул, обернулся и увидел Надин фон Леманн. Ее прыщавое лицо под почему-то криво сидевшей шляпой, увенчанной пестрыми фетровыми кустами из цветов и листьев и торчавшими отовсюду перьями, расплылось в жабьей улыбке – но впервые он от чистого сердца обрадовался ей, просто потому, что только что пережил свою нечаянную радость встречи с любимой, и она осветила и освятила весь день наперед. Хотелось отмерить долю радости каждому встречному – почему бы не фон Леманн – некрасивой, бездарной, глуповатой – безнадежной? Купил ей вафлю с кремом – про то, что Великий пост надо соблюдать не одну неделю, она, конечно, и не слыхала! – и, как дурак, соврал, что игрушка, которую он не успел убрать в карман, куплена для блаженного из больницы, чем вызвал ее, не иначе как великопостный, порыв сделать доброе дело почти бесплатно. Так и вертелось на языке сказать ей – мол, чем за пятачок «язык» покупать, пожертвовала бы тысяч сто из своих даровых миллионов для Евстолии – тайно, чтоб не обидеть ее! Ведь легко могла эта сентиментальная богатая старая дева, даже днем надевавшая на толстый мизинец бриллиант не менее карата, покупавшая крестникам дорогие и ненужные подарки, устроить подруге, которую так жалела, какое-нибудь «дядюшкино завещание» через своих знакомых – и тем освободить ее от ежедневных издевательств мелкого титулярного советника! При богатой жене муж-бедняк быстро присмиреет! За это Господь, пожалуй, и при жизни вознаградил бы… Так ведь нет, такое ей в завитую голову и не приходило!
Пока они шли к Неве, раздражение Германа все-таки проснулось и грозило испортить впечатления всего дня – особенно, когда Надин, пламенея праведным гневом, рассказала, как тетка Евстолии, взявшая девочку в свой дом после смерти ее родителей, считала себя благодетельницей, воспитывая бедную сиротку-племянницу наравне с родной дочерью и отдав в тот же институт. Наравне-то наравне, но приданого ей не положила ни копейки и выдала замуж семнадцатилетней за своего вдового и бездетного дальнего родственника, чем-то ей тоже обязанного и не желавшего упустить редкую возможность arracher la fleur l'innocence, что и сделал с потрясающей жестокостью и цинизмом, силой уведя молодую в спальню, когда гости еще сидели за свадебным столом, – а потом, пылающую от стыда и оскорбления, растрепанную и заплаканную, приволок обратно уже без fleur d’orange, торжественно и со смаком объявив всем присутствующим о своем подвиге, причем пьяные чиновники сально зареготали, прыснули их разодетые и тоже подвыпившие супруги… Герман вспомнил, как в этом месте подробного и весьма красочного рассказа у него мелькнула полностью оформленная мысль подстеречь и убить Суханова, – мысль, конечно, немедленно подавленная, но ужаснувшая его до глубины души… А Надин, не подозревая, какую пронзительную боль причиняют ее слова, продолжала размеренно повествовать о том, как муж Евстолии за человека жену не почитал вовсе, причем, нарочно не унижал никогда: для него обращаться с ней хуже, чем с вещью, которой все-таки дорожат из-за денег, некогда заплаченных, было делом обычным и само собой разумеющимся – ведь не доход она принесла, а одно разорение, как лишний рот и расплодительница «захребетников».
«Жалея» подругу, Надин лично вызнала у знакомых раскованных художниц и особо высокой моралью не отличавшихся поэтесс все про патентованные французские средства, предупреждающие зачатие, – и принесла их Евстолии как-то на Святках в качестве подарка, чтобы освободить ее по мере возможности хоть от ужаса ежегодных родов. Но, воспитанная в строгой религиозности, несчастная с возмущением и даже со слезами отказалась, как с недоумением вспоминала Надин: «Вот слышишь – в соседней комнате твои крестники с няней поют у елки? Слышишь? Неужели тебе не страшно представить, что чей-то из них голосок мог сейчас не звучать в этом хоре?! – с ужасом воскликнула она. – Тебе простительно, ты девица и сама не знаешь, что делаешь! Убери немедленно от меня эту гадость и никогда не упоминай о таких безнравственных вещах! Иначе… Иначе ты мне больше не подруга…». В глазах у Германа потемнело и остро застучало изнутри в темени, будто-кто-то проламывался оттуда на свет, – как врач, он понимал, что это следствие повышения кровяного давления, и запросто может лопнуть в мозгу какой-нибудь сосуд – правда, неловко утешил себя тем, что для апоплексии он, как будто, еще молод… А между тем, Надин, как ни в чем не бывало, принялась пытать его вопросами о женских правах – полностью раздавленный ее рассказом, он несуразно бормотал в ответ, выражая на этот раз полное согласие.
Рабу Божьему Герману тоже предстояло говеть на Страстной в Николо-Богоявленском у отца Игнатия… В этот раз уж точно было, о чем рассказать на исповеди, вместо обычных мелких грешков и пространных философских рассуждений о смысле жизни, которыми он регулярно потчевал духовника каждый пост…
Когда они с Евстолией ехали на вейке, Герману удалось выпытать у нее, где она бывает, когда после вечернего отъезда мужа в присутствие ухитряется выкраивать пару часов на отдых. Оказалось – часто пешком ходит «в один укромный дворик на Четвертой», где, когда тепло, сидит с книгой, а когда холодно – просто кормит голубей вчерашним хлебом, и ей смешно смотреть, как ловкие воробьи выхватывают у неповоротливых сизарей прямо из клюва огромные корки и, отяжелевшие от украденной ноши, летят низко и медленно, как набравшиеся цветочного нектара шмели… Дворник там добрый, пропускает ее беспрепятственно и все рассказывает о своей умершей несколько лет назад девочке – а других деток им с женой Бог не дает. Хороший человек. Она тоже кое-что иногда о себе рассказывает, а иногда удается даже сунуть ему сэкономленный на чем-нибудь гривенник. Расспросить Евстолию подробнее не удалось, потому что именно в эту минуту она заторопилась и остановила извозчика, – а Герман, потрясенный внезапной необходимостью проститься прямо сейчас и на неопределенное время, попросту растерялся…
Всю Страстную, когда просили его о частных визитах, он назначал первый не на четыре часа, как раньше, а на шесть, хватал подвернувшегося «ваньку» и стремглав летел на Васильевский. Время было как раз подходящее – в любом дворе он готовился увидеть серую с потертым мехом накидку и – он уверен был, что она не сняла! – синее пятнышко тропической птицы на дымчатого бархата шляпке среди скромных, слегка поникших от старости шелковых цветов… Дворники, получив с размаху полтину на водку, пропускали без слов, хотя смотрели подозрительно, недаром почти все были тайными агентами охранки – только зря он растрачивал серебро, прорываясь в чужие дворы и расспрашивая о даме в сером, которая любит кормить голубей: начал он, как позже выяснилось, не с того конца, рассчитав, что нужно идти от Смоленки, что ближе к дому возлюбленной. Да и вообще, взглянув на тот или иной двор не своими, а как бы «ее» глазами, настроив себя на хрупкий внутренний лад любимой женщины, Герман всякий раз убеждался, что двор – не тот, узнавая это по ему самому непонятным признакам. Так к Чистому Четвергу он добрался почти до Большого, постепенно впадая в отчаянье, ибо дальше идти было некуда, через дорогу начинались здания Академии Художеств. Но не дойдя еще до пышного, цвета яичного желтка новомодного кирпичного девятого дома, перед скромным каменным строением номер 11 увидел даже не дворик, а небольшой сквер, принадлежавший тому же сдвоенному участку – только без второго дома. В глуби, далеко от редкого деревянного забора, стояла небольшая лавочка, над витой спинкой которой среди темно-серых шелковых роз распростерла маленькие крылья прозорливая синяя птица…
Герман тихо вошел в садик, не встретив на пути доброго дворника, остановился шагах в пяти от скамейки, готовый выкрикнуть дорогое имя… Но тут его охватило смятение: вот он нашел ее, сейчас может заговорить – и она даже наверняка обрадуется – и что? Из рассказа Надин ему было совершенно понятно, что, даже если Евстолия и ответит душой на его чувства – и она уже, скорей всего, к этому готова! – склонить ее к незаконной любви или уговорить оставить супруга никогда и никому не удастся, а уж тем более, покинуть детей. Между тем, единственный способ избежать полицейского преследования – это уехать за границу вдвоем, причем, ей потребуется подложный паспорт с отдельным видом на жительство… Ни одной черты в облике и характере, говорящей о том, что отчаявшаяся женщина может согласиться на такую авантюру, в Евстолии не было – наоборот, судя по всему, ей была присуща некая непреклонность в страдании, почти фанатичное желание «претерпеть до конца» – и как врач, он понимал, что конец этот может оказаться даже ближе, чем она сама считала: изнуренному организму с изношенной от постоянных безжалостных ударов нервной системой достаточно не пережить ближайших – или уж точно следующих! – родов… Сейчас он смутит ее душу, разбередит в ней несбыточные мечты о счастье, а потом неизбежно раскаянье и мучения совести – и Бог весть, к какой трагедии все приведет…
- Герман Алексеевич! – вдруг спокойно сказала сидящая, не поворачивая головы. – Я знаю, что это вы там стоите.
Судьба подарила им двенадцать недель безмятежного платонического счастья – да и каким другим оно могло быть с женщиной, носившей ребенка на седьмом, восьмом и девятом месяце! В город бурно ворвалась весна – с длинной Светлой седмицей, позволившей влюбленным целомудренно христосоваться при встречах, с всегда поражавшими воображение Германа майскими парадами кавалергардов на Марсовом поле в Царские дни – голубоглазые богатыри на гнедых лошадях, белоснежные мундиры с золотым кантом, горящие на солнце латы и каски с двуглавым орлом, ало-бело-алые флюгеры на кирасирских пиках, палаши наголо… Только ничего этого Герман и Евстолия в тот год не видели: кататься сколько-нибудь далеко она уже не могла, жестоко страдая от тряски, долго ходить пешком – тоже. Поэтому, встречаясь неподалеку от ее дома, но каждый раз в новом месте, чтобы не быть выслеженными какими-нибудь случайными знакомыми, они медленно добредали – и он даже не смел взять ее под руку, опасаясь подлых чужих взглядов! – до ближайшей кондитерской или чайной попроще и, забившись там в дальний угол, проводили за разговорами не более двух часов. Стремясь отвлечь Евстолию от навязчивых страхов и тяжелых мыслей, Герман рассказывал благополучные и забавные случаи из своей и чужой врачебной практики, вызывая у подруги на губах слабую улыбку, выражал горячую уверенность в благополучном исходе близящихся родов, ненавязчиво давал врачебные советы, поделился и сокровенным воспоминанием о горсти алмазов, брошенной ему когда-то с небес… Евстолия больше молчала, с печальной внимательностью смотря ему в глаза, иногда скупо рассказывала что-то о безотрадном детстве, о зародившейся в ненавистном институте дружбе с Надин, которой, тем не менее, она не доверяла до конца, держа даже от нее в тайне свои встречи с Германом, что вполне устраивало последнего…
В начале июля, уже совсем отяжелевшая, едва ступавшая опухшими ногами, подурневшая и страдающая вечной мигренью, от которой не было спасения, – но бесконечно любимая, она привычно протянула руку для поцелуя при прощании и, когда Герман, сняв канотье, склонился, – вдруг надолго прижалась губами к его голове…
- Вы счастливый… – шепнула Евстолия ему в волосы. – У вас две макушки…
- Да, мне матушка говорила, – пробормотал он, продолжая целовать ей руку и чувствуя настоящую, именно физическую боль в сердце.
- Мы видимся в последний раз, – спокойно сказала она, выпрямляясь. – До родов у меня уж не будет сил выходить, а родами я, наверное, умру, – и добавила твердо: – Уж скорей бы.
Они стояли в подворотне на Четырнадцатой, ветер трепал ее простое льняное платье, маленькая потертая туфелька выглядывала из-под пыльного подола. И Герман заплакал, не стесняясь, не закрывая лица и не вытирая слез. Чуть успокоившись, проговорил:
- Я ведь лекарь. Вы могли бы послать за мной в нужный момент – с помощью Надин, которая, наверняка, как и раньше, будет при вас. Уж она сумеет заставить вашего мужа принять меня! Поверьте, я не допустил бы вашей смерти ни в каком случае…
- Знаю… – по ее и без того отечному лицу тоже медленно ползли слезы. – Но я не могу… Не хочу этого… Чтобы именно вы… Потому что я люблю вас.
Евстолия повернулась и подбитой, невыносимо жалкой утицей поковыляла прочь по шестигранным деревянным шашкам. Герман рванулся было вслед – но одумался. Добить ее словами: «И я вас люблю!» было невозможно.
Родами она не умерла – это он узнал от Надин фон Леманн; только она одна и осталась ему теперь, чтобы изредка, по-шпионски вызнавать что-то о Евстолии, которая перестала ходить в свой любимый дворик – может, потому что от кошмара последних родов так и не оправилась окончательно, а может, чтобы не встретиться с Германом. Много дней он ждал там, бросив пациентов и подружившись с проницательным дворником, который тоже жалел Евстолию из-за тяжелой судьбы, при этом не одобряя ее дружбы с посторонним мужчиной: «Какого мужа Бог послал – такого и люби, Господь за это венец даст». Герман, наконец, понял, что больше ее здесь не увидит, и ходить перестал. Однажды в зимнее воскресенье на Литейном в двух шагах от него остановился извозчик, с которого слез тучный господин в хорошем пальто и, сунув извозчику монеты, не оглядываясь, прошествовал в какое-то парадное; но дверца экипажа не закрылась, и из нее вскоре показалась робкая женская фигурка в темной накидке – не встретив руки, на которую можно было бы опереться, она неловко выбралась из кареты и опрометью бросилась вслед за мужчиной… Герман замер: он не успел увидеть, была ли то Евстолия, но ему показалось, что Суханов – единственный в Петербурге муж, способный поступить так со свой женой. Конечно, это были они, приехавшие к кому-то с визитом! Быстрым шагом он миновал место недоразумения.
Приспел и новый Великий Пост, встреченный им в труде, сосредоточении и тяжелых раздумьях. Рана не исцелялась, ничто не радовало. Но настал один уже почти светлый февральский день – Герман запомнил тяжелые рыхлые комья снега, облепившие молодые клены в больничном саду, тяжелого больного, умершего в обед за белой ширмой смертников, – огромного взрослого мужчину-землемера, пронзительным фальцетом звавшего маму в последние минуты, желто-бордовые шашки метлахской плитки на полу курительной комнаты для врачей – именно оттуда и позвала фельдшерица, говоря, что его ждет на лестнице красная шапка. Сунув посыльному случайно завалявшийся в брюках под халатом пятиалтынный, он недоуменно глянул на конверт – первая мысль была, что однокашники по Академии, Великий Пост которым никакая не помеха, устраивают очередную попойку в ресторане, и ничтоже сумняшися зовут с собой и его, надеясь, что суровая жизнь перевоспитала «религиозного фанатика». Но почерк на конверте оказался женским, тонким, даже отдаленно не похожим на черные каракули Надин, периодически получаемые по почте в виде то прозрачных намеков на очередной jour fixe, то приглашений на званые обеды… Он еще не разорвал плотную голубую бумагу, как сердце вдруг рванулось так, что, казалось, одним этим ударом могло сломать ребра! Руки затряслись, будто у студента-первогодка на вскрытии.
«Милостивый государь доктор Богданов! – гласило короткое письмо. – Покорнейше прошу Вас пожаловать к нам в дом по известному Вам адресу как можно скорее. Дело не касается лечения пациента, но оно наиважнейшее. Примите, и пр. Законная супруга титулярного советника Н.Е. Суханова, Евстолия».
Герман не помнил, как выбрался на улицу, как запрыгнул, полуодетый, почти на ходу на извозчика, как всю дорогу больно толкал его в спину, понуждая истязать костистую клячу кнутом, как соскочил, чуть не переломав ноги, и едва не оторвал напрочь ледяную цепочку звонка, трезвоня, как в пожарный колокол… В передней за спиной хмурой молчаливой горничной возвышалась ненавистная фигура Никифора Егоровича, небрежно одетого в поношенную домашнюю пару. Он похабно улыбался, с заговорщицкой укоризною энергично качая указательным пальцем, поросшим густым светлым волосом:
- Да вы, сударь, оказывается, не про-омах… – не удосужившись даже поздороваться, пропел он гнусным голосом. – Зна-ал наш доктор, за кем волочиться… А? Правду я говорю, Евстолия? – мотнул он головой назад. – А? То-то…
Из темноты коридора позади Суханова выступила призрачная в свете единственного в прихожей канделябра Евстолия и быстро, напряженно заговорила:
- Доктор, наша дорогая Надин сегодня ночью скончалась от дизентерии, проболев две недели. Она писала вам во время болезни, но вы, должно быть, не получили то письмо. – (Герман его получил, но, полагая, что оно содержит очередной эксцентричный зов, бросил в камин, не читая, как довольно часто поступал с корреспонденцией этой женщины.) – Когда я навестила ее последний раз, она уже понимала, что болезнь не поддается лечению, и передала мне конверт. Вам следует узнать о его содержимом. Прошу вас в гостиную.
Все оказалось просто и горько. Болея тяжело и страшно, предупрежденная своим доктором об угрозе прободения кишечника, Надин, не имевшая близких родственников, пригласила нотариуса и в присутствии свидетелей – двух безумных литераторов с Башни – продиктовала и заверила завещание. Кроме нескольких тысячных и сотенных подарков кое-кому из друзей и прислуги, она завещала два миллиона золотом, лежащие на ее имя в Санкт-Петербургском Частном Коммерческом банке, «своей дорогой подруге Евстолии Владимировне Сухановой в безраздельное и безоговорочное владение», а вся недвижимость в виде собственного петербургского особняка, доходного дома и загородного имения отходила к «дорогому другу, доктору Герману Алексеевичу Богданову»... Двое поверенных ожидали с бумагами в кабинете, и растерянный Суханов уже бурно подписывал с ними свое «совершенное согласие» на принятие завещания его законной супругой, а следующим предстояло подписаться доктору Богданову.
- Я не знала, что вы… дружили, – ровным голосом сказала Евстолия, глядя в стену.
- Я не дружил, – тихо ответил он. – Я виделся с ней, чтобы узнавать о вас. Я подлец.
В эту минуту его пригласили.
«Даже крови моей оказалось мало. / Чтобы с ней тебя из души исторгнуть…/ Как молила я, чтоб с потоком алым / Утекла и скорбь моя, и восторги…/ Но не внял Всевышний. И вот, глотая / Кровь и слезы, своим захлебнувшись криком. / Я лежу – бесправная и немая – / Перед милым Нерукотворным ликом… / Знаю – временно. Скоро «пройдет и это», / а быть может – всё. Ведь недаром – моры, / Трусы, глад по местам, кометы, /Без молитвы в море преходят горы…/ Но пред тем, как треснет кора земная, / Перед вечной встречей или разлукой, /На пороге тьмы или двери Рая – / Мне б успеть за твою подержаться руку…»
Это стихотворение Надин было неразборчиво нацарапано на последней странице толстой тетрадки, наверное, сочиненное уже во время болезни, потому что почерк резко отличался: строки расползались кривыми гусеницами, несколько клякс стекло вниз по бумаге – значит, покойная и правда писала, лежа – а упомянутая икона Спаса, по всей видимости так и висит в ее спальне… И адресатом этого стихотворения мог быть только он, Герман Богданов, получивший – и не прочитавший письмо с ее последним призывом просто подержать ее за руку. Под множественными кометами понимается, конечно, один полгода назад упавший на Тунгуске метеороид, а что касается потока крови… Так при тяжелых формах дизентерии один из главных симптомов – кровавый понос, господа…
- «Ключи счастья» Верби-ицкой! Новый роман! – раздался неподалеку голос первого разносчика второй волны. – «Половой вопрос» Фо-ореля!
Уронив голову на стол, Герман рыдал в голос.
4. Девы
- Ну что – спят наши большевичата… Я проверила, – присев на ступеньки спального корпуса, руководитель кружка искусств худенькая блондинка Лиля обхватила колени.
- Между прочим, и нам бы не мешало хоть немножко поспать, – рассудительно заметила коренастая, с волевым подбородком и серьезными глазами вожатая Зина. – Побудка в шесть, потом сразу тихо умываемся – и в семь должны выйти. Завтрак сухим пайком я уже получила, в комнате у нас на столе свален. На марше съедим, во время первого привала. Так и детям веселей будет, и выход не затянется до бесконечности.
- Да уж, хотелось бы успеть выйти до общего подъема, пока Зырянов не проснулся, иначе до полудня задержит: то одно ему не понравится, то другое, то тапочки не так зашнурованы, то на галстуках у детей зажимы криво посажены, а потом начнет провиант проверять по списку, рюкзаки детям вытряхивать… Троцкист недорезанный, – поддержала красивая статная Люся, практикантка из педагогического.
- Недострелянный, – поправила Зина. – Я сама слышала, как он говорил своей… ну, в общем, начальнице столовой… что Косарев – это перегиб… Так прямо и сказал, и еще воровато оглянулся. А я все равно слышала, я как раз Веньку Золотарева искала, думала, опять в столовую еду клянчить пошел… Да кто он такой, чтобы решать за Сталина – кого держать секретарях… как он смеет…
- Девочки, нам и правда ложиться пора! – прервала Лиля. – Все-таки в поход завтра! Каково нам будет топать по жаре с рюкзачищами, если опять до утра просидим с разговорами!
- Уж и не знаю – чего в тебе больше – соглашательства или примиренчества… – пробормотала, неохотно поднимаясь, Зина. – Я вот почти уверена, что речь идет о враге, а ты опять уводишь разговор в сторону. Я уже не первый раз за тобой замечаю.
- Просто она не любит конфликтов… – тихо вставила Люся. – И я тоже. А перед многодневным походом, которой и сам по себе – испытание, раздувать внутренние противоречия просто глупо. Это для детей, может, развлекательная прогулка с игрой и рыбалкой, а для нас, между прочим, ответственное дело. Нас трое, детей двенадцать человек. По четыре на каждую, а за ними глаз да глаз…
- Точно! Давайте их сейчас меж собой поделим, чтобы каждая отвечала за своих четверых! – предложила Лиля.
- Чур, Золотарев не мой! – быстро открестилась Люся. – Его не прокормишь…
Девушки, кроме вечно невеселой и насупленной Зины, рассмеялись.
- Хорошо, я его беру, – сразу согласилась та. – У меня не забалует. Да и врете вы все, с ним управляться легко: скажешь, добавки не получит, – и он сразу шелковый.
Пропустив подруг вперед, в легкую тьму спального корпуса, Люся задержалась на крыльце и глянула на небо: ни тучки; почти белая, как в Ленинграде, ночь словно чуть-чуть подкрасила водянистыми фиолетовыми чернилами светлое небо; наступающее воскресенье обещало стать таким же изнурительно жарким, как и миновавший день. Это хорошо для остающихся в лагере – они снова будут безвылазно сидеть в прохладном, прослоенным, как торт, теплыми и холодными течениями бирюзовом, в золотой песчаной оправе, озере среди сосен, расположенном прямо на территории лагеря. А каково окажется им – топающим в кожаных ботинках и спортивных шароварах по пересеченной местности, с рюкзаками, набитыми пищевыми концентратами и консервами, свитерами, запасной одеждой, лекарствами, спальными мешками – да еще с палатками, которые нести уговорились по очереди! И при этом ответственными за жизнь и здоровье юных – а на самом деле таких маленьких! – пионеров, которым море по колено и которые как-то не считают вожатых полностью взрослыми, хотя даже ей, Люсе, самой младшей их трех девушек, уже исполнилось двадцать два, и через какой-то год она получит диплом учителя… Она огляделась: прямо напротив, на стене столовой, красивый красный командир на плакате – в парадном обмундировании и отличных хромовых сапогах – с отеческой любовью взирал на хрупкую, преданно заглядывавшую ему в лицо пионерку в гольфах. «В ногу с Красной Армией!» – призывал плакат, но пионерка явно не успевала за широким шагом командира. «Весело отдыхать, чтобы дружно работать!» – предлагал другой лозунг, только сегодня написанный белыми буквами на кумаче в ведомом Лилей кружке по вчера изготовленному трафарету… Собственно, и в поход бедолага Лиля напросилась лишь из-за желания спокойно, не шарахаясь от деятельного начальника лагеря Зырянова, писать этюды во время стоянок, и лично Люся уговорила суровую Зину не отказывать явно никчемной, а то и вовсе обременительной в походе незадачливой «художнице», способной только учить девчонок плести кружевные салфеточки и рисовать в альбомах незатейливую местную флору... Но, поскольку почти весь кружок в полном составе отбывал в поход – обучаться «ориентированию на местности», то целую неделю кружководу в лагере было, в общем, нечем заняться, и начальник, не терпевший никакой праздности, принялся бы использовать ее на тяжелых работах – даже дергать на жаре в колхозном поле сорняки вместе со старшими пионерами, пожалуй, погнал бы! Она горячо настаивала, чтобы дети взяли с собой альбомы и краски, бедная… Интересно, сколько «большевичат» ее послушаются… Идти предстояло вдоль русла спокойной и мелкой Кухвы в сторону Латвии, сплошными лесами дремучего Островского района, останавливаясь в живописных местах на ночевки по всем пионерским правилам: с ловлей рыбы (если таковая обнаружится) и варкой ухи, сбором первой земляники и обязательными заданиями для пионеров: вести походный дневник, отмечать на карте препятствия на местности, собирать и описывать растения для гербария, обучаться разводить и поддерживать костер, ставить палатку… Кто бы знал, как она все это ненавидела! Но уже который год, как студентка Ленинградского Педагогического института, вынуждена была на летней практике кормить комаров в лагерях и притворяться, что пионерская походная романтика очень ее вдохновляет… Люся уже предвидела, как удобные и растоптанные ботинки все равно натрут ей ноги в потных носках, как плечи будут ныть и гудеть под лямками неподъемного рюкзака, как проклятые кровососы искусают ее нежное лицо и руки, и она будет рвать кожу ногтями, будто в приступе чесотки, – но при этом держаться бодро, призывать павших духом «не разнюниваться», а на тропинках еще и громогласно возглашать: «А ну, запе-еее…вай! – и, не давая передышки: – Взвейтесь кострами, синие ночи!..».
Люся родилась младшим ребенком в хорошей, дружной, трудовой семье Николаевых, и разница в возрасте со старшим братом у нее была почти ровно двадцать лет. То есть, как шутили дома, Борис родился в девятнадцатом веке, а Людмила – в девятнадцатом году. У их родителей, Василия Николаевича и Прасковьи Михайловны, дети рождались строго раз в два года, и всего десятеро их увидело свет. Правда, двое с этим светом очень быстро распрощались: Алёшеньке еще в самом начале века не повезло подхватить скарлатину в годовалом возрасте, а Дашенька не продышала и недели, родившись прямо в те исторические минуты, когда рабочие и матросы грозно грохотали ботинками по драгоценному паркету павшего Зимнего, направляясь арестовывать Временное правительство и по дороге невзначай вспарывая штыком то шелковую обивку вражеского дивана, то пыльный екатерининский гобелен. Как потом рассказывала Люсенькина няня, девочка сразу была «не жилец»: страшненькая – «ну, чисто жабонька» – и с огромным, будто водой налитым животиком… Все выжившие дети пользовались равной любовью родителей, ласки и суровости получали тоже поровну, меж собой были более или менее дружны: да и захоти они поссориться – сделать это под строгим доглядом матери, чуткой к малейшим душевным нестроениям своих чад, им было бы затруднительно. А вот Алешенька и Дашенька исчезли как-то полностью, без следа, не оставив после себя даже бледных карточек. О них никто никогда не вспоминал, не горевал, не жалел – будто они и не рождались, не лежали на отцовских руках, не кормила их мама своим жирным сладким молоком, не умилялись ими старшие здоровые детки… Младшенькой Люсе, не видевшей умерших брата и сестру живыми, тем более, как будто, не полагалось испытывать к ним никаких чувств – но, похоже было, что только в ее сердце и остались жить эти двое несправедливо вычеркнутых младенцев. Например, она думала, что с Дашенькой, как наиболее близкой по возрасту девочкой, она могла бы прекрасно дружить и секретничать – а о чем говорить, например, с Наташей, что была на четыре года старше – то есть, всегда недосягаемо «большая»… Правда, мама любила свою младшенькую больше всех – это Люся знала точно: всегда чувствовала к себе неуловимо более нежное и снисходительное отношение, и порой ей полностью сходили с рук такие шалости, за которые любой из старших неминуемо понес бы суровое наказание. Например, однажды десятилетнюю Люсю поймали за примеркой туфель на каблуках, один из которых уже треснул ее стараниями, – а сами туфли выкрадены были из шифоньера сестры, – но мама только сказала, что примерные девочки так не поступают. А ведь почти взрослую Агашу она прямо за столом со всей силы, но без всякой злобы, а просто в назидание, ударила по лбу столовой ложкой только за то, что девочка по рассеянности капнула крепким чаем на свой белый крахмальный воротничок... Мама даже целовала Люсеньку иногда, прощаясь на ночь, хотя подобных телячьих нежностей с другими детьми не допускала, стремясь воспитать в них здоровый аскетизм и сдержанность в проявлении чувств… Прасковья Михайловна родилась в бедной крестьянской семье, где ртов оказалось больше, чем деревянных ложек, и еще в отрочестве отвезена была родителями в Петербург и отдана в прислуги – кухонной девчонкой. Но с присущим ей размеренным упорством, серьезной терпеливостью и спокойным нравом она довольно быстро поднялась сначала до кухарки со своим горячим, а потом и до в рюмочку затянутой горничной, одетой по-дамски… В гостях у кумы она познакомилась в конце века с Василием – квалифицированным рабочим Путиловского и, дождавшись, пока он получит вполне заслуженную должность мастера цеха, молодые люди обвенчались, сняли небольшую квартирку – и теперь уж у Прасковьи была собственная прислуга, а потом добавилась и няня, приставленная к детям, которым наравне с мужем (а он уж дослужился до помощника инженера) мудрая мать и посвятила все свои немалые силы…
Великий Октябрь они встретили с настороженным ожиданием неведомых благ – и он их, потомственных крестьян, не обидел – более того, в двадцатом году от Путиловского большой семье выделили огромную барскую квартиру со всеми удобствами, мебелью, утварью и даже одеждой в шкафах: убегая от карающей руки пролетариата, бывшие владельцы унесли только деньги и драгоценности, да еще вырезали прямо из золоченых рам все подчистую картины – вероятно, дорогие, за границей их вполне обеспечившие. «Похитили народное достояние!» – сокрушался Василий Николаевич… Когда лет пять спустя пошли слухи об уплотнениях, Прасковья, со всегдашней дальновидностью, загодя разделила лицевые счета в квартире, выделив по комнате четырем старшим дочерям, одну на двоих – младшим, и себе с мужем – отдельную спаленку, к которой примыкал кабинет без окон (два взрослых сына к тому времени жили отдельно с собственными семьями). Таким образом, вся квартира осталась в распоряжении одной работящей советской семьи, и ни с какими ужасами коммунального быта, страшные рассказы о котором девочки регулярно приносили из школы и с рабфака, честные трудящиеся не сталкивались.
Семья прекрасно устроилась в новом доме, пользуясь нажитым предыдущими владельцами имуществом, как своим, ничуть этим обстоятельством не смущаясь и не вдаваясь ни в какие тонкости душевных драм, заслуженно постигших «улепетнувших» буржуев. Прасковья Михайловна незаметно стала держать себя почти барыней – во всяком случае, гордая осанка и всегда расправленные плечи успешно затмевали удивительное безобразие ее раздувшейся и пошедшей неровными буграми после десяти родов фигуры, а поступки она научилась совершать подлинно благородные, которыми дочери тайно гордились. Например, в тридцать третьем году именно в Люсином классе произошла отвратительная история, когда хорошенькую девочку-недобитка «из бывших» несколько отпетых хулиганов затащили после уроков в мужской туалет и изнасиловали. Преступники имели самое почетное происхождение: отцы у всех трудились разнорабочими на предприятиях и пили, как скоты (во всяком случае, ни один из них так и не понял, в чем именно заключалась вина его сына: ну, отодрал какую-то хилую барыньку, пусть спасибо скажет, кому такая вообще нужна…). Их легонько пожурили и традиционно отпустили «на поруки» – а вся вина предсказуемо пала на пострадавшую, обвиненную возмущенной общественностью в безнравственном поведении: никто не собирался заступаться за «чуждый элемент», заведомо обреченный на пожизненное «непринятие» в комсомол. В довершение всего, девушка Надя вскоре оказалась беременной и, скрывая свое положение до последнего, немилосердно утягивала живот тугим бабушкиным корсетом – чем невольно и задушила ребенка, разрешившись летом мертворожденной девочкой. От несчастной отвернулась, кажется, даже собственная чопорная семья, одноклассницы шарахались от нее, как от зачумленной, – событие пришлось как раз годы становления новой, «советской» нравственности; парни тыкали пальцами и гоготали – их вина была полностью позабыта, а преступница законно назначена вышестоящими инстанциями… Несчастная была на грани самоубийства, когда Прасковья Михайловна, узнав от младших дочерей о трагедии, категорически приказала Люсе завтра же пригласить Надю к ним в дом после уроков и, собрав всех, коротко велела: «Ни одного слова при ней шепотом. Ни одного косого взгляда. Только дружба и полное уважение. Предложите с уроками помочь, бедняжка ведь, наверняка, теперь по каким-нибудь предметам отстала. Но только чтобы она не чувствовала никакой вашей жалости! Никакой снисходительности! Просто доброе товарищеское отношение – и ничего другого. И в школе чтоб так же было. Ты, Люся, завтра сядешь с ней за парту. Тебя товарищи уважают, твоему примеру последуют. Вы все поняли? А если нет – будете иметь дело со мной».
На следующий день так и поступили – привели в дом безмолвную и дрожащую, как выброшенная на улицу кошка, юную девушку, усадили за чай с пирогами, помогли с немецким, потом вместе учили стихотворение Лермонтова… Уходя, она уже улыбалась. Так продолжалось каждый вечер, и постепенно болящая совершенно исцелилась от страшной душевной раны – там и семилетка закончилась, а потом спасенная Надя была как дворянка выслана в Самарканд вместе с семьей, следы ее затерялись, но несомненной осталась заслуга Прасковьи Михайловны в том, что девушка вообще осталась жива, не зачахла и не наложила на себя руки…
А вообще все дочери у Николаевых вышли красавицами, как на подбор: невысокие, но фигуристые, с волнистыми пепельно-русыми волосами, открытыми белокожими и румяными лицами, с голубоватыми белкáми больших, будто удивленных серых глаз, что подчеркивало их яркость и выразительность. Никто из детей не пошел по кривой дорожке: даже старшая Анна, самая красивая и по-хорошему породистая, как крупная белая кобыла, выведенная на конном заводе, недолго мечтала о сомнительной карьере артистки. Однажды ее, правда, пригласили сниматься в фильме и даже успели нарядить в костюм древнерусской княгини, когда прямо на съемочную площадку лично явился ее суровый отец, Василий Николаевич. Вывернув блудной дочери руку, он насильно увел Анну домой, на ходу срывая с нее дурацкую парчовую шубу с волочащимися рукавами, под которой, к счастью, оказалось нормальное современное платье. «Если ты еще хотя бы раз попробуешь сунуться в эту яму, то можешь не считать себя больше нашей дочерью, – сухо сказал он дома. – В нашем роду лицедеек и барышень легкого поведения – что одно и то же – не было и не будет. А коли считаешь иначе, то вот тебе Бог, а вот – порог. И чтоб больше я ничего подобного не слышал и не видел». Анна проплакала с месяц, но потом прекрасно выучилась на счетовода и стала сама зарабатывать себе на хлеб, что родители исключительно одобрили. А были они людьми с большими принципами!
Уже выпускницей средней школы Люся узнала, чего еще они в своей семье не допустят ни при каких условиях. Две дочери уже были замужем, причем обоих мужей-ИТРов, не имевших отдельных комнат, привели в родительский дом на жительство, – и те были приняты в семью как сыновья, очень радушно. Особенно красив был Иван, муж третьей сестры Софьи, – его самого бы снимать в героических ролях: народ бы валом валил в кинематограф смотреть на его светлый кудрявый чуб, орлиный взгляд, широкие плечи и твердый подбородок с четкой ямочкой. Женщины оборачивались вслед Ивану на улице, принимая за киноактера, на работе тоже проходу не давали. И слаб оказался мужик – никому не отказывал, всех приласкал по мере возможности, да еще умел делать это как-то особенно ловко – так что каждая счастливица со всей уверенностью считала себя его единственной избранницей на всю жизнь. Но Иван от Софьи уходить не собирался и после смерти их первого мальчика, умершего от пневмонии в три месяца, немедленно постарался, жестоко скрутив ее спящую, слепить жене еще одного ребенка, якобы, для утешения, а на самом деле, чтоб не оказаться выставленным за дверь… Софья отказывалась жить с мужем-предателем, ломая руки, рыдая на весь дом и грозясь сделать себе аборт вязальным крючком, – пока строгому отцу вся эта комедия не надоела и он не затребовал дочь к себе в комнату, предварительно услав жену на кухню. Жену-то он услал, а Люся открыла свое окно и прислушалась.
- София, – несся из соседнего, тоже настежь распахнутого окна, зычный баритон Василия Николаевича. – В нашем роду такого позора, как развод, не было никогда – и я этого не допущу, ты знаешь. Тебе не из-за чего убиваться. Муж твой относится к тебе прекрасно, он любил вашего мальчика, будет прекрасным отцом и второму ребенку. Тебя он обеспечивает всем необходимым – даже сверх меры, я бы сказал. Больше замужней женщине желать нечего, а ожидать от молодого мужа верности – неразумно. Увлечения случаются у каждого мужчины – хорошая жена и мать обязана закрывать на них глаза, быть с мужем ласковой, услужливой и всегда ему верной, тогда он ее никогда не покинет.
- Это унизительно! – рыдала сестра. – Теперь не то время, когда жена была человеком второго сорта, вещью! Теперь женщина имеет те же права! Я, может, тоже хочу полюбить другого – хорошего и честного человека, который не будет таскаться по… по…
- Я все сказал, София, – по резкому звуку отодвигаемого буржуйского кресла, Люся поняла, что папа резко встал. – Разведенной жене нет места в нашем доме. Мужчина может любить много раз и по-разному, женщине и матери этого не дано. Или она называется иначе…
- Ты говоришь, как буржуй! – истерически выкрикнула Соня. – Живешь в буржуйском доме, до сих пор носишь буржуйские обноски, и сам незаметно стал буржуем с буржуйской моралью!
- Вон из комнаты!!! – оглушительно рявкнул Василий Николаевич. – И не попадайся мне на глаза!!!
Соня не разошлась со своим красавцем-Иваном, но и ребенок у них не родился – что произошло, знала, вероятно, только мама, но она, конечно, молчала…
То, что дом, в котором они жили, – насквозь чужой и как бы не по праву присвоенный, чувствовала только Люся, не решаясь, конечно, ни с кем об этом заговаривать. Ее родители, простодушные представители победившего класса, уверенно взяли то, что было добыто богатеями неправедно, чужим горбом, – и теперь справедливо отошло по принадлежности, только и всего… Она бы никогда не взялась спорить с очевидным, но… После замужества и отъезда в Москву предпоследней сестры Наташи, которая раньше делила с ней комнату, Люся взялась разбирать старый господский сундук, на котором Наташа привольно спала пятнадцать лет, нимало не интересуясь его содержимым… «Рухлядь там какая-то. Все руки не дойдут разобрать», – отмахивалась она от младшей сестренки. И действительно, ее кипучая комсомольская жизнь на рабфаке не оставляла свободных минут на праздные занятия. А любопытная студентка первого курса Педагогического института имени Покровского эти несколько часов без труда нашла – и убедилась, что среди действительно смешных и ненужных вещей вроде клюшек для гольфа, мужских целлулоидных воротничков и старушечьих гребней из черепахи, в расписном сундуке хранятся шелковые девичьи перчатки, предназначенные для столь тонких рук, что Люся смогла просунуть туда только кончики пальцев… Там лежал деревянный школьный пенал с сиротливой переводной картинкой в виде поникшей чайной розы, полный красивых костяных вставочек, испачканных очень давними чернилами, которыми когда-то старательно писала домашние задания за будущим Люсиным письменным столом юная гимназистка, жестоко принужденная бежать из родного дома в чем была, – и где она теперь?! На дне сундука хранился, любовно завернутый в пергамент, крошечный, голубенький, тонкой вышивкой и пожелтевшими кружевами отделанный чепчик для новорожденного – и откуда-то стало ясно, что ребенок так и не вырос из этого трогательного головного убора – иначе зачем бы его сохраняли так бережно? Выходит, и у буржуев жизнь не всегда была так сладка, как кажется? Дрожащими руками перебирала Люся брошенные сокровища истинных хозяев своего дома и ныла, смутно стонала душа от этих беззаконных прикосновений к чужому, такому простому – и таинственному бытию незнакомых и непонятных людей, которых ее учили ненавидеть на всех уроках, собраниях, лекциях и торжественных линейках… Но как было ненавидеть, например, беззащитную барышню, чья узкая ладонь запросто помещалась в эту еще хранившую слабый запах ландыша перчатку?.. Или горько плакавшего в кружевном чепчике рано умершего мальчика, матерью которого, возможно, успела стать та же бывшая гимназистка, обливавшая слезами маленькую тряпочку, что еще недавно покрывала бархатную головку младенца?
Люся вздохнула и шагнула через порог спального корпуса, заглянула в пионерские «палаты». Она, конечно, заметила, что при звуке открывающейся двери кто-то мгновенно с размаху рухнул в постель, притворяясь спящим, но разбираться было невмоготу: на сон оставалось не более пяти часов, ведь она и сама не заметила, как минут сорок простояла в шелково-прохладной светлой ночи на крыльце, охваченная неожиданными воспоминаниями. Предстоял трудный день, а до подъема детей нужно было еще разобрать сухой паек, который Зина беззаботно свалила в кучу на столе посреди комнаты вожатых, где они спали втроем. Пробираясь на цыпочках к своей постели, Люся мельком взглянула на товарку: разметав по подушке короткие темные волосы и слегка улыбаясь, что было ей абсолютно не присуще, та спала здоровым и глубоким сном, свойственным людям без странных мыслей и с чистой совестью. «Эта не знает и доли тех сомнений, что я… Счастливая…» – бесшумно крадясь мимо, подумала Люся.
И Зина действительно их не знала. Вернее, раз и навсегда отмела. С того дня, когда в начале тридцать пятого года, вскоре после убийства любимца партии Кирова, в единственную комнату, после уплотнения оставленную их семье из когда-то полностью принадлежавшей родителям квартиры, вечером постучалась разбитная, вся в папильотках, соседка Этля, жена директора комиссионного магазина Ефима Яковлевича Ривкина, получившего недавно на семью из трех человек гостиную и примыкающий мамин будуар.
- Я тут за вас днем расписалась… – глядя мимо прозрачными, почти без цвета, будто стеклянными глазами прощебетала она, суя Зининому папе какую-то бумажку. – Вы, если продавать что-то надумаете, так прежде нам предложите. Ефим Яковлевич с удовольствием купит – и процент государству отчислять не придется.
Отец – густая пышная шевелюра, седая бородка клинышком, круглые очки, что вместе с еще не снятым полувоенным френчем делало его несколько похожим на опального Троцкого, – непонимающе уставился на соседку:
- Позвольте… почему продавать? Что?..
Его прервал истошный крик матери, уже завладевшей бумажонкой:
- Сергей!! Это предписание! Нас высылают на сто первый! Что же это?!! Ведь ты же говорил!!
Отец побелел так, что бородка, казалось, отделилась от его лица и повисла в воздухе.
- Этого… Этого не может быть… – не извинившись, он закрыл дверь, едва не стукнув соседку по носу. – Успокойся, Елена… Это какая-то ошибка… Мне положительно обещали, что никакая репрессия нас не коснется… Ты не так поняла. Дай сюда!
Зинины родители приветствовали обе революции всей душой. Они обвенчались, еще будучи студентом и курсисткой, но дочку родили только спустя десять лет – и все эти годы положили на сияющий алтарь дела освобождения трудового народа. Выйдя из семей мелких разночинцев, оба были обречены на тяжелый труд еще в гимназии, чтобы, окончив курс с медалями, получить в дальнейшем право на казенный кошт. Оба специализировались в юриспруденции, плавно перейдя на хлесткую публицистику, и сумели почти сразу, без вредных метаний, выбрать себе правильную партию… Зиночка родилась в Москве, в доме маминой партийной подруги, в исторические дни Третьего Коммунистического Интернационала. Ей повезло, что родилась она не мальчиком, потому что в таком случае рисковала быть записанной в метрике Коминтерном Сергеевичем, что пообещал жестоко страдавшей в родах жене ее супруг, вбежавший морозным мартовским утром в квартиру, размахивая свежей газетой и с совершенно счастливым розовым лицом. Не обращая внимания на стоны роженицы, Сергей принялся возбужденно зачитывать ей отрывки из манифеста Троцкого о необходимости установления диктатуры пролетариата во имя создания Всемирной Советской республики, обижаясь, что не получает на этот раз должного отклика от жены, которая до того момента неизменно была его верной соратницей. Но к вечеру, во время торжественного собрания в Большом театре, на которое едва прорвался с корреспондентским пропуском будущий отец, так и не дождавшийся, пока разродится жена, примерно в те минуты, когда голос Ленина, несколько раз безуспешно пытавшегося начать речь, тонул в несмолкающих аплодисментах, в маленьком домике на Пресне родилась девочка, которую от неожиданности окрестили Зинаидой, еще не догадавшись, что теперь ребенка можно не крестить вовсе. В Петроград вернулись через месяц, потому что ждала там какая-никакая квартира, да и должность отцу семейства предложили солидную…
Троцким Зинин папа долго восхищался на законных основаниях, при каждом удобном случае вспоминая, как в августе восемнадцатого имел честь и счастье помочь ему с одной удивительной миссией: в бытность свою военным корреспондентом, с другими литераторами и публицистами, в числе которых были особо уважаемые им Демьян Бедный и Всеволод Вишневский, он сопровождал на «военно-передвижном фронтовом литературном поезде» председателя Реввоенсовета, желавшего лично доставить в Свияжск некий важный груз, упакованный до поры до времени в высокий деревянный ящик. Все уже догадались, что там находится готовый к установке памятник, и гадали – чей именно. Думали, может, Дмитрия Каракозова? Но почему в Свияжске? Наконец, когда дело дошло до открытия, из ящика была извлечена красно-коричневая гипсовая фигура странного человека с веревкой на шее, которую он яростно сдирал с себя одной рукой, с ненавистью глядя в небо, другая же, сжатая в жилистый кулак, была угрожающе поднята. «Народоволец, никак, во время казни?» – шепнул Сергею озадаченный Бедный. «Первый в истории революционер», – отчеканил как раз проходивший мимо Лев Давидович. Оказалось, то был Иуда Искариот, – и, когда церемония открытия закончилась, два полка Красной Армии и вся команда бронепоезда прошла перед ним торжественным маршем, держа равнение на воздетый кулак…
В начале тридцатых Сергей Иванович работал в ленинградском отделении газеты «Правда», любовь к Троцкому давно афишировать перестал, и партийные чистки его не коснулись – наоборот, он сам активно вычищал просочившихся «бывших» и «вредных», первым поднимал руку на всех голосованиях за массовые смертные казни вредителей, и даже дома не произносил ничего, что нельзя было завтра напечатать в родной газете… Он был не дворянином, а «старым большевиком», добросовестно и чуть ли не добровольно потеснился в собственной квартире, а дружелюбный тезка Киров будто вчера еще сердечно жал ему руку в коридоре редакции…
- Это ошибка… – помертвевшими губами повторил он несколько раз… – Я партиец. Партийцев не высылают… Я немедленно иду в райком…
Но в райкоме выяснилось, что он уже сутки, как не партиец, билет вырвали из его дрожащих рук и конфиденциально посоветовали особенно глаза не мозолить, не то дело одной ссылкой не ограничится. Выплакавшая все глаза жена паковала вещи – а Зины дома не было.
Она тоже ушла в райком – ВЛКСМ.
«Мой папа – заслуженный старый большевик! – плакала перед зампредседателя еще даже не шестнадцатилетняя девчушка. – Сделайте что-нибудь!»
Молодой человек понимающе кивнул, пододвигая Зине через стол лист бумаги:
- Бери ручку, макай в чернила и пиши: «Я, Зинаида Сергеевна Тихомирова, член ВЛКСМ с… С какого ты года у нас?.. Одна тысяча девятьсот тридцать третьего… Прошу с сего дня не считать моими родителями… напиши их имена-отчества… Ага… И заявляю, что не хочу иметь с ними ничего общего как с контрреволюционерами, троцкистами, врагами советского народа и товарища Сталина… и обещаю, что впредь… – перед мягким знаком буква «д», а не «т» – что у тебя по русскому языку? – впредь никогда не буду поддерживать с ними никаких отношений… Обязуюсь быть преданной Ленинскому комсомолу и Всероссийской Коммунистической партии…». Отлично, теперь распишись и поставь число… Аккуратно, не смажь, возьми пресс-папье… Ну, вот и все… Спокойно иди домой, можешь никуда не ехать, – и он подмигнул; этот веселый парень, определенно, имел право сказать то, что сказал.
В первую секунду у Зины словно гора с плеч свалилась. Когда она выходила из кабинета, рука зампредседателя тянулась к телефонной трубке. Девушка вздернула подбородок, автоматически поправила на груди свою гордость – новенький значок «Готов к санитарной обороне СССР», вечно цеплявшийся цепочкой за другой ценный знак – Ворошиловского стрелка 2-й ступени: оба, вполне заслуженные, были надеты для солидности, и утром Зина жалела, что не успела получить третий из необходимых: серебряный значок БГТО, нормы на который были успешно сданы, – а вот выдать его обещали в начале марта, как раз к шестнадцатилетию… Она не заслуживала никакой ссылки! А папа и мама – это их дело! Дочь давно не единое целое с ними – так почему она должна расплачиваться за их прошлые или настоящие ошибки? А они обязательно были, эти ошибки – зря никого ссылать не станут! Вот, например, папа еще недавно восхищался Троцким – а ведь тот не то что из Москвы или Ленинграда, вообще за границу был выслан! Какой сто первый километр?! Впрочем, она знала, какой: это был еще Пушкиным заклейменный город Луга, где селились все, кого выслали на сто первый, и с конца двадцатых он, кажется, должен был уже лопнуть от переизбытка населения… Родители в Луге не найдут ни жилья, ни работы, им придется селиться в деревне, а жить будет не на что вовсе… Но ничего страшного! Их комната больше похожа на склад оставшейся от старого времени мебели и всяких там ламп, безделушек и подсвечников – до окончания школы, пока она не начнет зарабатывать, продажей всего этого можно жить, и вполне хватит, чтобы посылать маме с папой переводы… Она и ездить к ним станет раз в месяц – жалко ведь, особенно маму…
Посылать? Ездить? Зина остановилась на лестничной площадке прямо у гипсового бюста Сталина. Но ведь только что она письменно обещала навсегда разорвать с родителями всякие отношения! Написала, правда, под диктовку, но – сама! Никто не заставлял, просто предложили, а она послушалась старшего товарища, как привыкла, как всегда учили ее те же родители… Положим, она нарушит обещание, тайком поедет к ссыльным с деньгами и продуктами – а вдруг – там – узнают?! Неосознанно девочка подняла голову к потолку: «Господи! Что я наделала?! И что мне делать теперь?!!». Во всяком случае, подписку не возвращаться домой с нее не брали, а ведь родители еще дома! Что сказать им сейчас?! И, главное, как… Зина бросилась вниз по мраморной лестнице, задыхаясь, вылетела на улицу в распахнутом пальто, без шапки, ноги в скользких валенках без калош быстро промокли в полужидком февральском грязно-снежном месиве… Холодный воздух ударил в горло, остудил голову. Достав из кармана, Зина натянула лыжную шапочку.
Она ходила до вечера по городу, как оживший мертвец, – и потом никогда не могла вспомнить, где была и что делала… Вроде бы, купила и съела на ходу французскую булку, после, кажется, сидела в каком-то парке – полностью окоченевшая, почти без мыслей, которые вытеснило стремительно растущее отчаянье. И на пике его пришло спасительное решение. Оно еще не оформилось в голове, но сердце уже знало: сейчас она тоже соберет чемодан и рюкзак, а вечером вместе с семьей поедет на вокзал, ведь в предписании прописано и ее имя; а там – будь, что будет! – и на душе стало легко.
Дверь в их комнату оказалась распахнута настежь, и из проема вдруг змеей выскользнула худая кудрявая Этля, прижимая к груди любимую мамину статуэтку, очень старинную, изображавшую «Фауну» из Летнего сада. Зина столкнулась непонимающим взглядом с прозрачными глазами соседки, сразу испуганно заметавшимися…
- Я думала – тебя тоже… Мы только поэтому… – пробормотала женщина. – М-мы вернем… Б-бери… – и она сунула белоснежную фигурку в руки опешившей девушки.
- Что вернем?! – грозно прозвучало за ее спиной, и из комнаты сразу же показался товарищ заведующий комиссионным магазином Ефим Яковлевич. – Мы ничего не брали. Только то, что нам разрешили. Когда сотрудники органов выходили, мы не присутствовали. Может быть, что-то уже конфисковали и вывезли, мы не знаем. В любом случае, взрослых на этой площади нет, а дети не имеют права… Пойдем Этля, нечего здесь.
- Какие органы… Какая площадь… Ничего не понимаю… – лепетала Зина, прижавшись спиной к ножной зингеровской швейной машине, давно уж выставленной кем-то в прихожую.
Когда она, наконец, на трясущихся ногах вошла в свою комнату, то увидела на полу горы тряпья и книг, черепки от цветочных горшков вперемешку с землей, растоптанной геранью и цветными осколками. У ободранных стен валялись три голых матраса. Больше ничего не было. Врагов народа, по заявлению их собственной дочери, арестовали несколько часов назад, а расторопные супруги Ривкины, позвав на помощь дворника, мгновенно нашли полуторку и, «спасая» обреченные на конфискацию вещи, перевезли их в свой комиссионный, а в качестве украшений для Этлиного будуара прихватили несколько хорошеньких вещиц…
Передачу для папы приняли только раз, а для мамы – три. Потом были два коротких и страшных свидания у решетки, при равнодушно торчавшем рядом красноармейце, во время которых она узнала в беззубой лохматой старухе и лысом опухшем старике с потухшим взглядом своих мать и отца только по общим очертаниям – и не могла даже заплакать перед ними. Их обоих приговорили к высшей мере социальной защиты как участников контрреволюционного заговора, имевшего целью возвращение Троцкого в Советскую Россию, – участников во всем сознавшихся и все подписавших.
А Зину не тронули, как и обещал веселый парень из райкома. Никто и не думал исключать девушку из комсомола, и даже желанный третий значок в обещанное время добавился к двум предыдущим, знаменовавшим ее несомненные достижения. На деньги, вырученные от продажи уцелевшей «Фауны», удалось продержаться до выпускного вечера – а потом она сразу же устроилась на работу в ту же школу, которую окончила, – кружководом по санитарной работе и военно-спортивным играм. Все внешне наладилось в жизни, вплоть до талонов на бесплатное трехразовое питание в школьной столовой, только вот улыбаться Зина разучилась, казалось, навсегда – так и прослыла идейной и строгой старшей вожатой юных пионеров, окончив в сороковом году официальные курсы подготовки. Пионерский галстук теперь как бы прирос к ней навечно, и она иногда с легкой грустью задавала себе вопрос: неужели я когда-нибудь стану седой бабушкой в пионерском галстуке?
Светлой июньской ночью она уснула первая, и снился ей замечательный сон: товарищ Зырянов все-таки проснулся раньше и проверяет у всех готовность и экипировку. Она же старшая вожатая – неужели и ей придется открывать перед ним свой рюкзак? Вот подходит очередь, она поднимает голову – но товарищ Зырянов улыбается ей. Одними глазами… Тогда Зина тоже улыбнулась впервые за много лет – во сне. Потому что начальник лагеря был Зининой первой тайной девичьей любовью, и в отчаянных попытках скрыть ее и борясь с черными приступами ревности, вожатая и обзывала его перед подругами «троцкистом недострелянным», почти забывая в те минуты о двух других троцкистах, коих успешно по ее милости дострелили… Улыбка долго не сходила с Зининого лица – ее-то и заметила полуночница Люся, которая, прокравшись мимо нее бесшумно, сразу же громко споткнулась о резиновые тапочки бестолковой Лили и, чтобы не упасть головой вперед, с размаху схватилась за дребезжащую спинку железной кровати.
А Лиля только притворялась, что спит: на самом деле, она недавно еще тихо плакала, отвернувшись к стенке, и перестала всхлипывать только, когда услышала Люсины шаги в комнате… Она, как маленькая, скучала по маме.
Во всех анкетах, где требовалось указать близких родственников и род их занятий до Великого Октября, Лиля красивым почерком указывала своего единственного родственника – маму Екатерину Федоровну, домашнюю прислугу. Насколько первое утверждение было честно, настолько же второе – лживо насквозь, что, впрочем, было вполне простительно, потому что сведенья о жизни любимой «мамули» до своего рождения девочка имела самые недостоверные и туманные: вроде бы, мама «служила» у князей Агреневых, вышла замуж перед самой Февральской революцией «за хорошего человека», который через полтора года неожиданно скончался, оставив ее беременной. Из разоренной и разметанной княжеской семьи кто-то погиб в империалистическую и гражданскую, кому-то удалось сбежать за границу, а оставшиеся в Петрограде пожилые князь с княгиней были после покушения на Ленина расстреляны в сентябре восемнадцатого. К тому моменту она единственная из разбежавшегося штата оказалась при них, потому что идти было некуда, – и так осталась в опустевшей квартире, меняя уцелевшие вещи на еду, а через полгода родила своего «Лилюнчика». Большую часть княжеской квартиры почти сразу отдали не злому и не доброму красному командиру, сыну дворника, коммунисту, въехавшему туда с семьей и никаких соседей иметь не желавшему. Тогда квартиру быстро перегородили кирпичной стеной на две части, размер которых ярко свидетельствовал о грядущей социальной справедливости, создаваемой в молодой Советской Республике: командир с женой и маленьким сыном взял себе двенадцать комнат (одну переоборудовали под кухню), роскошную ванную размером с небольшой зал и отделанную мрамором уборную со стороны парадного подъезда, а Кате досталась кухня, имевшая дверь прямо на черную лестницу, но с замечательной дровяной плитой, смежная с ней крошечная, двенадцатиметровая каморка с окном, выходившим не на улицу, а в ту же кухню, и миниатюрный туалет для прислуги. Вселение командира и раздел квартиры произошли так быстро, что занятая грудной дочкой молодая женщина мало что из ценностей успела перенести на свою территорию: что могли, споро реквизировали чекисты в момент ареста настоящих хозяев, после чего «горничную», как она дальновидно назвалась, мгновенно перейдя в класс эксплуатируемых, сразу же выгнали на кухню, а остальные комнаты опечатали. Поэтому в распоряжении Кати осталось только то, что она успела потихоньку присвоить раньше, – в основном, недорогие украшения и безделушки – а гору носильного и постельного белья и шелковых платьев, оставшихся от умерших и от сумевших бежать в Крым дочерей, старая княгиня давно уже подарила ей сама… После гибели хозяев развитая городская девушка сначала занялась ликбезом при Петроградском отделении Наркомпроса, а потом поступила воспитательницей в приют для сирот, позже превратившийся в благополучный детский сад, где всю жизнь и проработала на этой должности.
Так ситуацию видела Лиля – и все, кому полагалось ее вообще как-то рассматривать. Из всех людей на свете, знавших истинное положение дел, оставалась одна Екатерина Федоровна, но тайну свою оберегала свято – и особенно от дочери. Ну, прежде всего, никакой прислугой она не была – а до революции восемь лет успешно служила гувернанткой в княжеской семье, будучи дочерью старшей экономки в городской квартире Агреневых. Окончив восьмой педагогический класс в Павловском институте, она была «для пробы» взята домашней учительницей русского и французского к двум младшим девочкам, но справлялась со своей работой так хорошо, и так ее любили веселые ученицы, что вскоре Катю повысили до полноправной гувернантки на смену как раз ушедшей на покой старухе в лиловых шелках, воспитавшей в семье чуть ли не три поколения… Выйдя замуж, девушка автоматически лишилась бы этой должности и поступила на содержание к мужу, чего, по гордости и привычке к самостоятельному доходу, дающему некоторую независимость, допустить никак не желала – а может, потихоньку присматривала жениха выгодного, зорко выглядывая его среди гостей, но так и не сумев обратить на себя внимание достойных претендентов. Да и то сказать, кого из княжеских друзей могла заинтересовать скромная гувернантка с гладкой прической! Для этого мало было хорошенького личика, прекрасно понимала Катя; тут требовалась некая пикантная или хотя бы небанальная особенность – «изюминка», как говорили институтки, которой могло послужить что угодно: умение красиво исполнить романс во время княгининого журфикса, изданная книжица умных стихов, вовремя подсунутая заинтересованному человеку, просто оригинальная мысль, смело высказанная за обедом… С этим у Кати был полный провал: образование она имела самое обычное, среднее институтское, талантами не блистала, мысли не отличались от высказанных в дамских журналах и правительственной газете, а когда к ней вежливо обращались мужчины, иногда принимая за дальнюю княжескую родственницу, – Катя пунцовела, терялась и забывала французский… Тогда ее начинали считать приживалкой-бесприданницей, и приходилось давать понять, что она не столь презренное существо, а образованная гувернантка, что делало девушку хоть рангом, но выше…
И все-таки в крови ее дочери текла кровь Рюриковичей. Никому теперь не нужная и смертельно опасная, как болезнь, – но дававшая матери возможность исподтишка любоваться тонкими запястьями и лодыжками своей дочери, утонченной матовостью ее точеного лица, махровой густотой темных, но не черных ресниц, превращавших иззелена-синие глаза в два глубоких ярких озерца, подернутых легким северным туманцем…
В Пасху восемнадцатого года далеко не старая годами, но сломленная бесконечным горем и оттого похожая на графиню из «Пиковой дамы» княгиня, выплакавшая глаза по дружно – они все всегда делали вместе – умершим от тифа дочерям-двойняшкам, пухленьким, конопатым и смешным барышням, бывшим Катиным воспитанницам, получила неожиданный подарок, доведший ее почти до сердечного припадка. В Петроград тайно, под чужим именем пробрался с фронта после гибели Корнилова ее средний сын, молодой Володя Агренев. Застав дома только черных от горя родителей и верную Катю, которая теперь была уж не гувернанткой, за отсутствием объектов воспитания, а, скорее, подругой и компаньонкой его матери, он, сам дважды раненный, оборванный, не решился рассказать им о том, как на глазах у него при штурме Екатеринодара смертельно ранило младшего брата, маминого любимчика, который в нечеловеческих мучениях спустя несколько минут умер у него на руках. И уж тем более о том, как нашел его после госпиталя одноногий и одноглазый денщик старшего, передав пажеский перстень своего командира, который тот незадолго до расстрела ухитрился передать верному слуге и другу как память для семьи…
Катя сама промывала и перевязывала поручику Агреневу гноящуюся пулевую рану на боку, ужасаясь старой сабельной, кое-как зарубцевавшейся, грубо стянувшей нежную кожу князя несколькими сантиметрами ниже… Он был моложе ее лет на пять, а выглядел закаленным в боях мужчиной с обветренным лицом, скорбными складками у губ и погасшими глазами…
- Что ж это творится, Катя… – задумчиво произнес он, когда девушка помогла ему надеть после перевязки чистую шелковую рубашку, принесенную его матерью, которая наглядеться не могла на среднего сына и выражала бурную надежду на возвращение остальных. – Ведь еще два года назад казалось, что мы победили в этой проклятой войне… Какой-то поручик даже стихи напечатал… про девушку в жемчугах… И вот… Как же это, Катя, а? – и нервно закурил при матери, чего никогда не делал до войны, щадя ее наивные заблуждения насчет «непорочности» средненького.
А назавтра последнему ее живому сыну предстояло вновь тайно уходить из большевистского Петрограда на Дон к Деникину…
Глубокой ночью молодой князь постучался Кате в комнату – и, растревоженная, чувствуя висевшее весь вечер в воздухе напряжение недоговоренности, с недоумением хлопая кончиками пальцев по своим пылавшим Бог весть от чего щекам, девушка впустила его, чтобы выслушать долгую и горькую исповедь о распивавших с немцами шнапс русских мужичках в гимнастерках; о повисших на колючей проволоке девичьих телах в солдатской форме, когда захлебнулась под вражеским пулеметом отчаянная атака добровольческого женского батальона; о сером желе, пульсировавшем на лишенной верхней кости голове младшего брата Митеньки, про которое он не сразу догадался, что это самый умный в их выпуске Пажеского мозг; про зашитый глаз и багровую культю преданного Захара, денщика старшего – Георгия, чей перстень князь сразу отдал Кате, велев все рассказать со временем отцу и никогда и ничего – матери… Потом он просто встал, взял девушку за руку, молча притянул к себе и несколько раз глубоко и горько поцеловал, а потом увлек на случившуюся рядом оттоманку – так и не сказав ни единого слова, ни нежного, ни грубого. Она не сопротивлялась, полная смутных надежд на его грядущее возвращение, объяснение, соединение – на все то, что не свершилось у нее раньше ни с кем, а теперь вот могло произойти и происходило с князем из древнего рода, – не понимая, что он вливает в нее не животворящее семя, а мужскую звериную усталость, боль и униженность, которой нельзя поделиться ни с кем, кроме случайной, только для этого одного, а вовсе не для «мятежного наслажденья», нужной женщины.
- Извини, Катя, я пойду, – лишь несколько минут полежав в изнеможении, сказал Владимир, поднимаясь и тем сметая ее со своей груди.
Наутро молодого князя в доме уже не было, глаза княгини казались невидящими, а у старика-отца впервые затряслись руки... Их скорбной жизни оставалось месяцев на пять, а судьба Владимира осталась навеки неизвестной.
Так прошла и закончилась единственная ночь любви гувернантки Екатерины, добровольно разжаловавшей себя в прислуги, чтобы обеспечить чистую анкету своей дочке-красавице. Но, вопреки всему, Катя мечтала вырастить Лилю «барышней» – пусть и нового, советского образца, но хоть сколько-нибудь утонченной – именно так, как обожающая мать эту утонченность видела и понимала.
Дочь Елизавета, из «Лилюнчика» превратившаяся в Лилечку и так оставшаяся, росла благодарной, не умом – за материнское самоотвержение, а всей восприимчивой, восторженно впитывающей мир натурой. Она казалась единым целым со своей матерью, была словно лишена собственных вкусов, желаний – и уж тем более посторонних привязанностей, не разменявшись даже в юношестве на красивого «мальчика» и не сойдясь близко ни с одной девочкой-подружкой. Мама считала, что барышня должна музицировать и рисовать цветы и женские головки – и, при выяснившемся полном отсутствии сколько-нибудь музыкального слуха, Лиля упоенно и неумело рисовала. Когда на Выборгской стороне открылся первый районный пионерский кабинет с клубами по интересам, Екатерина Федоровна немедленно отвела туда девятилетнюю дочку в кружок ИЗО и с тех пор умилялась морозными вечерами в их теплой кухне, когда ребенок, высунув от напряжения язычок и склонив набок ангелоподобную головку, изображал в альбоме плоских кисок с розовыми лентами, тяжелые многоугольные розы с синими каплями воды и бесконечных красоток, стоявших в балетной первой позиции – но на острых шпильках и в задорных шляпках с вуалью. В школе Лиля упорно мастерила красочные и оригинальные стенгазеты, однажды в десятом классе со всей наивностью даже очень похоже нарисовав по клеткам Сталина, – к счастью, классная руководительница успела вовремя это заметить и пресечь… Ни о какой другой профессии, кроме той, которой посвятила себя мама, Лиля для себя и помыслить не могла, немедленно же после школы поступив в педагогическое училище, усиленно подавляя в душе робкие мечты о живописи как профессии. Расставания с мамой на несколько дней, периодически происходившие по разным случаям, вроде удаления аппендикса или наградной путевки в пионерский лагерь, вызывали у нее драматические переживания с отсутствием аппетита, черной пустотой в сердце и нервными вздрагиваниями – точь-в-точь, как это бывает у юных девушек от несчастной любви. В больнице рыдающую в послеоперационной палате девочку не смог успокоить никто, пока отчаявшийся доктор не велел пропустить бившуюся в дверь отделения маму, уцепившись за руку которой четырнадцатилетний подросток сразу успокоился и уснул, – ну, а из лагеря она уехала в первый же родительский день, содрогаясь от ужасных воспоминаний о разговорах в девичьей спальне после отбоя; с того дня она твердо решила, что замуж никогда не пойдет. После окончания училища она поступила работать в тот же детский сад, что и мама, в соседнюю группу – и только так обрела, наконец, долгожданное равновесие в жизни, где всегда существовала угроза, что с мамой что-то случится.
Красный командир, расстрелянный как враг народа в золотом тридцать седьмом, разделивший когда-то княжескую квартиру на две части, роскошную и убогую, как оказалось, сослужил двум женщинам хорошую службу. Два нежилых помещения, в которых они оказались, уплотнению не подлежали, и им впоследствии не раз предлагали обменять их на хорошую, большую и теплую комнату в коммунальной квартире, всегда удивляясь решительному отказу. Потому что маленькая, уродливая, не квартира, а обрубок почти без окон (на улицу было одно – узенькое кухонное, выходившее в темный двор-колодец без деревьев, но с дровяными сараями) все-таки принадлежала только им двоим. В кухне не толпились чужие примусы и похабно орущие посторонние бабы, а тихонько горели за чугунной дверцей березовые поленья, создавая их личный, неприкосновенный женский уют, утром мать и дочь не стояли в очереди к кухонному крану, чтобы умываться под нетерпеливые понукания опаздывающих на работу жильцов, не мыли изгаженный пьяными мужиками унитаз в своем миниатюрном туалете, где стены удалось выкрасить редкой бежевой, оставшейся от ремонта в детском саду, а не имевшей всеобщее распространение темно-синей масляной краской. У них была общая уютная спаленка, всегда теплая, потому что сообщалась напрямую с кухней, а письменный стол для Лили стоял под зеленой лампой прямо рядом с кухонным, у которого мирно готовила нехитрый обед ее мама, одновременно простодушно подсказывая дочке решения арифметических, трудно дававшихся ей задач… И променять все это на признанную «хорошей» жилую площадь в общей квартире?
Этот второй в жизни пионерский лагерь оказался в жизни Лили достаточно случайным: маму неожиданно отправили на первый месяц лета с детским садом на дачу – и отказаться не получилось, потому что заболела воспитательница, с удовольствием ездившая на все лето каждый год. Замены ей не нашли, а заведующая – бездетная партийка – давно уж точила завистливый зуб на счастливую мать Екатерину Федоровну. Под угрозой впервые остаться в их маленьком доме одной, Лиля заметалась, как брошенный щенок. Но райотдел образования не предоставил девушке отпуск, чтобы поехать с мамой, несмотря на то, что в Ленинграде ей было решительно нечего делать, – это сработала в очередной раз бездушная бюрократическая машина. Лиле предложили на выбор – либо временную работу в другом городском детсаду, либо командировку на первую смену кружководом по ИЗО в один из хороших лесных лагерей в Псковской области. От волнения она перестала спать по ночам, жаловалась на головные боли и нехватку воздуха.
- А поезжай-ка! – неожиданно посоветовала мама. – Все-таки природа, рабочий день короткий, дело ты знаешь… Да и вообще – купанья, лес кругом, питание бесплатное… Вон, какая ты у меня бледненькая! А вернешься – румянец во всю щеку будет, поправишься, глаза заблестят – гладишь, и жених хороший тебе сыщется, – последнее время Екатерину все чаще и чаще посещала странная ей самой мысль, что дочь уж слишком лепится к ней, не задумываясь вовсе о естественном женском предназначении, – а ведь в январе стукнуло двадцать два!
- Какой жених, мама! – испуганно кинулась на грудь женщины заплаканная дочь. – Мне никто не нужен, кроме тебя! Разве нам плохо вдвоем?
- Хорошо, конечно, – как бы без прежней уверенности отозвалась мать. – Только мне бы до внуков дожить хотелось… Поезжай, детка. А в июле отдохнем в Кисловодске, как решили.
…Детей на дачу отправляли автобусами, и последний из них, полностью загруженный, уже в который раз сигналил воспитателю Екатерине Федоровне, у которой на шее, крепко сомкнув пальцы, висела дочь.
- Мама, мне кажется, что мы больше никогда не увидимся… – мокрым лицом уткнувшись ей в шею, лепетала она. – Что я вижу тебя последний раз… Что случится… что-нибудь страшное… и разделит нас навсегда…
Сердце матери дрогнуло внезапным коротким прозрением, сразу отвергнутым:
- Ну, что ты, глупая… Месяц пролетит быстро – и не заметишь… Ну, все, – она мягко разомкнула кольцо дочкиных напряженных рук. – Совестно уже, люди смотрят…
Она отвернулась, скрывая комок в горле, быстро взошла по ступенькам и захлопнула за собой автобусную дверь. Лилины слезы высохли на теплом майском ветру. «Я уже взрослая, – с мнимой твердостью сказала она себе. – Мне нельзя плакать…».
Ни в какой поход Лиле идти не хотелось – нежные ноги ее не привыкли к грубым туристским ботинкам и х/б шароварам, тяжести походного рюкзака не знала узкая прямая спина, но маяться в лагере или, еще хуже, ломать поясницу над колхозными сорняками хотелось еще меньше… Выспаться бы перед ранним подъемом – но сосущая тоска по матери, о которой не расскажешь никому, прогоняла сон, да еще эта Люська-студентка топала по комнате, как корова, и плакать хотелось от одиночества и чувства заброшенности… Лиля плотно закрыла глаза и, казалось, не прошло и минуты, как в комнате, уже совсем белой от света, будто за окном шел снег, раздался громкий начальственный голос Зины:
- Па-адъем, сони! Половина шестого на часах! Умываемся быстро – и айда паек разбирать!
В полтора часа они все-таки успели уложиться – и за пять минут до того, как заспанный лагерный горнист приблизил к уже загрубевшим за две недели губам вспыхнувший золотом в первых лучах тонкий высокий горн, примериваясь, чтобы трубить зорю, три девушки и двенадцать детей в пионерских галстуках, сгибаясь под тяжелой походной поклажей, вышли за железные ворота с красно-белым, изготовления Лилиного кружка, плакатом: «Солнце, воздух и вода выковывают крепкую и здоровую смену!». Смешной, пузатенький и щекастый очкарик Леша Соловьев, назначенный ответственным за ведение походного журнала, семенил рядом с возглавлявшей шествие Люсей, почему-то поняв, что она самая «ученая» из всех, и, колобком подпрыгивая на ходу, деловито спрашивал:
- Люся, а я правильно записал в журнале: «Вышли в 7-00 из пионерского лагеря им. Л.П. Берия по направлению к реке Кухве»?
- А дату поставить не забыл, умник мой? – улыбнулась вожатая и, когда мальчишка смущенно замялся, добавила: – На привале не забудь, допиши: двадцать второе июня одна тысяча девятьсот сорок первого года, воскресенье. День и год обычными цифрами, а месяц – римскими, – и, встряхнув на спине уже начавший натирать плечо рюкзак, она обернулась на маленький отряд и звонко, с внутренним отчаяньем, крикнула: – Запе-е…вай! Мы шли под грохот канонады, / Мы смерти смотрели в лицо…
- Вперед продвигались отряды/ Спартаковцев, смелых бойцов, – подхватила замыкающая Зина, и, поскольку ее-то уж никто ослушаться не посмел, пионеры вместе с Лилей поначалу нестройно подхватили:
- Средь нас был юный барабанщик…
- Кстати, барабанщик! Ты чего растерялся?! – прикрикнула Зина. – А ну-ка!
Немедленно прозвучала несмелая барабанная дробь, и стала напряженно нарастать, показывая, что барабанщик проснулся на ходу, – и, по мере возможности чеканя шаг, маленький отряд постепенно втягивался на лесную дорогу.
- В атаках он шел впереди, / С веселым другом барабаном, / С огнем большевистским в груди… – все слабее и слабее доносились пронзительные голоса из сомкнувшегося за спинами пионеров леса, а вскоре их и вовсе заглушил высокий звук утреннего лагерного горна.
Часть II
Так сиротою – столпником на камне –
Не замечать, как дольняя вода
Вином певучим в Галилейской Кане
Бежит – и точит сжатые уста.
А. Маничев
БП
Старый ноутбук Виолетты окном в мир больше не служил – доступа к интернету давно уже не существовало. Собственно, теперь он был ей почти незачем… Совсем недавно, придя вечером из больницы с захваченным по дороге из детсада Ванечкой и проплясав положенный быстрый танец между кухней, ящиком с игрушками, ванной, детской постелькой и телевизором, прочитав одну короткую новую сказку и одну длинную вечную – про воронов Ут-Рёста, она могла провести еще час-другой, тупо читая новости в ленте или выкладывая в сеть картинки детского утренника, с единственной целью – приглушить постоянную внутреннюю бурю, ненадолго отвернуть внутренний взгляд от сегодняшнего дня, каждый раз чуть более страшного, чем предыдущий. Она делала это с кружкой сначала любимого зеленого, потом – менее любимого черного чая, а по мере сужения ассортимента в магазинах – так и вообще мутного коричневатого пойла, получавшегося после заварки нескольких использованных пакетиков, – сидя на кухне спиной к шторе затемнения, чтобы лишний раз не вспоминать о грозных реалиях текущей ночи. От чего и кого в двадцать первом веке, при компьютерном наведении любой ракеты с точностью до десяти метров, спасало это затемнение?! Иногда она брала смартфон и ложилась в ванную – до того дня, как уснула там, выпустив из отяжелевшей руки в теплую воду почти новый прибор… Этой отдушины Виолетта была лишена уже почти четыре месяца. Как жили люди до интернета? Ах, да, конечно, они читали книги. Простые книги, которые и у нее стоят на полках с прошлого века, оставшиеся еще от бабушки… Но читать художественную литературу Виолетта не любила со школы, испытывая при мысли о каком-нибудь длинном романе странное ощущение: будто внутри у нее кто-то взялся дергать рывками туго натянутый нерв. Сразу вспоминались нудные, как зубная боль, произведения классиков позапрошлого века, обязательные к прочтению по школьной программе и с тех пор ненавистные до боли, до того, что хотелось пойти и плюнуть на мраморное надгробие кого-нибудь из маститых извергов… Несколько детективов – с клюквенной кровью жертв и несложными умозаключениями детективов – она нашла в задних рядах книжного шкафа: разъятые по листикам и кое-как собранные, они уносили ее, словно в подводное царство (там – коралловый риф, там – акула-людоед, там – русалочий хоровод среди белых «барашков») на несколько часов – и тем тошнотворней было выныривать обратно, на поверхность собственной загубленной без крови – Виолетта уже четко понимала это – постылой жизни.
Но последние несколько недель все-таки было, было у нее другое занятие! Виолетта просматривала рабочие фотографии – скомканное чаепитие в чужой день рождения, фотографии лучших работников отделения с соответствующей доски... Нужны они ей были сами по себе, как прошлогодний снег! Она смотрела на единственное лицо, тщательно вырезанное в фоторедакторе из этих самых фотографий и аккуратно увеличенное до предела. То был новый заведующий – бывший военный врач, помотавшийся по горячим точкам, дважды раненный, неженатый и бездетный, издерганный и осевший в их гражданской клинике. Высокий человек с узкими светлыми, почти бесцветными глазами на темном, рябом и изможденном лице с впалыми щеками, слегка презрительно опущенными уголками губ и красивыми смуглыми руками, всегда до локтя обнаженными. Она за ним вульгарно «бегала», прекрасно понимая, что пожилая медсестра ни в коем случае не привлечет внимание этого усталого самца, который, в случае надобности, просто молча завалит на диван у себя в кабинете врачиху помоложе – а потом равнодушно встанет и выйдет. Шел слух, что он уже поступил так с тридцатилетней бабой-анестезиологом, похожей на похватанную пальцами за нежные крылья осеннюю бабочку. Она, как будто, была безмерно оскорблена его искренним безразличием – а пуще всего тем, что он никакого ее оскорбления так и не заметил. Виолетта все видела и понимала, но каждый раз угодливо бросалась выполнять мимолетные пожелания начальника, вроде замены старого стенда по гражданской обороне на новый и яркий. Она самоотверженно, бесплатно и абсолютно добровольно, с великой любовью мастерила таковой несколько дней дома по ночам, вычерчивая схемы побега больных и персонала в убежище, старательно рисовала ослиные морды – то есть, население в «индивидуальных средствах защиты» – и вдруг вспомнился собственный давний учебник по ОБЖ, где под фотографией девушки в противогазе кто-то подписал авторучкой: «Брови, что ли, выщипала?». Гордая доброволица несла свое не влезавшее ни в какой транспорт готовое изделие на работу в руках, оно парусило, норовя вырваться, на ледяном ветру, чуть не сбросив страдалицу на проезжую часть, а потом не поместилось и в больничный лифт для сотрудников, и пришлось огибать, надрываясь, все здание, чтобы добраться до лифта, перевозившего больных на каталках – наверх, а трупы – в полуподвальный морг, – но лифтерша ушла… Когда, наконец, огромный щит был доставлен в отделение, и Виолетта опоздала к началу смены на целых четыре минуты, то столкнулась с заведующим у входа – потная, красная, запыхавшаяся, еще не переодетая в форму, горячо ожидавшая хоть сдержанной – но благодарности…
- Эт-то еще что за явление?! – хриплым басом гаркнул на нее заведующий. – На работу опаздываете?! Еще раз – и вылетите к чертовой матери! Тут вам не истребительная больничка!
- Я… я не опоздала… Я стенд несла, который… который вы хотели… Просто он в лифт не влезал, и… и… – залепетала ошарашенная Виолетта.
- Какой еще стенд?! Его и без вас уже заказали! – загремел он на все отделение. – Ваша работа – горшки выносить, а не художничать! Выбросьте куда-нибудь этот хлам и марш на рабочее место! – и, видя, что баба онемела с открытым ртом, скомандовал ей, как собаке: – На место, я сказал!
Виолетта повернулась и бегом побежала по белому коридору, вдруг с ужасом поняв на ходу, что настолько глубоко безразлична этому мужчине, что он даже не знает, сестра она или санитарка. Обида застила глаза и, ворвавшись в сестринскую, бедняга с размаху повалила вешалку с чужой одеждой – хорошо, никто не видел: все уже пять минут, как трудились «на своих местах»… Весь день она работала с обиженным остервенением, специально показываясь заведующему на глаза то с капельницей, то со шприцами на подносе, то демонстративно усаживаясь при его приближении за стол на сестринском посту, чтобы он додумался, что она не на рабской должности поломойки, – но тот даже головы в ее сторону ни разу не повернул. А проклятый стенд, пока она крутилась по отделению, был вынесен в неизвестном направлении и пропал навсегда…
Казалось бы, такая сцена должна была положить конец всякой симпатии с ее стороны – но всем известно, как подл толстый бесенок Амур – как любой черт. Олег Петрович – так звали хамовитого мужлана начальника – с того дня еще больше завладел воображением «отцветшей фиалки». По два, по три часа она теперь неотрывно смотрела глубокой ночью на его фотографию (среди них оказалась одна удачная, где лицо не выглядело ни рябым, ни злым, ни заносчивым, имея даже проблеск улыбки), придумывая невероятные обстоятельства их близкого столкновения в ситуациях, где он не мог не оценить ее лучших качеств и не влюбиться – так, как умеют это делать мужчины измученные и настрадавшиеся, кусающие ласкающую руку, как долго битые псы, которые, будучи покоренными любовью и прирученными, показывают чудеса преданности и любви. Возвышенные, чуждые любой приземленности картины одна за другой проходили перед глазами Виолетты – их задушевных разговоров, постепенного сближения, первых неуклюжих ласк… Дальше она не мечтала – потому что почти за тридцать лет, ни разу никем не приласканная, почти забыла о том, как и что происходит после. И, кроме того, всегда подспудно помнила свои серые посеченные волосы, тусклую кожу, потекший овал лица, дряблую старушечью шею, грубые шершавые руки – и отсутствие сил на то, чтобы попытаться изменить все это… Потому, перешагивая в мыслях все «неудобное», она вновь и вновь писала сочными красками воображения идиллические картины их совместного бытия – и даже то, как он несет на плечах смеющегося Ванечку, а она, преданно лепясь к его плечу, подставляет голову под поцелуй… А на следующий день на работе строгий Олег Петрович вновь безмолвно кивал на ее радостное приветствие – и, всегда очень занятой и целеустремленный, стремительно шагал мимо – а у нее дрожал подбородок. Когда одна из успешных хирургинь праздновала свой день рождения, дежурной сестре и уходившей домой санитарке тоже гуманно вынесли по куску домашнего торта и полбутылки даренного больными шампанского, взамен попросив сфотографировать вечеринку врачей. Виолетта ужасно схитрила, успев запечатлеть всех и на свой телефон тоже – и так получила себе в компьютер его расслабленное, почти приветливое лицо – а на экране казалось, что этот намек на улыбку, так никогда и не состоявшуюся, предназначен именно ей. Если бы кто-то узнал об этих ночных бдениях, то, совершенно очевидно, долго крутил бы пальцем у виска – это Виолетта тоже хорошо понимала. Но никто бы никогда не признал, что она могла и не выдержать этого постепенно сжимающегося вокруг удушающего кольца – совсем одна, почти без поддержки, без света в конце тоннеля… Любовь ли это была? В мечтах она не раз, забывшись, произносила – и слышала! – слово «люблю», а на самом деле… На самом деле у нее был только свет. Но кто мог знать, погаснет ли он или станет ярче? В незамысловатой жизни рядовой медсестры никогда такого не случалось, но от других она слышала, как круто могут измениться обстоятельства, как неожиданно меняет порой сама жизнь свое русло – и не только в плохую сторону! Она так мало и так давно видела хорошее – почему бы не увидеть его еще раз… Один раз – и хватит. Пожалуйста, Господи…
Виолетта продолжала жить, как жила, – растить любимого внука, бесконечно ждать сына, по мере сил облегчать страдания больным – но теперь впереди всегда сияли два заповедных часа, два личных ее часа, которыми она ни с кем не собиралась делиться. И может быть, думала она, засыпая с улыбкой в ту пору, когда редко у кого был безмятежный сон, может быть, ее ежедневная неподъемная ноша этим облегчается – пусть хоть на вес соломинки. Но именно той, что ломает спину верблюда…
* * *
В детский сад Ванечку все равно приходилось водить – и умирать из-за этого от страха на работе – то двенадцать часов, то двадцать четыре, когда приходилось бросать его там на ночь, то есть, на милость вполне дегенеративной ночной няньки… Виолетта даже не была полностью уверена, что та моет руки после туалета: в пыльной среднеазиатской стране, из которой женщина прибыла за удачей лет десять назад, похожая на тонконогую и большеглазую степную кобылу, вода самой природой предусмотрена не была – откуда взяться благой привычке у родившихся под палящим солнцем людей, чьи предки ценили воду на вес золота… Про дневных воспитательниц Виолетта знала твердо: при первых же звуках настоящей тревоги они бросят детей и убегут – ну, а черноокую Джахан как-то утром, забирая внука после ночного дежурства, спросила в лоб, что она станет делать в таком случае. В ответ женщина кивнула в угол, где сосредоточенно играли два очаровательных коричневых и, разумеется, не мытых ребенка:
- Я своих везде беру с собой. Заведующая разрешила. Здесь бомбоубежище хорошее. Его даже кроватями с бельем оборудовали. Если что – мы все туда успеем, потому что ночью детей мало… – помолчала и спокойно добавила: – Там все и умрем.
Казалось, эта тяжелая, приземистая, пятидесятилетняя на вид, несмотря на свои тридцать с небольшим, женщина не испытывала никакого сокрушительного страха перед будущим. Для нее главное было – умереть вместе, не пережить ни на минуту своих тихих черненьких отпрысков: она твердо знала, что ей не предстоит горевать по ним, а остальное не имело значения.
«Она мусульманка, значит, с нашей точки зрения, у нее нет надежды на рай. Ни для себя, ни для детей… Она будет аду, знаю я. И ее некрещеные дети – тоже… А крещеный Ванечка отправится прямиком в рай. Ему нет семи, поэтому, как младенец, он сможет, если захочет, стать ангелом. А я… А меня Бог, может быть, тоже помилует, хотя бы за то, что мой внук – ангел. Но неужели Он не примет к Себе Джахан, твердо решившую спасать всех, а там – будь, что будет? Такого просто не может быть – чтобы сбежавшие молодые русские воспитательницы с серебряными крестиками на шейках заслужили Его милость только фактом позабытого ими самими крещения, а вот эта измученная, толстая, неопрятная, которая под прерывистый вой сирены станет поднимать десять маленьких чужих детей с постелей, тащить их – сонных, ничего не понимающих, в подвал, и потом еще возвращаться за другими – неужели она не заслужит снисхождения? И неужели у Бога нет другого средства снять с нее первородный грех, кроме купели?» – размышляла Виолетта по дороге домой, не чувствуя, как усталый Ваня настойчиво трясет ее за руку, повторяя свой обычный припев: «Ба-а… Ну, Ба-а…». И тут она вспомнила, что «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» – и сразу успокоилась за Джахан. Как просто, оказывается, все у Бога устроено. И еще вспомнила: «в ту ночь будут двое на одной постели…». Так значит, есть хороший шанс, что все это произойдет ночью, – ведь и «репетиция» тоже была задолго до зари! Если в те последние шесть минут она не окажется на дежурстве, то в метро они с Ваней не попадут – проверено. Еще как проверено! А вот в детском саду под надзором Джахан… И если рванет где-нибудь подальше… Или как-нибудь несильно… Может быть, вообще его на пятидневку перевести, чтобы, по крайней мере, быть уверенным, что ребенок окажется в бомбоубежище и, хотя бы, не сгорит живьем?
Виолетта остановилась под крещендо нараставшим: «Ну, Ба, ну, Б-а-а, ну, Ба-а-а!!!». Она вспомнила и другое обетование – прочитанное в очень современном источнике, а именно – памятке для обреченного населения: «Спасательные работы целесообразны не ранее, чем через четырнадцать дней после взрыва и не ближе, чем в двадцати пяти километрах от эпицентра». Лучше оказаться на улице. Вдвоем. Или даже втроем – чтоб и Влад был рядом, хоть в такую минуту не с этой своей, а с матерью и сыном… Уже два дня, как пришла странная смс-ка, полностью прочувствованная только на следующее утро после несостоявшейся катастрофы, а вестей от сына так и не было. На сколько он уехал? Куда точно? С кем? Почему просил материнского благословения? Почему ей было спокойней за него, когда он исчезал из зоны доступа, не предупредив? А сейчас сердце ныло и ныло на одной низкой ноте, даже во сне не переставая, – так, наверное, постепенно приближается инфаркт… Она выдохнула и вырвала руку у Вани:
- Не тряси меня – видишь, бабушка еле живая после работы!
Но сразу же Виолетта устыдилась своей неуместной резкости с ребенком, которого, может быть, уже сегодня к вечеру не будет на свете, как, впрочем, и всего света целиком – этого света:
- Что тебе? – мягче спросила она. – Ты позавтракал в садике?
В ответ Ваня сделал всегда до слез трогавшее бабушку «корытце» из нижней губы:
- Не-ет… Была запеканка из геркуле-еса… Меня от нее чуть не вы-ырвало…
Язык не повернулся прикрикнуть за него – плата за все эти несъеденные обеды-завтраки выкусывала чуть не четверть из без того нищенской зарплаты медсестры! – но Виолетта и сама прекрасно помнила, как в относительно сытые, «раннеперестроечные» годы, в собственном, еще почти советском детском саду она брезгливо ковыряла вилкой настоящую творожную запеканку со сметаной, а чай, если тот оказывался с молоком, – и вовсе ко рту не подносила! Ванечке бы сейчас тот чай и ту запеканку, а не склизкий комок чуть подслащенной и политой неизвестно чем недоваренной овсянки!
- А ты мне сегодня пожаришь котлеты – настоящие, мясны-ые? – нудил свое оголодавший ребенок.
Наверное, девяносто лет назад, когда только начиналась ленинградская блокада, именно это было самым трудным для женщин – не бомбежки, не собственный голод! А невозможность объяснить ребенку, что еды нет и взять ее негде, хотя совсем недавно – и он это прекрасно помнит! – она была, нелюбимая и противная, и он воротил нос от молочной пенки, отказывался есть жидкий белок на яичнице, вылавливал из супа кружочки моркови, ровно раскладывая их по бортам глубокой тарелки… И вот теперь он съел бы за милую душу и мерзкую пенку, и сопливый белок, и сладковатую морковь, и даже ненавистный, тошнотворный вареный лук – а мама дает лишь черный крошечный сухарик – почему, почему?!! До того – последнего – порога жизнь еще не дошла, но и сейчас уже приходится с деланой веселостью виновато лепетать в ответ:
- А разве ты не хочешь драников? Своих любимых драников? Вот сейчас мы придем домой, и я напеку тебе полную миску…
- Не хочу я твоих драников! – вдруг истерически крикнул Ваня, в один миг залившись слезами и отскочив на веселой асфальтовой дорожке, будто кружевной от солнечного света сквозь молодые листья. – И морковных котлет твоих не хочу, и свекольных тоже! У меня от них всегда понос, понос! – топая ногами и хватаясь за голову, как взрослый, услышавший страшную весть, срывая голос, завизжал он. – Я умру от них, умру, умру! – закрыв лицо руками, он секунду постоял так – и молча кинулся к онемевшей Ба на живот.
Мяса в доме не осталось ни грамма, июньские мясные талоны, проскакивавшие в первую же неделю, они давно проели, а до июля – и сопутствующих мясных котлет – оставалось еще очень, очень много времени… Виолетта судорожно прижала головку внука к себе, натужно соображая, и напряжение в те секунды было так велико, что память сжалилась и услужливо открыла перед хозяйкой какой-то забытый день давнего Великого поста, когда вдруг пришли к Владиславу церковные гости, и она кормила их замечательными, коричневыми, в румяной панировке, котлетами, про которые никто не верил, что не мясные – и с сомнением жевали бледными губами, гадая – не оскоромились ли ненароком…
- Да, да! – выпалила Виолетта. – Я тебе поджарю котлеты – из мяса. Я вспомнила. У нас еще завалялся маленький кусочек мяса! Крошечный! Только не сейчас, а на ужин… Я приготовлю их во время твоего тихого часа… – последнее было казуистической хитростью, нужной для того, чтобы простодушный внук не видел процесса приготовления очередного бабушкиного деликатеса.
Раньше загнать его спать после жидкого овощного супчика с плавленым сырком и лошадиной порцией хлеба было делом нелегким и требовавшим пусть и не норвежских сказок, а хотя бы двух-трех старых романсов, последнее время успешно используемых бабулей вместо колыбельных, но сегодня Ваня добровольно забрался в постель и даже «ручки под щечку» сложил, как пай-мальчик. Глядя на него, Виолетта в очередной раз испытала прилив сердечной боли: видать, эти мясные котлеты в его жизни заняли место гораздо более важное, чем показалось еще утром, во время короткой истерики ребенка, списанной на закономерную усталость после изнурительных суток под казенной крышей… А она еще хотела его на пятидневку…
Находчивая Ба забросила в блендер немного вчерашней гречневой каши, наломала туда мякоти черного хлеба, плеснула воды и добавила гвоздь программы: несколько долго хранившихся на черный день «мясных» бульонных кубиков, которые так закаменели, что пришлось натирать их на мелкой терке… Блендер выдал вполне себе приличный на вид фарш, в который она щедро насыпала резаного лука, сушеной зелени и чеснока, а также немножко муки для склеивания. Чего-чего, а панировочных сухарей имелось на кухне вдоволь, месяц назад закупленных по случаю, заключавшемуся в том, что удалось урвать «некарточную» еду, и ею оказались пять пакетов этих самых сухариков, которые теперь удачно облагораживали то картофельные, то капустные, то еще какие-нибудь поддельные котлеты… Из двух бутылок масла, купленного по талонам, только одна подходила к концу, и на этот раз Виолетта решила не экономить, чтобы получились котлетки сочные и жирные на вид, как встарь… Пока они жарились, аромат стоял на весь дом, разбудил Ванечку, прискакавшего на кухню в радостном предвкушении.
Он съел четыре котлеты с вареной картошкой, бурно их нахваливая и ластясь к умиленно наблюдавшей за аппетитом внука повеселевшей Ба, а потом попросил поставить ему мультики и уселся в своей комнате на ковер по-турецки… Казалось бы, операция «предапокалиптические мясные котлеты» закончилась полным успехом – но радость отчего-то не рождалась в сердце бабушки, медленно убиравшей со стола. Ей опять мерещилось что-то странное… Что? Уж очень бурно нахваливал Ваня ее «наконец-то настоящие котлетищи», а до этого слишком охотно пошел в постель…
Так уже было. Точно так же было, когда она принесла его несколько дней назад домой без любимого одеяла, в одной пижамке, после кошмара их несостоявшегося превращения в пепел, когда внезапно смолкли в небе трубы Архангелов… Этот взрослый ребенок все понимал. И тайну котлет разгадал тоже. Утром он сорвался – допустил слабость, позволил себе побыть шестилетним мальчишкой. Но потом собрал все немалые силы – и вновь стал самим собой: серьезным мужчиной, ответственным за хрупкий внутренний мир немощной женщины, которой сейчас хуже, чем ему…
И вот уже Виолетта, раздвинув посуду и обхватив склоненную голову руками, тихо-тихо подвывала без слез и очнулась только от телефонного звонка коллеги, которая радостно сообщила ей, что заведующий разрешил сотрудникам, имеющим детей-дошкольников, которых не с кем оставить дома, брать их с собой на ночные дежурства: это устроила ему полезную и впечатляющую сцену одна из потрепанных докториц, матерей-одиночек. Бабушка приободрилась: теперь, даже если это случится ночью, она закроет Ваню собой и не узнает, что случится с ним после того, как ее не станет.
* * *
- Вы так боитесь умереть? – Олег Петрович протянул Виолетте тонкий стакан, на два пальца наполненный коньяком.
Она с удовольствием сделала большой глоток: все-таки хорошо быть врачом, а не зачуханной медсестрой, которой и в лучшие годы редко перепадало от пациентов что-то серьезней шоколадки. Врачам же несли всегда – вкусное и дорогое, совали конвертики в карманы, а сейчас в качестве благодарности могут привезти мешок картошки: она сама видела, как один их молодой врач, отец двух грудных младенцев, радостно перегружал в свой пока недорогой автомобиль холщовые мешки с картофелем и еще какими-то овощами – из багажника другой машины, с помощью недавнего больного, благополучно тем доктором прооперированного… Бутылки хорошего спиртного у врачей и теперь не переводятся – а ведь их, в случае надобности, можно в новых условиях сменять на что угодно! Хирургической сестре недавно подарили двух парных кур – но она ежедневно обрабатывает раны, от нее очень сильно зависит качество послеоперационного периода! Вот и лебезят… А вот ей, Виолетте, недавно сунули в карман одно вареное яйцо. Одно. Неожиданно одаренная медсестра спрятала его в свой шкафчик в сестринской – хорошо спрятала, в ботинок, – а ночью на сутках, после длительной борьбы с совестью, строго приказывавшей донести гостинчик до вечно недокормленного внука, она в этой борьбе проиграла и решила в кои-то веки съесть яйцо сама (два десятка талонных, полагавшихся им, неукоснительно скармливались Ване). Но выяснилось, что проклятое яйцо банально украли, – еще днем, когда в комнате толклось много народа. Шкафчики у них не запирались, считалось, что все свои… Если бы Виолетта еще умела плакать, она бы оплакала эту неожиданную потерю – так настроилась на свой индивидуальный маленький пир… И вот… Она бы эту сволочь растерзала!
А сегодня заведующий, как ни в чем не бывало, открыл свой маленький бар – и там оказалось несколько дорогих бутылок и коробок конфет – он небрежно достал то, что оказалось ближе… Нет, врачи никогда не будут голодать – они и в блокаду – ту, давнюю, настоящую – не голодали наравне со всеми!
- Так я слушаю, – строго, но с глубоко спрятанной нестрашной усмешкой настаивал он. – Вы, Виолетта, боитесь смерти? Только не говорите мне, что это страх не за себя, а за ребенка – все это я уже сто раз слышал от женщин, и это не выдерживает никакой критики.
Она проглотила остатки коньяка и робко призналась:
- Я не умереть боюсь, а умирать. Потому что, мне-то ведь никто не назначит обезболивающее, если я окажусь… под развалинами… вся переломанная… и буду лежать в кромешной тьме… со страшной болью… и душераздирающими мыслями о близких – живы ли они, и если умерли, то как. Или если я буду гореть живьем на улице – пусть даже очень недолго, секунды… Они ведь вечностью покажутся… – пустой стакан вдруг задрожал у нее в руке.
Завотделением быстро пересек кабинет и наполнил вибрирующую тару почти до края:
- Ну-ну-ну… Надо же, какая натура утонченная! Не умереть, а умирать… Скажите-ка! А между прочим, если это случится, например, здесь, на работе, то все будет гораздо хуже: дом этот мощный, сталинский, бомбоубежище – я сам видел в прошлую тревогу – очень прочное и может даже выдержать, если, конечно, не в эпицентре окажется… Ну, что вам сказать… Еда-вода закончатся; канализация… гм… тоже ненадолго… А выходить будет некуда, да и все выходы наверняка завалит. Совсем. Спасательных работ, скорей всего, вовсе не дождемся… Так что представить, как именно мы будем умирать в этом случае, почти невозможно… То есть, возможно, но слишком ужасно, чтобы представлять.
Виолетта робко подняла глаза: он стоял почти рядом – мужчина ее мечты: высокий, с абсолютно белыми, без единой темной пряди, волосами, смуглым лицом, изрезанным глубокими морщинами; открытая до локтя сильная, длиннопалая, с широкой ладонью рука лежала на спинке стула… Все очень просто получилось – из-за клюквенного морса. Сегодня на дежурство Ваня пришел со своей Ба, но она уже знала, что больше на такое не согласится: ребенок измучился и хныкал от одиночества и безделья, рисовать бесконечно, сидя в скучной сестринской, ему надоело, играть было не с кем, больничная еда оказалась еще хуже детсадовской… Он пробовал слоняться по отделению, заходить в палаты – но быстро от этой затеи отказался: в мужских послеоперационных стоял такой смрад, что, лишь заглянув туда, он с отвращением захлопывал дверь и зажимал двумя пальцами носик, а в не таких вонючих женских тоже особенных развлечений не обнаружилось… После отбоя Ваня сам попросился лечь – уж больно хотелось ему скорей дожить до конца бабушкиного дежурства – но долго ворочался перед сном в пустовавшей платной палате, где на полу ожидал очередного звездного часа еле дотащенный Виолеттой тяжеленный «тревожный рюкзак». В нем же влюбленная бабушка принесла две бутылки жидкого клюквенного морса – одну для внука, а для дежурившего в тот же день Олега Петровича – другую, которую после отбоя, помявшись и потоптавшись слегка, решилась занести к нему в кабинет. Влюбленная несмело постучалась, просунула в дверь голову и прошептала:
- Я… тут вот… подумала… может быть, вы попьете… домашний… – и с ужасом услышала, что голос звучит жестко и неестественно, будто она врет под чьим-то проницательным взглядом.
- Поставьте куда-нибудь, – не отводя глаз от монитора, буркнул он, занятый, верно, заполнением истории болезни.
Виолетта осторожно водрузила бутылку на журнальный столик и на цыпочках вышла, в очередной раз уязвленная… «А что ты хотела? – горько сказала она самой себе. – Ты что, не знала, что этому мужику до тебя как до лампочки? Что он и по имени тебя не помнит? Чего ты суешься-то к нему? Чего ты ждешь, дура? У него таких как ты… Нет, не таких – в два раза моложе и в двадцать красивее – все отделение!». И она дала себе клятву больше никогда не предпринимать никаких заведомо обреченных на провал попыток сближения… Но эти его глаза… Такие светлые и серьезные… Что они таят? Любил ли он когда-нибудь по-настоящему, или всегда презирал «безмозглое бабьё»?
А через полчаса без стука распахнулась дверь в сестринскую, где Виолетта тупо пялилась в экран, на котором битком набитый сытыми и нарядными людьми зрительный зал до слез хохотал над непонятным и вовсе не смешным монологом маленького лысого человечка, который то и дело выпячивал нижнюю губу, жутко вращая вытаращенными глазами под крошечными очочками…
- Вам смешно? – грянул в дверях зычный голос. – Тогда извините, что помешал, – и Олег Петрович тихо прикрыл дверь, так и не зайдя.
Себя не помня, Виолетта вырубила телевизор и взлетела с дивана. Через несколько секунд уже она без стука входила в кабинет заведующего, оправдываясь на ходу:
- Да что вы, это я просто так включила, посмотреть, не идет ли хоть фильм какой-нибудь нормальный… или старая передача…
- Ничего нормального больше никогда не покажут, – отрезал он. – Во всяком случае, пока… это все… не кончится. А до того момента мы обязаны хохотать или слушать новости о том, как нам хорошо живется сейчас и как мы обязательно победим, если на нас нападут… Или мы нападем на злодеев… Превентивно.
- Это ужасно, – сказала Виолетта, не найдя других слов.
Он махнул рукой:
- Ладно. Я, собственно, шел отдариться за ваш замечательный морс. Надо же – и достали где-то клюкву в июне…
- Она у меня с октября в морозильнике лежит, сейчас, правда, кончается уже, – обрадованная его неожиданным благодушием, заторопилась Виолетта. – Мы с соседкой несколько раз осенью на болота ездили на ее машине… Тогда еще не верилось, что так все обернется… На всякий случай заготовила… Вот теперь спасаемся с Ваней… Хоть какие витамины… – частила и частила она. – Мать ведь его умерла… родами… невестка моя… А сын другую нашел… Но приходит иногда… Сейчас, правда, уехал…
Нетерпеливым жестом Олег Петрович остановил ее излияния:
- Все ясно. Бабушка-одиночка. Короче, выпьем, бабуля, коньячку… – он раскрыл шкафчик, достал бутылку, пренебрежительно стукнул об стол коробкой конфет. – Эту завтра внуку отдадите. А эту… эту мы сами сейчас съедим…
И улыбнулся. Криво, как мог бы волк, – если б умел улыбаться. И сам стал в эти секунды разительно похож на волка – с такими же близко посаженными гипнотизирующими глазами, темным вытянутым вперед лицом, широкой длинной пастью, полной белых острых зубов… Ей сразу подумалось, что она, конечно, не одна в отделении на него запала. И теперь просто пришла ее очередь отвечать на дежурный вопрос о смерти, – так быстро и так близко подступившей к ним под записанный и усиленный смех невидимой беспечной толпы, несущийся со всех экранов.
- А ведь грех вам бояться! – вдруг своим фирменным хриплым баритоном сказал заведующий. – Знаете, почему? Да просто потому, что… вам сколько лет? Только не отвечайте, как обычно дуры-бабы говорят: «Восемнадцать, а что, не похоже?». Не похоже. Вам ведь лет пятьдесят? Так?
- Сорок шесть… – убито выдавила Виолетта, и по ее ошеломленному виду Олег, вероятно, сразу понял, что она не кокетничает, а говорит сущую правду.
Он равнодушно пожал плечами:
- Надо же, а я думал, вы лет на пять старше. Но какая разница. Я другое хотел сказать: вы знаете, что большая часть народонаселения Земли не дожила и до сорока? Нет, не мотайте головой, я не наше скорбное время имею в виду, а вообще всех людей, которые родились во все времена. Подсчитано, что их было около ста миллиардов. Девяносто уже умерло – представляете, сколько это народу? А продолжительность жизни, между прочим, серьезно увеличилась только в последние сто лет, когда появились вакцины, антибиотики и гормоны. А до того люди мерли пачками. В детстве, в молодости… Постоянно. У нас аппендицит оперируют интерны, а каких-нибудь сто с лишним лет назад от него умирало двадцать пять процентов населения. Двадцать пять! До того, как разработали эту пустяковую операцию, двадцать миллиардов человек умерло только от аппендицита. И все они были молоды, потому что чаще всего им болеют до тридцати лет. И это только одна болезнь, Виолетта, только одна! А представляете себе, сколько умерло по другим причинам?! Эпидемии, травмы, войны… Антисанитария, наконец… Дожить до сорока было попросту сложно – никто особо и не надеялся… Сорокалетний рубеж воспринимался как достижение, как милость Божья! А вам уже сорок шесть, и вы Бога гневите своим страхом. Так-то, бабуля… Кстати, «старухе Лариной», по подсчетам ученых, было около тридцати семи. Но ее даже в двадцатом веке на иллюстрациях к «Онегину» рисовали восьмидесятилетней…
- А вы откуда знаете? – искренне удивленная всей тирадой, только и вымолвила Виолетта.
Он неприметно вздохнул:
- Моя жена сказала. Она была певицей. В этой опере тоже пела. Ольгу, – он на секунду зажмурил глаза, и в этой мгновенной гримасе Виолетта успела уловить запредельную печаль и обреченность.
- Была? – решилась мягко спросить она. – Что-то… случилось? – и сама испугалась своего вопроса: сейчас как рявкнет на нее: «А ну, пошла вон, нахалка!» – и будет, в сущности, прав…
Но Олег, вероятно, был слегка пьян – еще до ее прихода – и оттого не зол, как всегда, а просто грустен:
- Да. Случилось. Двенадцать лет назад. Ей было тридцать, мне сорок четыре – а я ведь военный врач на самом деле. Вот и командировали меня… незадолго до отставки… в Африку, в одну милую исходящую нефтью страну, где был наш контингент и марионеточное правительство. Айболитом. Ножки летчикам пришивать, – он махом проглотил полстакана и передернулся. – А она… Лена… хотела мне сюрприз сделать на Двадцать третье февраля – черт бы побрал Троцкого, который создал в этот день Красную Армию… Впрочем, он его уже побрал… Хм, да… Ну, и устроилась она в группу артистов, которые летели в нашу часть с праздничным концертом. Правдами и неправдами пробилась. Потому что разлуки прошло уже четыре месяца и предстояло еще примерно столько же. Очень хотела меня увидеть… Очень, – он жахнул еще полстакана также просто, как воду. – Я ее, конечно, тоже хотел видеть, но, если б знал, что она задумала, – запретил бы. Хотя, как ей запретишь… С характером была женщина. В общем, боевики… или не боевики… а может, и вообще наши по ошибке… или не по ошибке… сбили их самолет из зенитки. Он военный был, поэтому в прессе даже не объявляли, имен не печатали. Ну, а родственникам, конечно, сообщили. От ее сестры я узнал, что у Лены было… семнадцать недель беременности. Обрадовать меня летела… Дура моя, – он посмотрел на пустой стакан, дернул щекой от отвращения и поставил его на край стола. – А как она умирала? Я двенадцать лет думаю – как она умирала? Успела понять и почувствовать что-то или нет? И кажется мне, знаете ли, что успела, так-то вот…
В кабинете воцарилась тишина, нарушаемая только слабыми хрипами и хрустами пустого до шести утра эфира радиоприёмника. Виолетта дрожала мелкой дрожью и лихорадочно искала слова утешения, которых не было и быть не могло. Олег вдруг развернулся и сделал большой шаг в ее сторону:
- Только не надо слов. Я их все много раз слышал, – он чуть-чуть приоткрыл ей навстречу руки: – Хочешь – иди сюда. У тебя ведь никого нет – я прав?
За несколько мгновений в голове Виолетты пронеслось очень много самых разнообразных идей – например, что ни о какой любви здесь и речи не идет, а значит, уже завтра он попросту вычеркнет очередную случайную бабу из своей жизни, а она будет мучиться; но, с другой стороны, никакого завтра может не быть для них обоих – и вообще, жизнь такая поганая, а тут хоть какой-то лучик; кроме того, это точно последний раз – как было раньше, она давно не помнит, а сегодняшнее точно не забудет до последней минуты; и, наконец, бретелька бюстгальтера держится на английской булавке, а сам бюстгальтер уже серый от застиранности, и на колготках здоровенная стрелка, замазанная клеем… Успев все это последовательно продумать и отмести, храбрая женщина решительно шагнула навстречу своей последней земной утехе – и волчьи глаза, чуть-чуть, почти незаметно подобревшие, но все равно непоправимо чужие, оказались близко-близко в жемчужно-сером полумраке питерской летней ночи; ее руки уже лежали на широких костлявых плечах этого постороннего, но до тоски и ужаса желанного мужчины – и тут легкий треск эфира прервался, словно кто-то третий бесцеремонно ворвался в комнату:
- Внимание! Внимание! Говорит руководитель гражданской обороны Санкт-Петербурга. Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!
2. Двор
Блокпоста на Киевском шоссе не было еще несколько дней назад, когда Владислав с Василисой наудачу ехали в ее деревенский дом. Теперь же длинная пестрая вереница машин, груженных сверх мыслимого, ожидала проверки документов; как всегда бывает в первые дни любого начинания, у наскоро установленного шлагбаума толпились перед невозмутимыми автоматчиками возмущенные люди, выскочившие из переполненных автомобилей, присевших от тяжести, как псы; голосили решительные женщины в мятых футболках, а сквозь открытые на жаре окна несся обиженный вой усталых детей. Из города, после утренней тревоги сразу же объявленного на военном положении, не выпускали даже не успевших вывезти семьи дачников, имевших участки в садоводствах вокруг мелких городков Ленинградской области. Проехать можно было только с документами о наличии зимних домов круглогодичного проживания и пропусков к этим домам – бумажек, в каждую из которых можно было вписать не более двух человек «гостей», что немедленно и сделала Василиса, после того как, припарковав свой внедорожник на обочине, сбегала на пост и оперативно выяснила условия проезда. Их машина оказалась одной из немногих пропущенных – и вслед прорвавшимся из обреченного города «счастливцам» неслись завистливые проклятия, явно указывавшие на невысокое мнение честных трудящихся о «чертовых куркулях», якобы и тут ухитрившихся сунуть военным миллионную взятку.
Пока, стоя у опущенного окна их машины, немолодой сержант дотошно проверял удостоверения личности водителя и пассажиров, по его свинцовому лицу ровно ничего нельзя было понять об их дальнейшей судьбе (могли попросту взять за шкварник и выбросить на дорогу, как только что поступили с толстозадым низеньким человечком, теперь качавшим права перед словно окаменевшим начальником в низко надвинутой каске).
- Можете проезжать, – наконец, хмуро бросил сержант, не отдавая чести, и ткнул бумаги в руки Василисе.
Водительское стекло сразу же медленно поползло верх, но до того, как оно полностью поднялось, в машине ясно слышен был сиплый визг кругленькой, на тонких ножках и с широким, расплывшимся темно-грязным пятном пробора в желтых жирных волосах дамы – жены скандалившего толстячка:
- Паразиты!!! Сначала жрали за наш счет годами!!! А теперь в замки свои едут с б….ями!!! – это она углядела холеное лицо и ухоженные волосы женщины, уверенно и властно общавшейся с военными, сразу же безошибочно дав ей то же определение, что и «недостойный иерей Герман», только употребив более привычное в народе словечко. – И теперь будут там в бассейнах плавать и икру жрать!!! А мы тут либо с голоду сдохнем, либо живьем сгорим!!! Чтоб вам там своими деликатесами подавиться!!! И машины ваши чтоб все повзрывались нах!..
Визг затихал вдали, машина быстро набирала скорость на почти пустом шоссе.
- Бедные люди… – проговорил отец Петр. – Не ведают, что творят. Господи, прости ей, не возвращай на голову этой несчастной ее проклятие.
- А она права, между прочим, – ввернул с заднего сиденья Владислав. – Раз уж до такого дошло, так выпустили бы из города всех желающих. В случае… если опять, как сегодня… но по-настоящему… Все-таки на порядок меньше жертв получилось бы.
Сегодня в четвертом часу утра сирены грянули в тот момент, когда адресаты странного послания из-за иконного оклада, уже распределив в кабинете настоятеля окраинной Петербургской церкви Преображения поклажу по рюкзакам и сумкам, помогали священнику бережно пристроить и спрятать на груди довольно объемную дароносицу. Все замерли, как громом пораженные.
- Вот и все, – тихо сказала Василиса. – Не успели. А прятаться негде…
В новом, только лет десять как освященном, будто игрушечном храме с синими стенами и бронзовыми куполами и правда, почти не было подвала, как и в ближайших хрупких новостройках, обреченных быть попросту сдутыми с лица земли, – а до метро минут пятнадцать только езды на машине.
- Так просто? – наивно спросил Влад. – Раз – и все? Вот прям щас? Не может быть…
Обе овцы с инстинктивной надеждой уставились на своего застывшего пастыря. Отец Петр набрал воздуха побольше и – взял себя в руки:
- Ничего не будет. Не бойтесь. Это еще не то. Отец Герман знал, что делает, – («Интересно, я действительно верю в то, что говорю?» – параллельно спросил он сам себя глубоко внутри.) – В любом случае, деваться нам некуда. Бросайте все и идем к амвону, – он еще подумал, что лучше бы, если что, встретить судьбу в алтаре, как подобает сану, прихватив туда и верного алтарника Владислава, – но как было бросить Василису одну среди трубящей, подобно архангелам, ночи в темной церкви, которая вот-вот превратится в прах?
И его озарило – самым натуральным образом:
- Слушайте, может, давайте, я вас обвенчаю по-быстрому? А то и правда, не ровен час – и того… во грехе предстанете…
Ребята переглянулись и синхронно кивнули, продолжая испуганно есть глазами священника. Он метнулся в алтарь облачаться – и все это время отчетливо различал именно трубный звук с небес, звук, который мешался с прерывистым воем сирены и нес в себе не мелкий животный страх погибающей плоти, а величественную угрозу суда Божьего. Он вышел:
- Готовы? – и начал безо всяких предисловий: – Слава Тебе, Боже наш, слава тебе… Блаженны вси, боящиеся Господа…
Пока венчал – архангелы все трубили, брачующиеся едва дышали и двигались, как полупарализованные – а его охватило замечательное вдохновение: и за дьякона пропел, и за хор. Глашение труб небесных оборвалось только в самом конце, перед отпустом, и «Иже в Кане Галилейстей пришествием Своим честен брак показавый…» отец Петр прочел уже в полной тишине, выдохнул, и добавил по-простому:
- Вот и все. А вы боялись.
- Внимание, граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги! – возвестил в этот миг бархатный мужской голос, каким только признаваться в любви.
- Родители есть у тебя, Василиса? – спросил, что-то вспомнив, настоятель. – У тебя, Влад, знаю – мама. Позвони ей, скажи, что жив, и благословение родительское возьми на поездку… Ну, или напиши хотя бы, чтобы на сложные вопросы не отвечать…
- А не слишком ли мы взрослые для этого? – резко спросила новобрачная. – Да и матери нет у меня уже года четыре. Рак. А с отцом не общаюсь. Он, сестра говорила, в Псков перебрался, подальше отсюда и от нас с сестрой. Дом ему там от кого-то перепал хороший… Не знаю и знать не хочу. В любом случае, в нашем регионе Псков сейчас не ловится.
- Мы никогда не слишком взрослые для своих родителей, – мягко сказал отец Петр. – Моих давно нет, не то я позвонил бы…
- Я напишу, но утром, – заверил Влад. – Сейчас они с Ванькой, наверное, еще в себя не пришли.
Теперь, когда они благополучно миновали военный кордон, он сосредоточенно набирал эсэмэску для матери, морща лоб и аккуратно тыча пальцем в мелкие буковки виртуальной клавиатуры и шепча: «…обо мне не… беспокойся… бла-го-сло-ви… бе-ре-ги… вань-ку…» – и, закончив дело, смущенно пояснил, что, мол, сто лет не писал смс-ки, разучился… Василиса не отвечала, уверенно ведя мощную послушную машину и думая о своем, отец Петр шепотом читал по памяти утреннее правило. День занимался паркий и туманный, до Василисиной деревни Веретенниково оставалось не более трех часов пути.
* * *
Молодой отец Валентин ровно ничего не знал, но напуган был так заметно, что заикался:
- Вчера матушка ездила на рынок в Остров – ну, и стояла там в очереди з-за п-потрохами… А прямо п-позади нее – двое парней самого страшного вида – и один д-другого спрашивает: «После того, как рванет, – ты к-куда первым делом пойдешь?». Другой отвечает: «Ну, в магазин, наверное: там же в-водки набрать можно на год вперед». А первый учит: «Дурак ты, дурак – в дом попа идти н-надо: у этого бездельника всего полно и в доме, и в подвале, а, главное, три попадьи-целочки, а з-защитить некому, так что и одного ножа хватит»… Это они не про меня, это про другого какого-то священника говорили – но ведь здесь то же самое! – пока не грохнуло, держимся кое-как, и полицию, кажется, еще можно вызвать – но уж после! Тогда они везде хозяевами станут, как т-только атомная пыль осядет – и куда мне деваться?! У меня д-девочек не три, а шесть, матушке тридцать лет – а я один! Кто нас защитит? П-прихожане? Да им дай Бог самим уцелеть!
- И что – совсем некуда семью отправить? – тихо спросила, прихлебывая смородиновый чай, Василиса.
- Совсем. Родственников никого. Дом – и тот не наш, епархии п-принадлежит. Х-хоть в лес беги… – отец Валентин обхватил голову руками и ненадолго притих, уставившись в одну точку, и один Бог знал, что видели в те секунды его остекленевшие глаза. – А вы мне сказки какие-то рассказываете… Сюжетик для д-дешевого фильмеца… Про письмо из прошлого к спасителям мира… И это, конечно, вы трое… Вы сами-то понимаете, что д-делаете? – потерев лицо ладонями, безнадежно проговорил он через некоторое время.
- А на Бога ты, отче, совсем, что ли, не уповаешь? – шепотом спросил отец Петр. – Сам-то веруешь вообще?
- Верую, а как же, – спокойно отозвался отец Валентин. – Верую и знаю, что Он от века многое п-попускает: массовые убийства, насилие над детьми, вспарывание животов беременным женщинам – мы с м-матушкой как раз седьмого ждем… Не надо ничего г-говорить – я прекрасно знаю: земная жизнь – ничто, а там убиенных ждет святость и вечное блаженство, мученическая кровь вопиет к небу, претерпевший до к-конца спасется – и так далее. Тому и прихожан учу – а что мне остается. Но я слабый человек, и мне не хочется, чтобы моя семья такое п-претерпела для обретения святости. Не надо святости. Обойдемся. Нам бы где-нибудь у подножия северного склона рая притулиться – и то хорошо будет. После того, как своей смертью умрем – хотя бы от радиации, или что Он там еще пошлет п-после всего этого… Но только не так, как эти, на рынке д-договаривались... Только бы не так, Господи.
- Подножие северного склона – тоже немалая честь, – задумчиво сказал вдруг Влад. – Ее еще заслужить надо…
- Ладно, пойдемте, – поднялась Василиса, брезгливо отодвигая кобальтовую тарелочку с сухариками. – Не объесть бы их: все-таки шесть поповен…
С легкой укоризной глянув на жену, Влад попытался смягчить ее откровенное хамство:
- Ну, не знаете, так не знаете… На нет и суда нет. За хлеб за соль – спасибо. Пора нам…
- Неужели так-таки и не помнишь, батёк, даже кто до тебя служил тут? – еле сдерживая гнев, спросил отец Петр: ему было ужасно обидно, что без пользы потерян час, и, в какой стороне искать, по-прежнему неведомо.
- Ну, помню что-то… смутно… – с большой неохотой сдался отец Валентин. – Он н-нестарый еще был, просто больной очень, оттого и на покой отправили… Звали, кажется, Андреем… Из потомственных – вон, в окно посмотрите, видите – могила в ограде? Там отец его родной лежит, до него здесь настоятелем был, лет сорок, как умер.
- То есть… То есть, его отец, может, и в войну тут служил?! – воскликнул Влад. – Чего вы молчали-то?! Он наверняка знал этого Германа, и сыну мог рассказать!
- Так церковь немцы и открыли, как только пришли. И сами, говорят, здесь молились – кирх-то нет нигде. А священника, естественно, п-поставили того же, который и до закрытия служил. После войны его, конечно, в лагеря за сотрудничество… Потом вернулся, как Сталин умер… Но п-подробностей не знаю, отца Андрея спросите, если жив еще. Год назад был жив, бабы бегали… – все с тем же нежеланием цедил слова настоятель единственной на несколько окрестных сел церкви свв. Киприана и Устинии.
- Слушай, батя, что из тебя каждое слово клещами тянуть надо! Сказал бы сразу, мы б уже к нему ехали! – вспылил, наконец, отец Петр. – Где он живет, показывай…
- Так он – это… Типа, младостарец. Бабы говорят – сильный молитвенник, «открыто» ему что-то там… Ну, короче, все та же полуязыческая тяга народа к чудесам… Учу их учу… Очередного живого святого сделали – а он и не противится. Целый штат хожалок держит. П-послушания на своих чад накладывает: одной дуре, например, с мужем жить запретил, и тот с ней развелся, другой не велел щенков топить – и теперь пять здоровых кобелей зубастых у них по деревне б-бегают и кур воруют, третьей… А ну его! – с откровенной гадливостью он махнул рукой: – Терпеть таких не могу. А вас он еще и не примет, пожалуй. Заставит неделю ждать, а сам и на крыльцо не выйдет. Хожалки скажут: смиряет вас батюшка, п-потерпите.
- Ничего, – грозно сказал отец Петр, подымаясь. – Надо будет – мы и сами войдем. Я тебя спросил – где живет он? Не темни давай, у нас времени мало!
- Ну да, конечно, – скривился Валентин. – Мир спасать – это вам не о м-многодетной семье беспокоиться. На хуторе он. То есть, это бывшая деревня, Солнцево называлась, но теперь там один дом уцелел – его. Раньше дорога была песчаная п-проезжая, теперь заросла. Но вездеход ваш пройдет, я думаю, – он отодвинул занавеску и показал в окно: – Во-он туда езжайте, спасители вы наши, за теми елками д-дорога… Или что от нее осталось.
Отец Андрей был на кого-то очень сильно похож – именно на кого-то из святых. Он был из тех, кого немудрящие люди обычно называют «старчиками»: небольшого росточка, худенький, в латаном-перелатанном выцветшем подряснике, с жиденькими седыми космами и бороденкой под стать – но с яркими глазами настоящего небесного цвета, ничуть не поблекшими за годы, очень внимательными, со знаменитым гипнотизирующим взглядом «насквозь» – так что рядом с ним каждый человек немедленно вспоминал о собственной скверности, видной чудному старцу, как на ладони. Не выйти к незваным гостям он не мог, так как при подъезде их большой пыльной машины уже стоял на второй ступеньке ветхого крыльца давно не крашенного, осевшего набок дома, возвышаясь над небольшим стадом грязно-коричневых овец, свободно гуляющих по участку: одна из них, не испытывая никаких гонений, смачно объедала листья и завязи ягод со смородинового куста, снимая их с ветки длинными губами, как жеманная женщина деликатно обирает с шампура куски сочного шашлыка.
- Отец Андрей? – чуть ли не на ходу выскочив из машины, отец Петр запрыгал в кроссовках среди овечьего дерьма, подобрав собственный, только что для солидности надетый поверх футболки подрясник, боясь, что хитрый старец улизнет в дом и запрется. – Мы к вам по срочному делу! Только не уходите!
Но тот и не думал уходить, со спокойной внимательностью разглядывая собрата и двух его быстро подтянувшихся спутников, немедленно занявших по бокам от вожатого позицию не то стражей, не то оруженосцев.
- Здравствуйте, – наконец, вежливо проговорил он дребезжащим голосом, и что-то в мягкости тона и скромности кивка сразу выдало в нем уцелевшего интеллигента минимум в пятом поколении. – Пожалуйста, проходите…
Ожидавшие более холодного приема гости воспряли духом и, после того, как священники поприветствовали друг друга по чину, супруги один за другим подошли под благословение – и оба сразу заметили, что было оно не формальным жестом с барственным подставлением ручки под поцелуй, а индивидуальной для каждого краткой молитвой, сопровождаемой острым взглядом в лицо. Но никто не успел больше и слова сказать, как, отодвинув внушительным бедром своего подопечного, на крыльце возникла самая настоящая «хожалка» – далеко не старая, но сознательно принявшая образ пожилой христианки женщина в глухом платке и черном платье до пят. Ее рыхлое лицо, отмеченное резкой сибирской широкоскулостью, вовсе не украшали квадратные очки в железной оправе, делавшие светлые глаза за толстыми стеклами похожими на крошечные стальные буравчики.
- Вы откуда тут? – строго спросила она мгновенно оробевших в ее присутствии пришельцев. – Вы кто? Паломники? Надо предупреждать. Батюшка не принимает. Он болен. Приезжайте в другой раз, – и, по-хозяйски взяв священника за плечо, одним махом развернула его тщедушное тельце к двери; она, верно, хотела оправдаться перед старцем за свой недосмотр, по которому три посторонних человека оказались в тесном с ним контакте без ее пригляда. – Пойдемте, батюшка, вам надо полежать…
Но тут ее покорный питомец неожиданно заартачился и задергал тощим плечиком, примирительно бормоча:
- Погоди, Марьюшка, погоди… Тут дело, кажется, важное… Не сердись, Марьюшка… – та даже растерялась от такого неповиновения и попробовала сопротивляться, чуть ли не насильно таща старика в дом и делая за его спиной раздраженные жесты в сторону непрошеных визитеров.
- Ступай. Ступай, говорю, ослушница, – твердым высоким голосом вдруг изрек кроткий батюшка.
Окатив «паломников» сколь безмолвным, столь и безмерным презрением, даже на расстоянии ощущавшимся, как ведро помоев, хожалка круто повернулась и скрылась в глубине дома. Все вошли вслед за ней – и оказалось еще хуже: в старой деревенской избе стоял насыщенный смрад хлева, грязи, мочи, кухонных тряпок и дряхлости. Другая хожалка – помоложе, с поджатыми губами – принялась накрывать стол к чаю, демонстративно брякая чашками.
- Я здесь ни есть, ни пить не смогу, – шепнула Василиса на ухо отцу Петру. – Это ужас. Давайте откажемся, быстро спросим и уйдем…
Он кивнул и откашлялся:
- Мы вас, отец Андрей, долго беспокоить не будем. Нам только спросить – и все. Не слышали ли вы про такого священника здесь в округе – Германа? Он в старые времена, лет девяносто-сто назад служил. Может, отец ваш помнил его? Он ничего не рассказывал?
Старец задумчиво опустился на седой от времени диван, мимоходом указав гостям на разнородные стулья – «Да вы присаживайтесь…», – и было видно, что он не притворяется, а напряженно думает. Поднял голову, покачал головой с большим сожалением:
- Нет. Я точно не знаю. Сто лет! Вы шутите? Сто лет назад служил мой отец, но церковь закрыли большевики – тогда он устроился в колхоз бухгалтером… И до немцев проработал – они сюда прямо в начале войны пришли, чуть не в июне: ведь их наступление прямо здесь и было, со стороны Латвии… Как они церковь открыли, отец сам служить прибежал – народ по молитве изголодался, на коленях по паперти ползли ко входу – так он рассказывал… Немцы поначалу мирно с населением обращались, честно себя освободителями считали, пока партизаны не появились… Ну, тогда уж – само собой… – он вздохнул: – Я этого не помню. Я через десять лет после войны родился. Отца-то сразу, в сорок четвертом, посадили – за пособничество оккупантам… Но маму не тронули, и она дождалась его – десять лет ждала… Вот я и появился… Последыш их… Те-то дети, что до войны у них родились, до войны и умерли… Папа вообще неохотно рассказывал – боли много было… Отец Герман, отец Герман… Нет, не припомню… Может, приезжий… – его слабый, будто негромко брякающая в стакане алюминиевая ложечка, голос замер; он еще подумал, пожевал губами, поднял голову: – Понимаю, что не праздный у вас вопрос – да и сердце подсказывает… А вот ничем не могу помочь… Самому жалко. И… и страшно, – неожиданно закончил он.
Но выпить чаю в этом доме им все-таки пришлось. Потому что почти новая, продвинутая, не исчерпавшая даже гарантийного срока обслуживания машина Василисы на ровном месте отказалась заводиться, и при попытке повернуть ключ только насмешливо постукивала, будто наманикюренными ногтями по компьютерной клавиатуре.
- Картина Репина «Приплыли», – спокойно сказал Владислав.
- Это стартер, – с ходу определил опытный отец Петр.
- Она на гарантии, – гордо сообщила Василиса.
- Ну да, – кивнул на окно ее свежеиспеченный супруг. – И станция гарантийного техобслуживания «Мерседесов» как раз за углом.
В этот момент у водительской дверцы протяжно проблеяла овца.
Всей тройке пришлось идти сдаваться обратно в вонючий дом, населенный злобными хожалками и еще каким-то подозрительным народом обоего пола, постоянно высовывавшим любопытные головы из-за крашенных масляной краской дверей. Но отец Андрей, казалось, обрадовался нормальным, психически уравновешенным людям, не задававшим ему драматических вопросов о будущем, не просившим благословения на перекладку печи, без которого она принципиально невозможна, не жаловавшимся на привычный домашний мордобой с целью добыть «намоленной» водички, чтоб тайком добавить ее в стакан водки для духовного исцеления очередного страждущего недугом пьянства… Он вдруг проявил ради них свои самые неожиданные качества, до того решительно задавленные ближним кругом сверхзаботливых женщин, – а именно, толковую, хоть и кроткую распорядительность. Из пугающих бородатых личностей, с мрачным неодобрением наблюдавших одетую в ярко-синие джинсы и алую блузку красивую пришлую женщину без платка, были немедленно выделены двое сноровистых мужиков, оказавшихся на деле робкими и почтительными. «Старец» с твердой деликатностью отрядил их разобраться в поломке, и, глядя на обомлевшую при виде них Василису, с едва заметной усмешкой успокоил ее:
- Вы не волнуйтесь, хуже они не сделают… Лучше – могут, а хуже – нет. Который Ванюшенька – тот бывший автомеханик, все колхозные машины по винтику мог разобрать-собрать, а тот, что Санюшенька, – судовым электриком работал. Дважды в кругосветке был. По совместительству – мой водитель, когда я выбираюсь куда-то изредка… А вообще – оба мастера на все руки, цены им нет. Так что, Василисушка, мы с вами пока чайку попьем, пряничками закусим… Да вы не смущайтесь, хожалочки мои чисто готовят, и даже посуду с мылом моют… иногда… Ну, а сами-то конечно… Баню на всех топить каждую неделю – дров не напасешься… Да и нет их у нас, дров-то… Раз в месяц от души попаримся – и за счастье…
«Старчик» повернулся и пошел перед гостями в горницу. Тут все заметили, что под подрясником, чуть ниже живота, у него как будто спрятано что-то – круглое, тяжелое, размером с хорошую брюкву, которое он привычно поддерживал на ходу обеими руками. Садясь у стола, он аккуратно расположил свою ношу на коленях, и под тканью обрисовался круглый бугор. Отец Андрей перехватил три сошедшихся в этой точке взгляда и коротко, мелко засмеялся:
- Ах, это? Это ничего особенного – грыжа… Уж лет десять, как выпала, вот и ношу в руках свое сокровище… Подвязать нельзя – велика. И не отпустишь – до колен уж болтается. Руками приходится – ну, да ничего, я привык…
После минутной ледяной паузы отец Петр нерешительно спросил:
- И что – неоперабельная? Врачи-то что – отказались?
- Помилуйте, – махнул сухой лапкой «старец». – Какие еще врачи? Среди паломничков моих – вот послал Господь испытание! – и врачи случаются, на операцию зовут… А как оперироваться? Зачем? Другие сами на себя вериги вешают, власяницы носят, чтоб, значит, плоть смирялась… А мне ничего этого не требуется: Сам Хозяин подвесил – носи, дескать, Андрюшенька, этот малый шарик, а ничем другим себя не утруждай...
Василиса побледнела:
- Я выйду… Туалет ведь в прихожей у вас?
- В сенях, – поправил отец Андрей. – Налево там дверочка, найдете…
Она быстро вышла, но буквально через минуту снова растерянно заглянула в комнату:
- Извините, батюшка, можно мне мужа на минуточку?.. Влад, пожалуйста…
И, когда он, отставив щербатую чашку с двумя вишенками на боку, извинился и закрыл за собой дверь, новобрачная в судорожных рыданиях кинулась к нему на грудь:
- Влад, где мы?! Что здесь творится?! У нас здесь Россия или Африка?! Что же это такое! Я не могу так, не могу! Тут не только не попьешь, но и не пописаешь!!! Давай уедем, давай пешком уйдем! – настоящие слезы одна за другой скатывались по ее щекам к подбородку…
Влад недоуменно открыл тяжелую деревянную дверь в уборную:
- Ну-ка, ну-ка… В одном таком помещении мы уже нашли, можно сказать, клад…
- На свою голову… – вставила, не переставая плакать, Василиса.
За дверью молодой человек сначала увидел ничем не примечательный деревенский туалет, даже довольно опрятный: на покрытом чистым линолеумом возвышении красовался красивый голубой стульчак с поднятой крышкой – над традиционной деревенской дырой. Но чуть приблизившись, Влад громко ахнул: прямо под дыркой, очень близко внизу, толклись среди нечистот и грязной бумаги многочисленные овцы – там, вероятно, находился их теплый загон при доме… То, что довело Василису до слез, его рассмешило:
- Ты что! Ведь это же – раритет! Такого больше нигде, никогда! Прикинь, как нам повезло – помнишь знаменитый хэштэг: «Теперь ты видел все!»? Так вот – это мы! – он шагнул к жене, притянул к себе ее поникшую голову: – Сейчас они починят твой танк, и мы уедем отсюда… Такого больше не будет, обещаю... Хотя, что я – теперь! – могу обещать…
За чаем письмо прочитали только отцу Андрею, пояснив дело по мере возможности помягче, – в присутствии третьей, очень молчаливой и сосредоточенной хожалки, подававшей на стол и потом тихонько в сторонке прибиравшейся. Прибралась – и безмолвно ушла. Но только когда сразу после чая три путника все-таки вырвались во двор, куда давно уж вкатили в четыре руки их машину, которая теперь беспомощная, как обездвиженный бегемот с больным зубом, в чьей разинутой и на распорку поставленной пасти ковыряется безжалостный ветеринар, стояла посреди двора с распахнутыми дверцами и поднятой крышкой капота в окружении прерывисто бекающих овец и уже не двух, а нескольких мужиков, деловито сующих руки в ее деликатное нутро, мнимо равнодушные хожалки в количестве четырех особей стояли тут же поодаль – и все они, и даже, наверное, овцы! – уже были полностью, с подробностями осведомлены о содержании письма «иерея Германа» и с удовольствием судили и рядили на этот счет. При появлении «отступника, убийцы и блудницы» стало тихо, и все взоры обратились на них, причем, убийца с отступником приняли на себя взгляды разве что любопытные, а на блудницу сразу обрушился незримый, но сокрушительный шквал всеобщего осуждения.
- Ну, что, Пятый Элемент, – откровенно подмигнул Василисе один из мужчин, трудившихся над капотом, – собственным телом будешь конец света останавливать? Может, помочь тебе? Вдвоем-то сподручней, поди! Надо же, какое фэнтэзи крутое, и фильмов не надо… – и он деликатно, почти вежливо взаржал.
- Пусть и так, – тихо сказал Василиса, опустив глаза. – Но Бог и над фэнтэзи властен.
- Да ладно, ладно, – сдулся мужичок. – Я – чего? Я вон, машину твою починяю. Может, вклад этим внесу… В общее дело. Сейчас вот завинтим тут… И тут…
- Где теперь искать-то будете этого Германа своего? – сочувственно спросила между тем отца Петра одна из закутанных женщин. – Может, в лесу он жил? Отшельник какой-нибудь прозорливый? Леса тут до сих пор стоят о-го-го какие, снаружи-то, вдоль трасс повырубили много, но есть где спрятаться, если что…
- Вот-вот… – с тайной злобой вставила другая. – Думаете в леса податься – конец света пересидеть? А потом, когда есть там нечего станет, выйдете по деревням грабить? Знаете, как случается: были православные, стали – разбойники.
- Господь и в лесу отделит своих от чужих, не беспокойтесь, матушка, – серьезно ответил отец Петр. – Велит в лес – значит, в лес. Под воду – значит, под воду.
- Готово! – объявили от машины, и трое «паломничков» враз бросились туда.
- Пробуй, Пятый Элемент! – гордо вытирая черные руки о собственные заскорузлые штаны, призвал мужичок. – Заводи! – и через секунду: – Что, затарахтела твоя раскорячка? Ну, то-то…
Кинулись благодарить и прощаться, совсем позабыв в эти минуты о смирном отце Андрее, стоявшем на крыльце с ладонью, изо всех сил прижатой ко лбу. Он смотрел перед собой поголубевшими до цвета радонового озера глазами и, казалось, шепотом повторял какое-то слово…
- Ну, уж не знаем, где вы возьмете этого вашего иерея, а уж тем паче – каких-то дев-воинов, которые должны вам помочь… Для того нужно, чтоб здесь женская часть какая-то стояла, или еще что – да только не было такого, – пожал плечами, открывая ворота, один из только что принимавших участие в ремонте парней. – Не найдете вы их.
Влад усмехнулся, пиная ногой заросший мхом камень во дворе:
- Богу надо будет – он из камней нам этих дев сделает… Ну, мужики… Бывайте… Спасибо вам… Удачи, и… И чтоб ничего плохого…
- Стойте!!! – прозвенел вдруг с крыльца пронзительный надтреснутый голос, и все, как по команде обернулись к светло-серебряной фигурке отца Андрея, все также неуклюже державшего под животом свои живые вериги. – Я вспомнил, – зазвучало в полной тишине. – Вспомнил, как вы начали – лес, отшельник… Герка-дурачок! Да, Герка, точно Герка – так его звали… Мне лет пять было – мать с отцом чай пили за столом, разговаривали… вспоминали… а я кубики рядом складывал и слушал… Была тут где-то в лесу охотничья заимка старая, с прош… с позапрошлого века еще… И поселился там отшельник, молился, вроде… Только он ненастоящий священник был, из покаявшихся обновленцев. Они рукополагали… Отец говорил – не считается, а я думаю теперь – почему же? Не обязательно. В обновленчестве тоже преемственность сохранялась, ведь чуть не пол епископата тогда отпало на время… Бегали к нему деревенские – лечил он их, говорили, – и еще как успешно! Не заговорами, нет… По-настоящему как-то… Ну, и, после нескольких исцелений бабы, как водятся, его за святого держать стали… А в деревнях звали «Герка-дурачок», потому как безбожность тогда была, ну, вы знаете… Власти его терпели как-то, не трогали, может, и из них кого вылечил… А вот немцы, отец с матерью вспоминали, убили его. Насмерть прикладами забили. Уж не знаю, чем он им не угодил… Почитатели, которые к нему бегали, забрали и похоронили где-то тайком – не на кладбище, нет там такой могилы… – он выдохнул и отнял пальцы ото лба. – Вот. Это точно все. Передал, как помню. Разве что, еще от себя добавлю, что не очень далеко его заимка должна быть, потому что бегали часто, мать рассказывала – а может, и сама бегала… А если б далеко – не набегаешься… И от воды близко, скорей всего, иначе бы откуда ее брать? Но это уж домыслы мои… А про дев – ни одной мыслишки… Вот горе-то…
* * *
На ночь Василиса прицепила браслет от комаров к волосам – и все равно к утру ее лицо оказалось искусанным, в тяжелой голове переливалась тягучая боль, из самых безнадежных: та, что бывает от недосыпа. Спать в узком спальном мешке, вытянув руки по швам, на жесткой подстилке в палатке, по соседству с двумя счастливыми мужиками, один из которых мирно сопит, а другой издает здоровый раскатистый храп – и все это на фоне равномерного комариного звона! – удавалось только урывками. Шея затекала, кости ломило, невероятно хотелось забыться – но сон у нее с детства был капризным, соизволяя унести ее на мягких теплых крыльях только в полной тишине и темноте: самый тихий разговор родителей в соседней комнате был когда-то для школьницы пыткой, треск радио на кухне доводил до беззвучного припадка, ритмичное дыхание сестренки на соседней кровати походило на звуки кузнечных мехов… Только дойдя до полного изнеможения, она проваливалась в хрупкий неглубокий сон – и так всю жизнь, пока не обрела собственное жилье… А теперь эта ночь в летнем лесу ее, кажется, доконала.
Злая, одеревеневшая, испытывая тупую боль в животе, Василиса кое-как выпуталась из мешка и на четвереньках вылезла из их большой «семейной» палатки, стоявшей на широкой поляне у поросшего камышом небольшого озера, в которое впадала и вовсе заболоченная речушка. Да, они нашли заросшие мхом кирпичи от печки и трухлявые до мягкости, почти сравнявшиеся с землей бревна, из которых, возможно, действительно полтора века назад была сложена симпатичная лесная избушка, где в начале давней войны теоретически мог обитать некий лесной отшельник, подписавшийся как священник, а на деле бывший неизвестно кем. Но эта, поначалу ставшая причиной бурной радости находка оказалась полностью бесполезной: никаких дальнейших указаний зеленые и рыхлые от старости бревна не содержали, ни малейших идей относительно продолжения пути ни у кого не возникало – кроме одной, которую пока все держали при себе, – а именно, что их дурацкая экспедиция, так многообещающе начавшаяся, благополучно зашла в тупик.
Согнувшись в три погибели, Василиса присела на низкий валун, живот мучительно крутило, несмотря на то, что она уже третий день принимала мощные антибиотики, с полным основанием подозревая у себя вульгарную дизентерию, а то еще и что похуже: добытую из встреченных на пути чистых на вид ручейков воду они добросовестно кипятили на костре – но кто знает, что именно она в себе содержала, эта мерзкая, отдающая болотом жидкость… Василиса давно уже не носила розовых очков, числя себя не в романтиках, а в честных реалистах, – и уже больше суток ее преследовала странная мысль: а действительно ли им предназначалось то письмо? Ведь под определение его адресатов сегодня подпадали практически все граждане содрогающегося в последних конвульсиях мира! Кто не отступник теперь, покажите его! Все ли крещеные просто верят в Бога, не говоря уже о причастности к таинствам?! Не убийцы – существуют ли в природе? Ха! А миллионы не рождённых, на куски разодранных хирургическими ножами детей? А уж блудницы… Есть ли в Европе хоть одна женщина, вышедшая замуж девственницей за единственного в жизни мужчину? Три любых человека обоего пола, обнаружившие то письмо, с чистой совестью могли бы сказать, что оно писалось специально для них! А «повезло» именно им троим, самым старательным и романтичным, – и теперь два дурака (один плеснул себе кипятком на руку, и теперь его приходится по два раза на дню перевязывать, другой подвернул ногу и едва ковыляет, спасибо, фиксатор для голеностопа кто-то догадался сунуть в поклажу) и одна дура с дизентерийным поносом – всего трое городских идиотов бестолково болтаются, искусанные комарьем, немытые и усталые, ни к чему путному не приспособленные, по незнакомому лесу, имея древнюю бумажную карту, на которой даже не знают, что именно искать! И это в те дни, когда их родной город вот-вот будет стерт с лица земли, да и не только город… И при этом имеют потрясающую задачу: «поднять на молитву», способную отсрочить конец света, некоего «Герку-дурачка», которого возможно, убили немцы девяносто лет назад – и не здесь, а в деревне Веретенниково! Да сказали бы ей об этом еще неделю назад – она бы… Нет, не рассмеялась в лицо, потому что это не смешно, – а просто молча покрутила бы пальцем у виска. Священник, которому она верила, – отрекся от Христа, ее любимый человек оказался малолетним отморозком-убийцей – но это все, кажется, высокие духовные страдания, а ей, как и всякой бабе, отведена самая низкая и презренная роль. Блудница, скажите, пожалуйста… Но она людей живьем не сжигала и Бога не хулила, между прочим. Да и блудница-то какая-то ненастоящая…
В пятнадцатом году Василиса работала моделью в дорогом петербургском модном доме, обслуживавшем нужды начинающих сановных дам – тех, чей кошелек уже позволял им не одеваться в готовое платье даже известных брендов, но и не имел еще достаточно толщины для того, чтобы оплачивать услуги европейских кутюрье. Рабочий день ее был предельно изнуряющим – примерки, подготовка и съемки длились порой по четырнадцать часов, а в дни подиумных показов иногда не приходилось спать сутками: моделям платили прилично, но за людей не держали. Она тогда рискнула взять ипотеку, пока давали, и переехала в собственную однокомнатную квартиру – только вот после ежемесячных выплат и самых необходимых трат денег почти не оставалось даже на еду… Позируя в журналах, рекламе и на сайте, одетая то в роскошный шелковый пеньюар цвета электрик, то в пунцовый бархат вечернего платья, в своем шкафу она видела едва ли больше четырех приличных «прикидов» – и те выглядели уже такими затасканными, что стыдно было появляться в общей раздевалке, где томные коллеги небрежно скидывали на руки стилистов дорогую, каждый день разную одежду… Но для Василисы собственный дом и возможность личной независимости всегда были делом первостатейным, ради которого любые жертвы оправданы. И все же, когда гречневая каша и ядовитая лапша быстрого приготовления перестали лезть в горло, она решилась поговорить с хозяйкой о повышении жалованья, считая, что уже достаточно отработала сверхурочных неоплаченных часов. «На повышение зарплаты не рассчитывай, а халтурку подбросить могу – только чтоб не кобенилась», – не отрывая изумрудных глаз от монитора, сказала хозяйка, а потом, все так же постукивая по белой клавиатуре унизанными кольцами пальчиками, спокойно пояснила суть дела: нужно интимно обслуживать богатых и чистых клиентов. Очень богатых, на обычных б…й не согласных. Тех, которым подавай «порядочных женщин» по вызову – и такая популяция существует, как выяснилось. Таких, чтоб и поговорить могли, понять, и утешить, и стихи Ахматовой почитать. Или Бродского – кому что нравится. «Ты думаешь – что? Подружки твои бриллианты в зубы вставляют на съемочные деньги? Не смеши. Я к тебе приглядывалась. Теперь вижу – потянешь. Первым тебе поприличней кого найду, чтобы постепенно привыкала, я ведь тоже не зверь, чтоб сразу под толстозадого волосатого вонючку тебя подкладывать… Это потом, когда вкус денежек почувствуешь… Все. Свободна. Ожидай вызов». И вызов не замедлил. Буквально на следующий день Василису, принаряженную в одно из почти скромных платьев прошлогодней коллекции, отвезли в шикарный загородный дом на берегу Финского залива. Встретил ее застенчивый мужчина со светлыми волосами и приветливым взглядом. Это лицо довольно часто мелькало на экране, да и фамилия была на слуху: начинающая блудница вспомнила, что он – председатель совета директоров не самого крупного, но именно нефтяного холдинга, у нее даже была дисконтная карта небольшой сети его бюджетных автозаправок, где кормилась ее неприхотливая малолитражка.
- Сергей, – представился молодой человек, протягивая руку вверх ладонью, и, когда она нерешительно положила свою поверх, он склонился церемонно поцеловать ей пальчики. – Проходите пожалуйста.
Их ожидал легкий ужин у камина – с королевскими креветками, свежайшей черной икрой в тарталетках со взбитыми сливками и «Вдовой Клико» на хрустящем льду в огромном серебряном ведре. Вкус креветок Василиса еще смутно помнила, а все остальное близко видела первый раз.
- Вам придется проявить ко мне снисходительность, – сказал Сергей, когда они в молчании выпили по бокалу. – Я, видите ли, впервые позволяю себе такое… приключение.
Она чуть не брякнула: «Я тоже», – но вовремя прикусила язык, улыбнулась и вежливо спросила:
- Что вас заставило? Не одиночество же? – ей смутно чувствовалось, что нужно установить хотя бы минимальный душевный контакт с человеком, которого придется через некоторое время обнять, – ну и пусть: он, хотя бы, молод, красив и, скорей всего, не садист и не извращенец.
Сергей тоже улыбнулся. У него оказалась замечательная мальчишеская улыбка – и вообще он был весь какой-то светлый и словно непорченый, хотя сам род деятельности, казалось, исключал любую романтику из его образа.
- Я хочу, чтобы вы знали, – стеснительно заговорил он. – Я нормальный человек, не любитель разврата или чего-то подобного… У меня прекрасная жена и две маленькие дочки, и все они меня очень любят. Я мог бы быть самым счастливым мужчиной на свете. Но, видите ли… Не знаю даже, как и объяснить… Любовь ко мне моей жены слишком… чиста. Для нее физические отношения – только жертва. И так будет всегда. Знаете, есть такие женщины, которые целомудренны от природы, не могут и не хотят измениться – для них это просто лишнее. Я ее очень люблю. Очень. И она родила мне двух девочек, которые для меня – всё. Но я… Понимаете, с ней я каждый раз чувствую себя насильником. Да, я законный муж, у нее супружеский долг, который она вынуждена исполнять, – и при этом она меня как бы жалеет, вот что. За то, что я не могу любить ее так же чисто и следую животным инстинктам… Смотрит на меня со снисходительной нежностью. Невыносимой… Да. То есть это с моей стороны всегда какое-то… – он замолчал на миг, судорожно подыскивая слова, и твердо закончил мысль: – …бархатное изнасилование. И мне совестно лезть к ней с этим слишком уж часто, тем более, теперь, когда мы ждем третьего ребенка: она мечтает подарить мне еще и сына… А заводить любовницу… Боже мой, зачем мне любовница, когда я люблю свою жену? Зачем этот треугольник, страдания, скандалы… Да и времени у меня нет на это… Вот, например, завтра в шесть утра я должен вылететь в Лондон на заседание совета директоров, к трем часам дня вернуться в Петербург, подписать в офисе все бумаги и провести рабочее совещание, потом у губернатора прием – а ведь еще поесть когда-то надо, но это, скорей всего, в самолете – если не засну… Какая тут любовница… И зачем? Поэтому я подумал, что такие вот встречи… с вами… Когда мне показали вашу фотографию, я понял, что вы – женщина моего типа… – он внезапно глянул Василисе в глаза: – Как вы думаете, это все очень безнравственно с моей стороны?
За время его короткой речи она успела произвести в уме краткую переоценку привычных ценностей: например, ей до той минуты казалось, что все богатые люди – непременно презренные трутни, циничные в любви и паразитирующие на чужом труде, но вот оказалось, что первый же встретившийся близко богатей не знает точно, когда и что поест, и не имеет достаточно времени для сна – как и средства, способного вылечить от фригидности обожаемую жену. Получалось, что он может позавидовать любому скромному труженику, обеспеченному домашним ужином, восьмичасовым сном и страстными ласками любимой женщины. Василиса посмотрела на Сергея озадаченно:
- Точно – нет, – убежденно сказала она. – Во всяком случае, это лучше, чем если бы вы принялись обвинять жену в том, что она «лежит, как бревно» и не желает даже притвориться, чтобы доставить вам удовольствие.
Она первая подвинулась ближе по гладкой коже дивана и успокоительно погладила ему руку:
- Вы тоже человек. Вы не можете все время жить с чувством без вины виноватого. Вы все правильно делаете…
До того дня несколько любовников, сменивших друг друга в Василисиной сложной и одинокой жизни, были объектами ее влюбленности или страсти, объединенными с ней общими идеями и ценностями, так или иначе затронувшими сокровенные душевные струны, – теперь же она впервые трогала человека совсем постороннего, принадлежавшего другой женщине и чуждой среде, и было страшно, волнительно и интересно… Ничего особенного не произошло: он неуверенно привлек девушку к себе и дружески поцеловал сначала в висок: видно было, что человек стесняется самого себя – да и за подругу по продажной любви ему очень стыдно… Дело все-таки сладили кое-как, а потом смертельно уставший за день председатель совета директоров немедленно вырубился рядом со своей случайной подругой на необъятных просторах шестиспальной кровати – а Василиса так и не заснула в этой чужой постели, тупо глядя на отвесно валивший снег за высоким, готического очерка окном.
Днем она сказала начальнице, что хочет остаться простой моделью с обычной зарплатой и второй раз на такой подвиг не пойдет даже под расстрелом.
- Еще пулю на тебя тратить, – криво усмехнулась хозяйка, как и прежде, глядя в монитор. – Как же. Дать по башке и бросить в пруд. Если я решу, так и будет. Но я добрая. Поэтому просто убирайся. И чтоб я больше тебя не видела.
Из кабинета она вышла полностью безработной обладательницей ипотечного кредита накануне очередной выплаты. Правда, при желании, можно было устроиться в «Макдональдс» на раздачу гамбургеров…
Через неделю, когда Василиса получила уже много самых разнообразных «отлупов» от возможных работодателей, и самое приемлемым местом работы оказалась должность инспектора рекламных щитов в лифтах, на дисплее смартфона высветился незнакомый номер. Голос она узнала сразу – и вдруг самым невероятным образом, еще до того, как Сергей раскрыл ей суть своего предложения, она уже знала, что целиком и полностью спасена – надолго. Вечером она снова сидела с бокалом «Вдовы Клико» у высокого, уставленного драгоценными безделушками камина, разглядывала фотографии совершенно одинаковых и вовсе не симпатичных надутых девчонок, разодетых принцессами, слушала восторженные рассказы своего теперь уже частного клиента о недосягаемой чистоте и прочих редких достоинствах жены с рыбьей кровью, которой он, как он искренне был уверен, изменять не собирался – ибо она, Василиса, просто не считалась… Ублажить в постели этого не разбалованного холодной супругой и очень скромного мужика не составляло вообще никакого труда, потому что он легко глотал самую откровенную лесть и покупался на примитивнейшее притворство – а потом быстро и благодарно засыпал, довольный собой и купленной за деньги женщиной… А у Василисы, призываемой нечасто, но всегда неожиданно, успешно выплачивалась ипотека, сам собой обновлялся гардероб, она окончила несколько интересных краткосрочных курсов, хорошо понимая, что рог изобилия, внезапно опрокинувшийся над ее головой, не может работать от вечного двигателя…
Так и случилось. Через полгода, когда в окне готического разреза уже валил другой снег – то яблоневый цвет был сорван внезапным бессолым балтийским штормом – она, так и не научившаяся засыпать в чужой постели рядом с посторонним человеком, почувствовала его виноватое прикосновение к локтю:
- Василиса, ты только пойми меня правильно… Видишь ли, это у нас последняя встреча… Моей жене на днях предстоит кесарево – родится наш мальчик, ты знаешь, я говорил… Так вот, я долго думал и понял: я больше не вправе. Будь как будет, но эти… свидания должны прекратиться.
Интересно, может, он надеялся, что она успела тайно в него влюбиться и теперь зарыдает, умоляя сжалиться?
- Помоги мне с работой. Я знаю, что ты можешь, – спокойно сказала Василиса. – Мне тоже не улыбается мысль продолжать такую… – она намеренно громко усмехнулась, – …карьеру.
- Разумеется! – заторопился Сергей. – Я и сам только что хотел предложить! Ты столько сделала для меня... Во всех смыслах… Скажи – какой ты видишь свою идеальную должность? Только не скромничай! Я благодарен тебе и сделаю все, что в моих силах…
Василиса повернула голову на подушке и с настоящим интересом глянула на него: вот, оказывается, как выглядит богатый благодетель. Неужели все так просто? Она вот так вот с первого раза протянула руку – и выхватила счастливый билет? Значит, это не сказки, и такое случается?
- Я мечтаю владеть глянцевым журналом для женщин. Но не для гламурных дурочек – с косметикой и историями из жизни американских кинозвезд. А настоящий, живой, где будет все: жизнь как бывает она у обычной женщины, только такая, в которой есть место надежде, понимаешь? И муж, и ребенок, и собака, и платья… И обязательно – творчество. Вот чего я хочу, – твердо потребовала гетера второго тысячелетия.
- Ну, что там будет, – зависит только от тебя, – другим, незнакомым ей тоном – тем, которым вел совещания, отдавал приказы, разорял одних людей и поднимал из праха других, сказал ее клиент. – Старт ты получишь – это мне вообще ничего не стоит. Но дальше – сама. Профукаешь – извини. Обратиться ко мне ты больше не сможешь. Думаю, через неделю все предварительные документы подготовят. На первых порах тебе помогут. Подробности скоро сообщат…
Про дополнительный, уже полностью по его инициативе предоставленный бонус Василиса узнала в конце месяца, когда попыталась внести очередной ипотечный взнос: долг оказался целиком погашенным – квартира отныне безраздельно принадлежала ей… В двадцать третьем году, когда, бегло просматривая за утренним кофе ленту новостей, она прочла о крушении в Африке частного самолета, в котором погиб его владелец – некий «российский бизнесмен с семьей», ей и в голову не пришло, что это мог быть он, главный Дед Мороз ее жизни, – настолько далеко теперь отодвинулся Сергей в ее неблагодарной памяти и сознании… А когда пришло, и стало известно, что именно он разбился с женой и тремя детьми на самолете нефтяного шейха, с которым они только что подписали миллиардный контракт, она почему-то пожалела не его, и даже не детей – а только жену, Бог весть отчего! Просто взяла и расплескалась в горячей Африке, испарилась от тропической жары еще до приезда спасателей, неделю собиравших потом в саванне мелкие «биологические фрагменты», ее ледяная кровь… Из-за которой у незнакомой ей женщины – с кровью горячей! – вся жизнь пошла не так, как должна была изначально. Такая холодная кровь. Такая сильная…
В тот год еще много чего случилось: умерла у Василисы нелюбимая и никогда не любившая дочерей мать, любившая только саму себя – настолько, что искренне огорчалась успехам старшей дочери и злорадствовала над поражениями лишь по той причине, что не сбылись ее предсказания, брошенные вслед непокорной, покинувшей отчий дом. Отказавшись идти проторенной тремя поколениями успешных юристов дорогой, ослушница обязана была потерпеть жестокий жизненный крах и приползти к снисходительной маме с повинной, покорно приняв упреки и заслуженное наказание. Встречи Василисы с матерью проходили забавно для первой и мучительно для второй: сухая, прямая, как деревянный аршин, в сдержанном платье цвета пепельной розы, мать вновь и вновь рассказывала дочери о том, как та несчастна, поправ родительские заветы, причем говорила об этом с комической серьезностью, как об очевидном факте, словно дочь стояла перед ней оборванная, растрепанная и в слезах. «Мама, но мне нравится моя жизнь и работа! Я счастлива, пойми!» – намеренно стремясь довести ситуацию до пика абсурда, невинно вставляла дочь – и получала то, чего втайне ждала: лекцию о том, как она сама себя обманывает и как горько заплачет, когда пелена буйной фантазии спадет с ее бесстыжих глаз, но будет поздно. Рак поджелудочной железы унес маму за три месяца в возрасте пятидесяти одного года – и на похоронах Василисе удалось даже всплакнуть при воспоминаниях о каком-то давнем семейном походе в цирк, когда родители еще любили друг друга и верили в будущее грамотное счастье своих детей… Да, все четверо очень смеялись тогда над трюками ученых собачек – и вот младшая сестра стоит по другую сторону открытого гроба хмурая и глядит на старшую исподлобья: какую долю та потребует себе из материнского наследства? Неужели и серьги с изумрудами захочет? Ну, мы еще поборемся… Василиса обошла гроб, взяла сестру за руку и шепнула: «Все мамины украшения – тебе. И квартира тоже. Это справедливо, ведь ты за ней ухаживала в эти страшные месяцы…». Сестра неприлично просияла. Семейный мир был восстановлен, а стремительно спивающийся отец споро выдворен из общей петербургской квартиры на задворки Пскова в собственный, «родовой», как он гордо возглашал, дом…
Василиса выпрямилась, сколь могла, на замшелом камне. Утро набирало силу: за ночь словно невидимая небесная метла намела туман над спокойным, цвета топленого молока озером, но столь же незримый художник уже быстро-быстро прикасался умелой кистью к верхушкам синеватых деревьев, добавляя им розового, золотого, бирюзового, капая яркой краской на темный ковер палой хвои, опыляя сверкающей пудрой острые концы колючей голубой травы в сером прибрежном песке… Но… «Есть времена, где солнце – смертный грех», и именно теперь такое время в очередной раз наставало. Смотреть на безмятежно резвящийся рассвет теперь было, будто играть с хохочущим карапузом, который не знает, что у него нашли рак, – а ты знаешь.
Отец ее любил ранние утра – за это она его все детство почти проненавидела, ведь задолго до звона первого в доме будильника уже гремел по квартире зычный папин баритон: «Э-ге-гей, лежебоки! Пора вставать! Так всю жизнь проспите! А ну, – па-адъем в воздушно-десантных!». А старшей дочке его казалось, что она только час, как заснула по-настоящему…
Василиса достала смартфон и вышла в меню контактов. Да, так и есть, этот номер никуда не делся, хоть и семь с лишним лет не высвечивался на экране… Она легонько прикоснулась пальцем к стеклу – и пошли длинные гудки. Неужели спит? Нет, гудок прервался и послышалось знакомое преувеличенно бодрое «Алё!».
- Папа, это Василиса, дочь твоя… Здравствуй, – неуверенно произнесла она. – Я тут в Псковской области, поэтому твой номер и ловит… Я… я просто так звоню. Как у тебя дела?
Несколько секунд ошеломленного молчания – и отец выдохнул трубное:
- До-оча! Ты-ы? – и засуетился: – Как дела, как дела – как сажа бела… Что обо мне-то говорить – дела мои стариковские: здесь болит, тут прихватывает… Крыша на веранде провалилась… Ты о себе лучше, о себе… Работаешь? Замуж, наверно, вышла? Внуки у меня, поди, большие уже?
- Работаю, да. В журнале… Все там же… Здорова, вроде… Замуж – да, вышла… Муж – хороший… Детей нет пока… В такое время не решаемся… А в общем все нормально… Вот наладится в стране – потому что не может же не наладиться, правда? – тогда и внуков тебе родим… Скоро… – растерянно бормотала Василиса, сама не ожидавшая, что голос отца, его явная радость и беспокойство так разбередят душу.
- А что же – заехать ко мне, раз ты рядом где-то? – робко спросил отец, и за голосом вдруг встало его подслеповатое простое лицо, жалкая полуулыбка с двумя золотыми фиксами в верхнем ряду слева… – Может, и муж твой с тобой, так покажешь отцу и зятя? От Маринки-то так и не дождался… Не торопится замуж сеструха твоя...
- Может, и заедем… – вполне искренне допуская это, сказала дочь. – Вот только с делом одним тут управимся… И сразу позвоню.
- Заедешь?! Правда?! – столько тоски и радости прозвучало в этих двух словах, что Василиса почувствовала физическую боль в сердце. – Ты приезжай, доча! Заканчивай там дело свое поскорей – благословляю, чтоб удачно! И приезжай… Хоть посмотреть на тебя – и то… Хоть посмотреть…
Ей смутно почудилось, что отец плачет. Василиса никогда не видела его слез. Ни разу не случилось, чтобы он расчувствовался, проявил сентиментальность или просто сердечную мягкость – она привыкла считать его жестокосердным, даже несколько эмоционально тупым – и вот, пожалуйста… Даже, вроде бы, родительское благословение получила – от атеиста. Отцу Петру рассказать – он, поди, обрадуется…
Вера и Церковь, а с ними и что-то, похожее на любовь, вошли в суровую жизнь Василисы так же неожиданно, как и все остальное. «А что это у вас, миленькая, на левой груди за ямочка?» – озабоченно спросила ее вдруг врач-терапевт в чистой клинике без очередей и с цветами в коридорах, прикладывая сверкающий фонендоскоп к ее вздрагивающей от холодных прикосновений коже. Действительно, маленькая впадинка появилась недавно, была принята хозяйкой весьма благосклонно и немедленно поставлена в один ряд с таковой на правой щеке и целых двух, красовавшихся на крестце, никогда лично не виденных, но подробно описанных мужчинами… А доктор уже бросила неинтересный бронхит и жестко, болезненно щупала ей молочные железы и подмышки – и лицо ее все каменело и каменело.
- У вас в молочной железе твердое неподвижное уплотнение, от которого к коже идет тяж, где и образовалась ямка, – наконец, мрачно сообщила она. – Также и подмышечные узлы слева я нахожу увеличенными. Все это серьезные симптомы. Собственно, и бронхит ваш может оказаться не бронхитом…
- Симптомы… чего? – выдавила опешившая пациентка.
Врач ее не слушала:
- Я вам выписываю направление к онкологу и советую обратиться к нему немедленно, – она взглянула на часы, – по возможности, уже сегодня. А все назначенные им обследования пройти завтра же за деньги, не ожидая никакой бесплатной очереди…
- Что, все так плохо? – нашла в себе силы спокойно спросить Василиса.
- Я не знаю. Это не моя специализация. Но от того, что я случайно сегодня заметила, ни один честный врач не позволит себе отмахнуться, – и добавила стандартную врачебную фразу, которую иначе, как издевательской, назвать нельзя: – Вы только, пожалуйста, заранее не волнуйтесь…
Не волноваться?! К онкологу удалось записаться только на завтра, и к утру полсуток просидевшая в интернете Василиса сама была способна поставить себе вполне грамотный диагноз и назначить адекватное лечение. Диагноз этот назывался – рак молочной железы второй или даже третьей стадии с метастазами в легкие и региональные лимфатические узлы. Лечение предстояло комбинированное: обширная радикальная операция с предшествующей и последующей агрессивной химиотерапией, которая сама по себе способна превратить человека в инвалида навсегда. Нюансы диагноза и лечения установят анализы. Все остальное можно было считать доказанным. Жить оставалось не более трех-четырех лет, и эти годы пройдут в адских муках бесполезного лечения и неминуемо закончатся смертью в таких страданиях, которые даже наркотики опиумного ряда облегчают очень незначительно. Вот и все. А так хорошо начиналось… Наутро она отправилась в кабинет онколога без всякого волнения: волнуются те, у кого впереди неизвестность.
Выбравшись из родного двора, Василиса, как всегда, должна была проехать мимо одной из небольших новостроечных церковок, в последнее время почти обязательно украшающих хоть мало-мальски пристойный жилой квартал, – здания, которое всегда обходила с легким недоумением: неужели в двадцать первом веке еще находятся люди, которые серьезно полагают, что где-то наверху существует некая невидимая канцелярия, ведущая строгий счет их злым и добрым поступкам, – канцелярия, Главного Столоначальника которой необходимо вечно задабривать неведомыми жертвами? Она знала только, что крещена в детстве, хранила крошечный золотой крестик в шкатулке с кольцами и никогда не спорила с теми, кто говорил, что Бог есть: в конце концов, Он мог и оказаться – не таким, конечно, благостным, как на иконах, а другим, не постижимым ни в каком смысле, – и в этом случае ссориться с Ним было бы не полезно… Но размышления обо всем этом всегда были отлагаемы на далекое «потом» – когда время наступит задуматься.
Церковь как раз отпирала простым ключом старушка в длинном сером пальто и старомодной вязаной шапочке. «Зайду поставлю свечку, мало ли что…», – вдруг малодушно решила Василиса и, удачно припарковавшись неподалеку, поднялась на крыльцо вслед за старушкой, которая, испуганно оглянувшись, оказалась молодой женщиной – ее ровесницей, выразившей желание немедленно, даже не раздеваясь, продать захожанке любую свечу.
- Куда тут за здравие ставить? – спросила, озираясь в полутьме, Василиса.
- Да куда хотите, – пожала плечами девушка-старушка, перебравшаяся за маленький прилавок. – Только вон к тому кресту – о упокоении, а ко всему остальному – о здравии… – и, небрежно мотнув головой в сторону ближайшей иконы Божьей Матери, она вдруг произнесла эпохальную, все вокруг перевернувшую фразу: – Вот, например, «Всецарица», ей от рака молятся, – и деловито полезла за чем-то под свой экзотический прилавочек…
Очень строгая Мать восседала на троне с Младенцем на левой руке, а по обе стороны от Нее, как неумолимая стража, возвышались два ангела, в ликах которых не наблюдалось никакой снисходительности к людским слабостям, ибо сами ангелы их не имели; они распростерли в жестах суровой защиты свои золотые крылья – один над Божественным Ребенком, другой – над в пурпур одетой Девой. Дрожащей рукой Василиса кое-как укрепила свечу. Лампада еще не горела, и огня было негде добыть – помогла свечница, подбежавшая с прозаической зажигалкой, – после чего сразу заметалась между иконами, и везде по-новогоднему затеплились зеленые, синие и красные лампады…
Василиса уже определенно чувствовала неудобный твердый комок под мышкой, почти ощущала бурный рост злокачественных клеток в идеальной полусфере груди, которой никогда не кормить младенца… Она посмотрела на Богородицу и прошептала:
- Сделай так, чтобы это оказалось не то… Сделай – и тогда я поверю, что Ты – Мать Бога, Который пришел принести Любовь, а не страдания… Видишь ли, если бы я уже точно знала свой диагноз, – то получилось бы, что я прошу о чуде… Но я не знаю, только подозреваю, могу и ошибаться – но Ты-то знаешь и можешь все… О чуде я бы не просила – я его недостойна. И никто не достоин. Поэтому, раз там, может, и не рак, – то пусть так и окажется… Пожалуйста. Я знаю, что за это должна что-то пообещать и сдержать слово – так, наверное, будет правильно… Ну, что ж, я обещаю: если эта шишка – какое-нибудь фуфло, то я буду ходить в церковь, исповедоваться, причащаться и молиться, как сумею. Правда, серое пальто и вязаную шапку я не надену ни за какие блага – но ведь и без этого можно как-нибудь обойтись?
Ее свеча ровно и высоко горела, не кренясь, не сгибаясь, не роняя уродливых капель, застывающих наростами. С минуту просто посмотрев на огонь, Василиса повернулась и быстро вышла, устыдившись в душе своего слабоволия. Надо было поторопиться – где-то уже заседал жестокий Синедрион – чтобы успеть вовремя вывести ее на личную Дорогу Скорби…
К обеду она была уже дома. Без рака. С простой и понятной мастопатией, симметрично вспухшими от инфекции лимфоузлами с обеих сторон и бронхитом, от испуга почти прошедшим самопроизвольно. Но клятва была дана, а клятвы полагается держать… Не было никакого оглушительного духовного переворота, ненасытного пира вернувшейся заблудшей дочери в доме распростершего всепрощающие объятия Отца – ничего из светлого периода «новоначальности», часто с умилением вспоминаемого многими воцерковленными, чей пир давно закончился, и началась ежедневная изнурительная работа на Отцовском поле. Шаг за шагом, почти безболезненно, без жадного любопытства – теплохладно, по обязанности, понуро возвращалась заблудшая овца за высокую стену загона, где, толкаясь среди других таких же безмозглых овец, поначалу ощущала себя овцой особой, более свободной, имеющий возможность в любой момент легко перепрыгнуть через изгородь и умчаться навстречу волкам. Все просто: у Василисы-то были ощутимые, избавляющие от всеобщей униженности деньги, а окружали ее, вполне очевидно, люди, вплотную подступившие к черте нищеты, что явствовало из рыночной одежды, клеенчатых сумок и туфель абсолютно всех прихожанок бедного, почти захолустного прихода. Толпа опрятных по случаю воскресенья женщин, за кадром самостоятельно готовящих нехитрую стряпню, прибирающихся в тесных жилищах, таскающихся на ненавистную малооплачиваемую работу без проблеска творчества, по ночам тайно плачущих в подушку от одиночества – или мечтающих о нем под кулаками решившего в очередной раз «поучить» распоясавшуюся жену венчаного супруга. Несколько мужчин, мелькавших в толпе, не считались, будучи, по наблюдениям востроглазой Василисы, приведенными в добровольно-принудительном порядке подкаблучниками. В этой компании гламурная дама, даже старательно одевшаяся в приглушенные цвета и повязавшая голову старушечьим платком, чтобы совсем уж «обабиться», все равно выглядела, как вылетевший в форточку волнистый попугайчик, попавший в стаю воробьев, – прежде всего, из-за общей внешней ухоженности, которую было ничем не скрыть, из-за отсутствия глубоко запрятанной затравленности во взгляде и горящего поперек лба, как печать антихриста, клейма неудачницы, пустившей насмарку жизнь и теперь собирающей жалкие ее осколки… С некоторыми Василиса по душам поговорила, обнаружив богатый материал для своих популярных статей из цикла «Как не надо жить», – и, ничтоже сумняшися, натуралистично описала их злоключения, изменив имена, – впрочем, последнее было, кажется, вовсе необязательным, ибо героини статей к журналам, подобным ее детищу, в киосках даже руку не протягивали. Она терпеть не могла, глухо ненавидела таких – сначала под корень срубивших все хорошее, что было в них заложено, а потом прибежавших в церковь, чтобы услышать, что все можно исправить… Нельзя, искренне думала Василиса. Жизнь можно переменить, только начав ее сначала и вложив титанический труд, – как она, упорно не желавшая взять на содержание, на что ей часто намекали, одну из героических многодетных семей, ежегодно выстреливающих младенцем, обреченным на жалкое существование и беспросветное будущее. Василиса предпочитала надеть себе на палец лишний бриллиант, смотревшийся там вполне на месте и приносивший больше пользы – ибо он радовал свою хозяйку, а любая многодетная семья выглядела источником уныния… Пользы от посещения храма ей не было никакой: способы жизни, навязываемые там, были Василисе органически чужды, да и вообще малоприменимы в современном мире, и каждый раз, переступая порог храма, она говорила себе, что это последний раз – сколько можно из-за минутного давно утратившего остроту испуга притворяться перед собой и людьми, что ей это нравится?! И все-таки, с досады пропустив два воскресенья, бунтарка обнаруживала, что ей именно не хватает фальшивого пения «народного хора», дешевых печатных икон на обшитых пластиком стенах, таинственной громады расшитой золотом священнической фелони в раскрытых Царских вратах, настороженного ожидания с заранее скрещенными на груди руками в последние минуты перед выносом Чаши… Что-то тонкое и острое постепенно пробивало брешь в жесткой и надменной душе ослушницы и блудницы, проникая в ее мягкую и болезненную, как пульпа в зубе, сердцевину, – и новоначальная христианка притихла, с напряженным изумлением прислушиваясь к себе…
Ее роман с алтарником Владиславом, оказавшимся известным блогером, на чей канал она даже когда-то рассеянно подписалась, сначала был для нее родом экзотики: поговорка, до сих пор безоговорочно уважаемая в ее кругах, – «Если ты умный, то почему бедный?» – доказывала ей, что она связалась с дураком. Но она могла себе это позволить, в конце концов, – и вообще любила бросать вызов обществу! Подружки уверяли Василису, что она посадила на шею альфонса, пристроившегося на содержание, – но и без них, пройдя жестокую школу жизни, она приучилась не доверять никому, кроме себя… И вдруг обнаружила, что впервые доверяет другому человеку – своему возлюбленному… Женщину, незаметно дошедшую до середины четвертого десятка, смутило, поразило, обескуражило страшное открытие, что доверие к тому, с кем спишь и ешь, оказалось для нее вещью противоестественной!
А потом последовало много других, чудных и чудесных открытий: например, что может быть голодно и весело в преддверье конца света, в который сердце все равно по-настоящему не верило, – потому что как это может быть: то, чего человечество начало бояться, едва выйдя из колыбели, вдруг случится на ее коротеньком веку? Мама родила дочерей в середине девяностых, когда считалось опасным на улицу выходить – не то что рожать! – и ничего, все прошло и восстановилось, восстановится и теперь, изо всех сил убеждала она себя… Она вновь откроет свой журнал и быстро наберет обороты, и, да, родит Владу мальчика и девочку и покажет миру еще и то, что может быть и образцовой матерью тоже! А пока почти с удовольствием играла «в бояки», подписавшись на щекочущую нервы экспедицию в Псковские леса, приключение, доставлявшее почти наслаждение: ведь здесь, в нетронутом лесу, ранним утром после светлой прозрачной ночи, не существовало никаких угроз войны, нападения, последнего крушения мира – все это отодвинулось не на второй, а на дальний, почти незаметный план, и она вполне понимала тех людей, которые массово уходили теперь в дальние деревни и чуть ли не в тайгу, туда, где не могли достать их ужасы постхристианской цивилизации… Так было, пока не началась дизентерия. А с ее началом стало ясно, что романтика – романтикой, а пора домой. Тем более что идти дальше было, собственно, некуда.
Василиса поднялась с валуна, подхватила с земли прихваченную из палатки сумочку с предметами туалета. Постояла, прислушалась к собственному животу: за ночь он заметно поуспокоился, дизентерийные палочки начали, наверно, массово вымирать под воздействием старого доброго левомицетина, еще ее бабулей считавшегося самым надежным их истребителем. Василиса приняла твердое решение умыться на свободе, пока не проснулись приунывшие за последние сутки слегка покалеченные мужики, а потом жестоко разбудить их и принудить к серьезному разговору о перспективах и вообще о целесообразности дальнейшего сомнительного путешествия.
Ища место почище, бывшая блудница, а ныне честная венчаная жена пошла вдоль бойкого изгибистого ручейка, лопотливо несшего свои неглубокие воды в сторону озера, желая умыться в каком-никаком, а проточном водоеме, нашла пологое сухое место, бросила легкую ношу на очередной валун – небольшой, плоский и зеленый от мха – наклонилась к воде и опасливо погрузила ладони… Прозрачная! Даже будто голубоватая! Поеживаясь от еще не избытой воздухом влажности, женщина осторожно протерла лицо холодной водой, вспомнила, что маленькое личное полотенце осталось в сумочке, и шагнула обратно к валуну. Что-то в рисунке мха показалось ей странным; забыв на миг о полотенце, Василиса приблизила мокрое лицо к камню, отодвинула пестрый квадрат дорожной косметички, вгляделась пристальней: кое-где мох располагался не пятнами, а как бы короткими линиями, вдоль и поперек. Еще ни о чем таком не думая, движимая, как Пандора, самым женским из всех чувств, она слегка потерла поверхность пальцами – и сухой, пластом лежавший мох стал понемногу отделяться, оставляя заполненными зеленью только неглубокие, сглаженные временем бороздки… Они сложились в нечто, смутно напоминающее осмысленный рисунок: влево от кружка тянулась горизонтальная линия, прикрепленная к вертикальной… Это было на что-то очень похоже… Господи! Да ведь это же буква «ю»!!! Василиса уже стояла у валуна на коленях, ломая ногти, срывала мох, растирая древний камень рукавом куртки, и буквы – рядом с «ю», сверху и снизу – выпрыгивали перед ней одна за другой: «е»… «а»... «л»… «в»… «о»… «во-и»… И вот она уже неслась через лес сломя голову к палатке – немытая, растрепанная, запыхавшаяся… С размаху ворвалась в полутьму – на четвереньках – и принялась трясти и тормошить сонно отбивающихся мужчин, пронзительно крича:
- Вставайте! Вставайте! Я нашла их!!! Отец Петр! Влад! Я нашла! Нашла!!!
- Кого? – мутными спросонья глазами оба они непонимающе уставились на нее. – Кого – их?
Тяжело дыша, Василиса осела на пятки, сглотнула и прошептала:
- Их... Дев… Я нашла трех дев-воинов.
3. Отшельник
- Батюшка, да ты его только святой водичкой полей! – молодая брюхатая крестьянка по имени Анна стояла в единственной темной горнице крошечного охотничьего домика, прижимая к тяжелому, оседающему вниз животу льняную всклокоченную головку семилетнего мальчика, понуро сидящего на лавке. – Или отвару какого дай. Как Прасковье – она ведь тоже животом маялась. А ты ей настойки своей – коричневой такой – накапал да еще с собой в пузырек налил. Она его к вечеру допила – и к утру как рукой… Ей потрафил, а нам – нешто жалко? Глянь, как дите мучится… А нет – так ты его водичкой…
Герман схватился за голову:
- Как к вечеру допила?! Я ж ей велел… два раза в день по три капли… Там же в составе опиат… О, Господи, Господи, что здесь за люди!!! Да нет от этого никаких капель! Аппендицит у твоего сына – болезнь такая! Кишка… отросток слепой… гноем наполняется, пока не прорвет его! После – перитонит и смерть! И нельзя это лекарствами вылечить – только операция! Раньше еще прокол через прямую кишку делали, гной выпускали – но тут как повезет… А здесь как я прокол сделаю, когда ты в парня кувшин калгану влила, и у него там каловый завал теперь! В Остров его надо, в больницу – и на стол сразу! Только как…
Его сердце мучительно колотилось: священник там или не священник – а был он все-таки природный лекарь, чей ум направлен на телесное спасение нуждающихся, и вот уже четвертый год, затворившись для молитвы в родных местах, неподалеку от дотла сожженной усадьбы своего благодетеля, он все равно не мог не лечить окрестных селян, почти лишенных в своих деревнях какой-либо действенной медицины. Деревенские больницы Советская власть позакрывала, заменив их организованными при колхозах сомнительными «акушерско-фельдшерскими пунктами», где могли оказать только самую незамысловатую помощь: дать красного стрептоцида «от горла», аспирина «от лихорадки», салола от того же разнородного «живота», смазать йодом глубокую рану, изредка грубо ее зашить – ну, и принять неосложненные роды… Правда, если эти роды вдруг «на ровном месте» осложнялись, то доставить на телеге дико воющую роженицу с выпученными глазами в райцентр – город Остров – вполне могли и не успеть… С привычными травмами и болезнями крестьяне по старинке справлялись своими силами – точно так же, как это делали их предки в прошлом, позапрошлом – и тринадцатом, и десятом, и далее в глубь времен – веке… Роды принимали «опытные» бабки, гноящиеся раны прижигали раскаленной кочергой, обширные ожоги мазали подсолнечным маслом, обеспечивая пострадавшему долгую и мучительную смерть, лихорадящих, прямо по Некрасову, таскали в курятник под насест, распугивая угревшихся на яйцах куриц… «От живота» поили чаще всего отваром калгана, не заботясь о том, что стул после этого мог прекратиться на неделю, устроив болящему заворот кишок, – и жертвой как раз такого лечения, стал теперь едва вошедший в церковный возраст отрочества конопатый Лёнька, промучившийся болями внизу справа более трех суток. Все это время в него вливали губительный в случае аппендицита калган и клали страдальцу на живот не менее опасные емкости с горячей водой, вместо того, чтобы сразу отвезти в Остров, где его давно бы уж прооперировали! Живой, веселый, очаровательный, смышленый – еще прошлым летом сам выучился грамоте по выпрошенному у старого учителя дореволюционному букварю – белоголовый синеглазый Лёнька был обречен, причем, в самые ближайшие часы: ведь мать еще тащила его пешком к «святому целителю» четыре версты через лес и потащит так же обратно, а ребенку сейчас положен абсолютный покой! Аппендикс прорвется на обратном пути – и тогда, может, достанут тряскую телегу и повезут все-таки ребенка в райцентр, но будет поздно, поздно, поздно! Он умрет по дороге от болевого шока и перитонита – а если и нет, то все равно не изобрели еще в мире таких лекарств, чтобы спасти человека, у которого брюшина полна гноя! Отчаянье и гнев переполнили Германа – и выплеснулись:
- Ты что наделала, дура?! Глупая, тупая, темная баба!!! Ты почему сына в Остров в больницу не отвезла?! К врачам! Они могли бы спасти его! Но вместо этого ты сама погубила его калганом!!! Самолично!!! А теперь – что я тебе могу?! Какой отвар?!! Дура, дура, дура! Из-за темноты своей – убийца! Собственного ребенка в могилу сводишь и не моргаешь! У тебя сколько померло их?!! Четверо? Да всех можно было спасти, если б не тупость ваша деревенская!! А теперь и Лёнька… А ведь он большой уже… Ах, Господи, Боже, да почему же люди Твои такие идиоты!!! Такие скоты!! Как будто только вчера с четверенек встали!!! – он жестоко указал на ее распухшее брюхо: – А, впрочем, что тебе! У тебя там конвейер! Бесперебойное поступление младенцев! Не один, так другой, какая разница!
Анна обиженно набычилась, поджала разляпистые губы:
- Так что – не дашь нам капель? А Прасковье дал… – Она покосилась на свою маленькую корзинку, полную отборных куриных яиц: – Если хочешь, могу петуха старого тебе зарезать, если мало… А остальное колхоз отобрал… Даже козу отобрали – уж как я председателя просила… А он говорит – иначе раскулачим… Принесу тебе петуха – только спаси мне Леньку…
- Тьфу! – от беспомощности перед этой каменной стеной темноты Герман по-настоящему сплюнул на дощатый крашеный пол. – Не нужен мне твой петух! Не могу я ничего сделать! Упустила ты парня! Не-могу-я-вам-ничем-помочь!!! Понимаешь?!! Живот ему резать надо!!! Немедленно!!! А как я тут операцию сделаю! – и вдруг сердце глухо бухнуло, в душе быстро вскипела странная, будто извне посланная отвага.
- Ма-мка-а… – промычал вдруг Лёнька, до того терпеливо сносивший пререкания матери и «целителя». – Не давай ему меня резать… Я ж не боров… А живот-то как тянет, мамка… Сейчас кишки лопнут… Но резать не давай… Пусть порошок даст, как фелшар на пункте…
- Резать?!! – испугалась Анна, порывисто прижав к себе отпущенного было сына. – Кишки резать?!! Не дам!! С ума сошел!! Тебе чего – святой воды жалко?! Резать! Еще не хватало! Полдеревни ребятни животом маются, дрищут почем зря – и никто их не режет… Калгану попьют – и все… Резать? Лёньку?! Да не бывать такому, пока я жива!
Он хотел выкрикнуть ей в лицо: «Ну, так похоронишь!» – и одумался. Действовать следовало хитростью – и немедленно, потому что было совершенно очевидно, что Анна добровольно не даст оперировать сына. Благодаря принятому дерзкому решению пришло спокойствие и – откуда ни возьмись! – ни на чем не основанная уверенность.
- Вот что, Анна. Есть один способ – может, и подействует. Молитву я знаю одну – тайную. Только такую, что никто не должен слышать, кроме болящего. Сильная молитва, и читать ее надо… – он подумал над цифрой повнушительней, чтоб с ходу впечатлить ее дремучее сознание. – Тысячу раз. Но только чтоб кругом на три версты никого живого не было. Иначе смерть. Всем сразу. Значит, так: ты давай в деревню за петухом своим – да смотри, чтоб ощипала его дочиста да выпотрошила, и вымыла хорошенько… девять раз. Завернешь в три чистые тряпки и каждую перекрестишь… двенадцать раз, по числу апостолов. Только потом обратно иди – и обязательно по дроге триста раз медленно прочти Архангельское Обрадование. Вот тебе четки на сто молитв – три раза их переберешь. Сама знаешь: молитва матери и со дна моря достанет – так что помогай мне. Ясно?
Вот это было Анне прекрасно понятно: целитель и должен лечить молитвами, заговорами и намоленными отварами, а какими – это ему видней. Значит, не зря притащились в такую даль; а что сначала батюшка кобенился – так пятком яиц за такой заговор не отделаешься, петуха нести надо. Она повеселела:
- Все сделаю! Одна нога здесь, другая там! Бегом! Туда-назад обернусь – и не заметишь! А ты пока читай тут над Лёнькой свою чудесную молитву – да смотри, чтоб тысячу раз, без обману!
- Вот только бегом не надо! – забеспокоился «целитель». – Медленно иди и молитву твори, как сказал. Тут материнская обязательно нужна. Иначе моя может не подействовать.
Но Анна уж не слушала его: она крестила и шепотом увещевала о чем-то покорно кивавшего Лёньку, который заметно посерел и сник даже за время их короткого пребывания в избушке, потом перевязала потуже белый платок, подхватила обеими руками свой вполне созревший на вид живот, еще раз быстро приласкала сына, поклонилась на красный угол и вышла.
«Экая я скотина, – глядя ей вслед, укорил себя Герман. – Беременную женщину по лесу туда-сюда гонять… Как бы именно в лесу-то и не разродилась… Да ведь иначе чем ее угомонишь?». Огромные бурые босые ступни Анны быстро-быстро мелькали по серой колючей траве и острым прибрежным камушкам, не ощущая никакого неудобства. Это было то, что больше всего поражало Германа в крестьянах еще полвека назад, когда он, сын управляющего, случалось, бегал с местными парнями и девками то на гулянку, то на рыбалку. Ноги простых трудовых людей, надевавших обувь часто не ранее первого снега, казались ороговевшими и твердыми, будто копыта лошади, – и, вероятно, так оно и было: однажды, когда к отцу в контору зашел зачем-то молодой мужик, его босые подошвы именно стучали по струганному полу, точно он носил ботинки, – чудно было видеть и слышать! – и такие ступни люди нарабатывали себе сызмальства, почти не зная ни роковых порезов, ни глубоких смертоносных проколов…
Но нельзя было терять ни минуты – Герман вернулся и уложил Леньку на другую, более широкую лавку и велел не двигаться. Пристально взглянул мальчишке в лицо: осунувшееся от боли и бессонницы последних дней, оно было просто страдальческой маской – но, Божьей милостью, пока не маской Гиппократа! – и счет пошел на минуты. К счастью, печь топилась уже по случаю прохладного начала сентября, и он сразу вывалил в кастрюлю все без разбора инструменты из кожаного хирургического саквояжа, приобретенного еще в студенчестве, и грохнул кастрюлю на плиту, налив воды и язычески взмолившись: «Закипай, закипай скорее!!!». Руки… Перчаток нет, но есть вечная палочка-выручалочка – госпожа Карболка и пакет с белыми кристалликами каломели… Пока закипала вода – метнулся на улицу, сорвал с веревки две как раз успевшие высохнуть и в очередной раз выбелиться на солнце простыни – они сушились по соседству с запасным латаным-перелатанным подрясником, давно утратившим первоначальную черноту и даже последующую серость, – сизо-пятнистым, просвечивающим на солнце от ветхости… Привязанная невдалеке под деревом красивая, странного тигрового, черно-рыжего окраса коза по кличке Стрелка нерешительно произнесла свое нежное «М-ме-е», приветствуя хозяина, и, подняв хитрую желтоглазую морду от осенней невкусной травы, уставилась на него, ожидая дополнительной подачки. Она не дождалась – Герман рванулся обратно в дом, шепча на ходу Иисусову молитву – все те же заветные восемь слов, которые за три года так и остались только на грешных устах – да и на тех замирали при малейшем отвлечении… Какая там сердечная, когда и умной не стяжать, никакими трудами не заработать!
Он расстелил простыню на столе, достал припрятанные на особый – а куда уж «особее»! – случай, четыре свечи, приспособил одну в торце, три другие – слева на стальных зажимах, распечатал пачку стерильных марлевых салфеток, и другую – кетгута, добытые в Островской больнице… Слил в рукомойник воду из кипящей кастрюли, предательски загремевшей железом, и украдкой покосился на пластом лежавшего Лёньку: не испуган ли тот такими странными приготовлениями к чудодейственной молитве? Не догадался ли, что странный бородатый старик все-таки задумал его «резать», не сказав о том матери? Но мальчик измученно дремал на лавке после тяжелого похода, когда он топал за предприимчивой «мамкой» через лес с приступом острого аппендицита: в покое боль его, наверно, несколько унялась. Подумав, Герман вышел на двор и надел влажноватый чистый подрясник – все ж меньше микробов на нем! – потом вернулся в горницу и ласково тронул Лёньку за плечо:
- Поднимайся, малыш… Осторожно… Медленно… Вот так… Сейчас тебе нужно перелечь вот на этот стол… – и, в ответ на недоверчивый взгляд будто раненого зверка: – Да, требуется чтоб ты под свечами лежал, когда я молитву творить буду… И надо снять одежду, чтоб стать, как Адам… – «Господи, Отче, что я плету?!»
К счастью, мальчик не сопротивлялся и ни о чем не спрашивал, наверное, дойдя в своей болезни уже до стадии «делайте что хотите, только пусть эта боль кончится», – так что удалось его быстро раздеть и уложить на стол. Герман споро протер спиртом худенький впалый животик и накрыл ребенка второй простыней, которую быстро разрезал крестом на месте будущей операционной раны. Предстоял неприятный момент хлороформирования: сложив в несколько раз тонкую тряпку, он положил ее больному на лицо и, пока тот не успел опомниться, налил сверху хлороформа из пузырька – единственного, хранимого на страшный «всякий случай», который взял да и пришел – с синими, как озеро в июльский полдень, глазами и выгоревшими до белизны жесткими волосами, стриженными в кружок… А если лекарство выдохлось и не поможет? Не уснет Лёнька – и что тогда?! Герман прижал импровизированную наркозную маску к лицу ребенка – и тот забился, мотая головой и подвывая, две грязные, похожие на куриные, лапки в цыпках ухватились за руку врача, пытаясь отодрать ее от хрипящего рта – и вдруг начали слабеть, скользнули по подбородку… Герман лихорадочно пытался вспомнить, сколько нужно хлороформа на килограмм веса, не смог – ведь не он же давал пациентам наркоз! – добавил еще, нащупал пульс… Нечастый, но хорошего наполнения, он свидетельствовал о том, что беззащитный пациент спокойно спит, готовый к отчаянному вмешательству… Хирург поставил кастрюлю справа – услужливого ассистента, которому можно было протянуть руку ладонью вверх, коротко приказав: «Скальпель!», рядом не было – потом тщательно вымыл руки карболкой с каломелью и сам чуть не задохнулся от их ядовитых паров; наконец, подошел к столу, перекрестился, не касаясь себя перстами, перекрестил Лёньку, кастрюлю с инструментом… Поднял глаза на синий огонек лампадки, освещавшей только оклады икон, оставляя темными милые и грозные лики… «Господи, на что я иду… – прошептал Герман. – Но нельзя же было так оставить… Спаси и помилуй этого ребенка! И меня, грешного, тоже… Благослови, Отче! Помоги!». Он взял скальпель, занес его. Мелькнула последняя малодушная мысль-молитва: «Боже, что я делаю – я же последний раз оперировал лет пятнадцать назад… Я его зарежу… Не допусти этого!» – и тонкая полоска косого разреза мгновенно покрылась маленькими темно-вишневыми капельками…
* * *
Было это три года назад – осенью тридцать восьмого, когда он около года, как поселился на заброшенной охотничьей заимке в лесу, принадлежавшем когда-то доброму помещику, оплатившему образование сына своего беспутного управляющего. Немного подправил домик к зиме тридцать седьмого, в декабре нашел в осовеченной до тошноты деревне Веретенниково толкового печника и обзавелся с его помощью маленькой экономной печкой. Печка эта долго служила для о. Германа предметом сомнений и самобичеванья: ведь настоящие молитвенники, ушедшие в глубокий затвор, никогда не разнеживают преступным теплом свою плоть, а особо морозными, звенящими утрами прилежно отдирают от тощего ложа примерзшие за ночь волосы и бороду – а, впрочем, спать им положено сидя или, в крайнем случае, передремывать «на кулачке». Их тело постепенно становится невосприимчивым к холоду, жаре и укусам вездесущих насекомых – и тем выше воспаряет шаг за шагом освобождаемый от презренного гнета костей и мяса дух. Собственно, он так и собирался жить – но проклятый декабрь завернул столь лютыми холодами, что, казалось, промерзали насквозь даже зубы, а стоявшая колом схваченная морозом одежда омерзительно хрустела. По ночам душил нехороший нутряной кашель – словом, немощный дух совершенно пал при первых же трудностях и ни на какие подвиги был абсолютно не согласен. С печкой стало легче: огонь принес замечательный уют, неторопливую, осмысленную молитву – но вкупе с иногда полностью захватывавшей мечтательностью и жгучими даже тридцать лет спустя воспоминаниями, которые следовало гнать суровой метлой Иисусовой молитвы… И многое удалось выгнать – а это не смог: их последнюю встречу зимой десятого, поздно вечером, у порога старой любимой Мариинки.
Давали вагнеровскую «Тристана и Изольду», поставленную неким экзотическим Мейерхольдом, которую приличные люди ходили слушать лишь для того, чтобы подивиться чудачествам модного «новатора». Герман пришел один по даренному благодарным пациентом-тенором билету в партер – но так устал и намучился в тот день в собственной частной клинике, прооперировав шесть часов кряду, и все же не сумев спасти глотнувшую уксусной эссенции из-за несчастной любви гувернантку, что начал неприлично засыпать уже в середине первого акта, роняя голову на грудь и невольно тесня плечом брезгливо отклонявшегося соседа в золотых очках. Встал бы и ушел в антракте, но непонятное томление – а еще говорят, что предчувствий не существует! – заставило промучиться до конца: он то проваливался в пеструю бездну, несущую отголоски стремительной мелодии, то выныривал в скучный партер, зябко вздрагивая и слепо озираясь, – действие не увлекало его нисколько, музыка ранила дремлющий слух… В гардероб он вышел одним из первых, равнодушно сунул двугривенный в горсточкой, как для благословения, подставленные ладони кого-то смутного, накинувшего ему на плечи тяжелое пальто с бобром, шагнул в морозную, дымящуюся тьму Театральной, вдоль и поперек заставленной экипажами и новомодными авто, глянул влево, где нетерпеливо гарцевали дорогие «лихачи», хотел уж махнуть им – и услышал: «Герман!».
Евстолия, в огромном меховом капоре, делавшим очень маленьким и каким-то обезьяньим ее и без того небольшое милое лицо, в светлой пушистой накидке, спрятав руки в безразмерную муфту переливавшегося в газовом свете меха, стояла совсем рядом, у дверцы низкого элегантного автомобиля, открытой перед ней ливрейным, в желтых крагах и круглых запотевших очках шофером.
- Евстолия… – он непроизвольно рванулся к женщине сквозь бурно извергаемую театральными дверями толпу.
Бросив шоферу мягко-повелительное: «Позже!», она тоже легко и быстро шла ему навстречу…
- Как вы?.. Что вы?.. Где?.. – уже через секунду бормотал он, целуя запястья обеих ее теплых, только что из муфты, детских ручек над отогнутыми краями перчаток.
- Все слава Богу… – шептала Евстолия, не убирая рук, и разом хлынувшие слезы стекали ей в уголки дрожащего рта. – Слава Богу… Не беспокойтесь… Все хорошо… Хорошо…
У нее теперь был отдельный вид на жительство, купленный у собственного мужа за полмиллиона рублей, – дать ей свободу дешевле титулярный советник, мечтавший о личном дворянстве, не согласился. У среднего сына нашли открытый процесс в легких, и Евстолия купила ради него милый, скромный и добротный дом в цветущей Италии на берегу целебного Средиземного моря и переселилась туда с детьми, а капиталы свои перевела в Швейцарию, смутно боясь новых покусительств со стороны супруга, на свободе открыто пустившегося во все тяжкие и, по всем признакам, обещавшего скоро промотать до полушки вырванные у жены деньги. В Петербург же она приехала с целью подписать здесь последние деловые бумаги и немедленно вернуться к покинутым на ученых нянь, очень тоскующим по матери детям…
Герман стянул жаркую бобровую шапку, склонил перед любимой обнаженную голову:
- Евстолия, я люблю вас и знаю, что вы меня тоже любите… – и поднял ладонь, будто отодвигая ее быстрое протестующее движение. – Дайте договорить, прошу! Мне ничего другого в жизни не нужно… Клиника, операции? Да я хоть завтра оставлю ее на ассистентов, а то и вовсе продам… Состояние, благодаря нашей Надин, – вечная память ей и Царствие Небесное – позволяет мне, как и вам, любые перемещения... О, да, я не могу без любимого дела, я не праздный богач, но такую же клинику можно завести в любом уголке мира, и в… Италии… тоже. Произнесите одно слово – нет, просто кивните! – и я последую за вами туда, куда вы скажете, стану отцом вашим детям – самым заботливым отцом, поверьте! И с вами не расстанусь никогда, мы будем мужем и женой друг для друга и для людей – даже хорошо, что на чужбине, вдалеке от осуждающих глаз! Согласитесь, Евстолия, – и я сделаю вас счастливейшей женщиной на земле, а сам стану счастливейшим мужчиной, и…
- Для людей – да… А для Бога? – глухо проговорила она. – Перед Богом – чьей женой я буду?
Женщина повернулась и медленно пошла к Екатерининскому каналу, где горел высокий костер, у которого весело грелась бедная интеллигентная публика, жаждавшая утром достать дешевый билет на галерку в желанную, но всегда недоступную, как порядочная барышня, Мариинку. Автомобиль деликатно пополз вслед за хозяйкой. Герман догнал ее, смиренно пошел рядом:
- Евстолия… Не мучайте ни себя, ни меня. Вас выдали замуж против вашей воли, у вас не было ни малейшей склонности к будущему супругу… – он знал, что дальше идет жестокость, но сознательно прибег к ней, как к скальпелю для вскрытия нарыва: – Я даже знаю от… покойной… подробности вашей… – он хотел бухнуть: «брачной ночи», но одумался, смягчил: – … свадьбы.
Она спрятала в муфту вспыхнувшее лицо и так шла – не видя пути. Поддерживая ее под локоть, Герман безжалостно продолжал, испытывая ту же боль, что и Евстолия:
- И этому человеку вы собираетесь хранить верность?! Оставаться его женой даже на расстоянии?! Не слишком ли велика такая жертва?! И не достаточно ли жертв вы ему уже принесли?! И вы действительно считаете Бога таким жестоким, думая, что Он на стороне вашего изверга и мерзавца мужа? Он, Который только и делал, что миловал людей, когда был на земле?! Который учил любви и с отвращением относился к любому насилию? Почему вы в мыслях своих превращаете Его не в Того, Кем Он Себя явил людям? Почему делаете из Него жестокого и грозного судию, готового карать за нарушение буквы косного закона? Вспомните Евангелие, Нагорную проповедь…
Евстолия остановилась, отняла муфту от лица; горевший прямо перед ними огонь отбрасывал на всю ее фигуру трепещущие оранжевые отсветы, словно она была мученицей, уже возведенной на этот костер, и языки пожирающего пламени подкрадывались к ней, готовые схватить и превратить в пепел…
- Я помню Евангелие, – слезы ее высохли, губы не дрожали. – «Претерпевший до конца – спасется»… Вы забыли, что еще Он учил смирению и терпению. А повод для развода дал только один: прелюбодеяние жены. Вы хотите, чтобы я это совершила с вами, и муж мой имел полное право с чистой совестью назвать меня негодной женой, растоптавшей венец, и развестись? Вы этого хотите?
- Помилуйте! – вскричал пораженный ее упорством и какой-то особой нерпобиваемостью Герман. – Вы не Каренина, а я не Вронский! Наш случай совершенно другой – мы…
- Все так говорят и думают, – перебила она. – Все, кто идет на измены. Иначе не было бы измен, если бы люди не находили, чем себя оправдывать: они бы просто сгорели со стыда раньше. Но оправдания всегда находятся, и у всех разные… А у Толстого, кстати… У него мне жалко не Анну, и уж тем более, не Алексея, а именно Каренина. Его участь горше всего, хоть и не он бросился под поезд.
- Ваш благоверный тоже не бросится, – горько сказал уязвленный Герман. – Он доведет вас, наконец, до смерти и преспокойно унаследует ваши денежки, чтобы также их прокутить с… проститутками. Кстати, его нынешний образ жизни вы изменой не считаете? И поводом для развода тоже?
Она грустно покачала головой:
- Я сама толкнула мужа на это, попросив отдельный вид… Да и не мне судить его: каждый должен наблюдать за собой, а не искать в чужих поступках поводы для самооправдания в собственных грехах…
Герман набрал воздуха, чтобы горячо возразить, понимая, что другого случая переубедить любимую женщину может не быть никогда, – но вдруг рядом с ними раздался истошный, звериный вопль. Уже несколько минут неподалеку от молодых людей стоял и грелся у костра припозднившийся мальчик из москательной лавки – он слишком близко подошел к огню, протянув к нему промерзшие руки, – и пропитанный керосином форменный фартук вспыхнул, мгновенно превратив подростка в мечущийся, воющий, корчащийся факел… Евстолия дико закричала, выпустив муфту и прижав руки к щекам, люди у костра вскочили и кинулись было к несчастному – но не знали толком, что делать, и близко не подходили, боясь, что пламя перекинется и на них… Инстинктивно ребенок бросился в ледяной сугроб, бесполезно биясь и кувыркаясь в нем, животный вой парализовал волю всех очевидцев – только Герман в два прыжка оказался рядом, на ходу сорвав с себя пальто, – и накрыл им маленького страдальца, сбивая губительное пламя… Обернулся, гаркнул в остолбеневшую толпу: «Извозчика!!!», стал подниматься, кое-как выгребая из снега руками подбитую толстой ватой ткань – и то безмолвное и горячее, что в ней еще конвульсивно дергалось… Ему уже помогали, подхватывали под руки, нахлобучивали шапку, облегченно галдя… Народ расступился перед подлетевшей лошадью, кто-то распахивал дверцу экипажа. Герман тревожно искал глазами, сам не зная, что и кого, – что-то важное, самое нужное только что было – и вот ускользнуло, а дверца уже открыта, и надо садиться… И вдруг – шелковистый мех прошелся по лицу, прохладная рука на секунду потянула его голову в сторону, уголок сжатых губ ожег быстрый скользящий поцелуй, к коже на миг прижалась мокрая от слез щека… Герман услышал:
- Делай свое дело… Я буду за тебя молиться. А там – Бог управит, как нужно…
Мальчик умер через час в его клинике. Евстолию он больше никогда не видел. Ей удалось спасти состояние от национализации большевиками – но как-то живется теперь в фашистской Италии под властью самодовольного дуче? А может, она уже и не в Италии вовсе, а, например, в оккупированном Париже? Хотя… Где бы она ни была – вряд ли ей сейчас хуже, чем пришлось бы в Советской России тридцатых.
Да, того мальчика не удалось спасти: слишком обширными и глубокими оказались ожоги открытого пламени – а вот Лёнька три года назад у него выкарабкался. Закаленный и крепкий от природы, обеспечившей железный естественный отбор, отбраковавший слабейших, деревенский организм выстоял после нестерильной операции. Герман лично неделю выхаживал ребенка, чья мать, ненадолго убежавшая за приговоренным петухом, к удивлению отшельника, вернулась только на третьи сутки. Оказалось, роды он ей мысленно накаркал: Анна действительно разрешилась сразу двойней девочек, едва дойдя до деревни, муж ее дороги к сомнительному «целителю» не знал и идти особо не рвался, а про Лёньку все дружно решили, что «отлежится – и сам придет, куда денется». Когда он не появился и на третий день, Анна все-таки отправилась за сыном сама, без петуха, накануне зарезанного и сваренного для поддержки сил родильницы, и молитв, про которые вовсе запамятовала. Она сцедила молоко и оставила малышек на бабушку, – а, придя, сначала долго охала и голосила над «порезанным» дитем, но потом, увидев его живехоньким, вразумилась и стала верной «прихожанкой» и почитательницей опального батюшки, способного не только прочесть исцеляющую молитву, но и вынуть болезнь из живота прямо руками…
С тех пор весть о чудном «молитвеннике и целителе», до того посещаемом не слишком часто и только отдельными «посвященными» (да и те наведывались осторожно, с некоторым сомнением), мгновенно разнеслась по округе – и «паломники» потекли к Герману один за другим, прося исцелений, наставлений и молитв. По промыслительному стечению обстоятельств, однокашник его по медико-хирургической Академии, некто Дима Волков, за происхождение сосланный из Ленинграда в тридцать втором на сто первый километр, успешно осел в районном Острове, заведуя в больнице хирургическим отделением, – у него и добывал изредка Герман новые медикаменты, узнавал о медицинских открытиях, брал современные справочники по хирургии. Взамен, обладая никем не оспариваемой диагностической интуицией, он снабжал доброго туповатого Диму неоценимыми советами, переоблачившись в запасной халат, осматривал на ночных дежурствах товарища его сложных пациентов… Приходивших на заимку крестьян-колхозников Герман, по мере возможности, старался лечить привычными им, но правильно назначенными народными средствами, экономя серьезные лекарства и прибегая со времени Лёнькиной немыслимой, действительно чудесной аппендэктомии лишь к поверхностным операциям, вроде залихватского вскрытия гигантских абсцессов… И – да – молился об исцелении доверчивых недужных, благословлял их своей некогда прикасавшейся к Святым Дарам рукой… Претворялись ли когда-то хлеб и вино по его молитвам в Кровь и Плоть Христову? Или за него, нерадивого и заблудшего, вынуждены были невидимо служить литургию ангелы? Того он не знал, предпочитая верить в действительность своей хиротонии.
* * *
Первую успешную революцию Герман встретил со сдержанным одобрением. О, весна семнадцатого, незабвенная холодная и солнечная революционная весна! Никогда не забыть тот душевный подъем, пришедший, как вторая молодость, расцветший маками красных бантов, не снимаемых русской интеллигенцией с пальто, – точно такими же, какие реяли на вполне мирных штыках балтийских матросов… Он связывал это время не только с одним всеобщим весенним обновлением мира, но и со своей личной тайной надеждой: окончив еще в шестнадцатом году богословские классы в Духовной семинарии, для чего пришлось существенно сократить операции в клинике, впрочем, благополучно процветавшей и в его отсутствии, он так и не смог стать священником. Безбрачные допускались, в виде исключения, к хиротонии только после сорока лет, а жениться без любви на полной надежд девушке лишь ради сана, как, не моргнув глазом, поступали его однокашники, Герману претило: начинать с фарисейства самое честное из всех возможных служений он считал более греховным, чем, например, обойти устаревший закон. От революции он ожидал главного: обновления церковной жизни, отмены косных, калечащих душу правил, прихода живых, а не высокомерных и теплохладных, судорожно цепляющихся за устаревшую букву архиереев…
В том, что произошло в историческом октябре, Герман, по наивности, поначалу и не разобрался, увлеченно работая в операционной и изучая труды святых отцов Церкви наряду с научными исследованиями по хирургии, вдруг рванувшей вперед семимильными шагами: подумать только – еще лет десять назад человек с воспалившимся червеобразным отростком мог с полным основанием считать себя наполовину покойником, а теперь операция по его удалению была признана настолько простой, что ее доверяли вчерашним студентам! Первые послереволюционные лишения тоже не особенно испугали доктора Богданова: как человек здравомыслящий, он понимал, что подобные грандиозные перемены не могут обойтись вовсе без потрясений, – потому и не послушал настойчивых, еще с зимы несшихся к нему со всех сторон советов перевести состояние от греха подальше за границу. Только после того, как поздней осенью он понял, что банально ограблен новой властью, как и тысячи других ни в чем не повинных граждан, Герман начал понемногу прозревать и задумываться – тем более, что и выстраданную клинику объявили «народной», милостиво оставив его там рядовым врачом с минимальным жалованьем… Лечить теперь приходилось не просто «бедных» пациентов, как в молодости, в доброй памяти Мариининской больнице, а невероятных, совсем недавно попросту непредставимых хамов, словно не вышедших из животного состояния, живших варварскими инстинктами, способных справить большую нужду прямо на пол в палате – да и сами палаты ухитрявшиеся очень быстро превращать в нечто даже худшее, чем хлев! Видел он не раз, в бытность сыном управляющего, и хлев, и курятник, и стойло – но даже худший рабочий скот не содержали в такой моральной и физической грязи, на которую добровольно и радостно обрекали себя эти крещеные люди, имевшие страдающее тело и бессмертную душу… На малейшие попытки доброжелательных увещеваний они немедленно реагировали открытой жаждой убийства, осознавая себя – да по сути и будучи! – хозяевами клиники, города, страны… Казалось, лечить их гнусные болезни должен был не доктор, а ветеринар – нет, скорей, укротитель тигров! А их женщины – что они делали с ними?! Никогда раньше не видел Герман таких чудовищных травм на женском теле, – травм, полученных при самых скотских соитиях и изощренных насилиях! И всего этого новым господам, считавшим себя неизмеримо выше, чем какой-то мелкий «докторишка», решительно не хватало: мечты двуногих победителей простирались неизмеримо дальше. Один из пациентов венерической палаты – с провалившимся носом, скрюченный от последствий запущенного сифилиса, – с восторгом рассказывал о новом декрете, выпущенным губисполкомом города Саратова, откуда он только что вернулся в родной Петроград. Декрет назывался «Об отмене частного владения женщинами» и легализовал любые, в том числе и групповые изнасилования, если их совершали победившие пролетарии над представительницами поверженного класса. В городе начались массовые пьяные вакханалии и расстрелы «уклоняющихся» от исполнения своих «социальных обязанностей» «контрреволюционерок», а также всех мужчин, пытавшихся их защитить.
- Десятка три контриков шлепнул! – гнусаво вещал он, сидя в отвратительно грязных кальсонах на, правда, и без того загаженном столе в палате. – А уж целок сломал – не сосчитать! Вот приехал в Петроград революционный порядок наводить: отсталые вы тут по этой части!
Спасения можно было искать только в церкви – и уже прозвучало это роковое слово в его жизни: «Живая». Через несколько лет казалось, что это одно живое, оставшееся в Советской России – все остальное умерщвлено. Живая Церковь. Весть о ней принес его духовник, священник Андреевского собора, что на Васильевском острове, любимый батюшка Николай Платонов. Его проповеди собирали тысячные толпы, слегка шепелявый и гугнивый, но чем-то очень милый и трогательный голос иногда срывался на экстатический крик, когда отец Николай произносил свои пламенные, способные смутить и зажечь любое сердце речи. Любовь к Христу, горячее сочувствие униженному народу, простые и ясные способы объединить христианство и демократию… К концу двадцать третьего года, кроме упрямого Киевского подворья, где с чисто хохлятской твердолобостью монахи признавали только власть опального Патриарха, на Васильевском острове все церкви до единой стали частью обновленной Живой, имея своей цитаделью Андреевский собор с безраздельно царившим отцом Николаем Платоновым – а правой рукой его, верным псаломщиком и алтарником, постоянным гостем в одиннадцатом доме на Шестой линии был мечтавший о священстве доктор Богданов. Мечта его сбылась в самом начале двадцать шестого, когда обновленческий епископ Охтенный Ленинградской епархии Николай Платонов (высокие сибирские скулы, густые брови, умные светлые глаза, симпатичная, какая-то очень домашняя бородавка на левой скуле) – первый женатый епископ в Православной церкви – хиротонисал в Андреевском соборе смиренного безбрачного раба Божьего Германа в иереи; только тому успело исполниться сорок, и он вполне мог стать священником в Патриаршей – мог, но уже не хотел. Живая церковная жизнь увлекла его полностью, медицина, постепенно обретавшая приличный, а не революционный вид, отошла сначала на второй план, а потом была на время и полностью заброшена. Казалось, солнце Христа освещало и освящало каждый шаг новоиспеченного священника.
Так бывает только в молодости, когда простым прихожанином стоишь на литургии в старом храме, и немного пыльный свет широкими потоками льется сквозь высокие окна – на Царские Врата, на блистающую фелонь в алтаре, где просто и буднично происходит Таинство таинств, на склоненные головы простых женщин в косынках – и не знаешь, здешняя ли это литургия или уже неземная… Германа радовало все: службы на простом и доступном русском языке, понятном каждому; алтарь, вынесенный на середину храма, как в первые века христианства, еще не разодранного по живому на части; нестройное пение прихожан, от всего сердца вторящих священнику в меру невеликого умения, – вместо прежнего хора, уподоблявшегося недоступным ангелам, гласящим с небес непонятную песнь; веселые женщины из православного сестричества при храме, вовсе не похожие на старых заезженных кобыл, годных только на убой… Никто не принуждал их жить с нелюбимыми мужьями, держать голову опущенной долу – наоборот, они читали на службах наравне с мужчинами, иногда гораздо лучше и чище последних, шли разговоры о возрождении женского дьяконства… Вот бы Евстолия чудом оказалась здесь, взглянула на истинно Живую, не исповедующую никакого страдания и насилия церковь, – и с печалью подумала о своей безвозвратно загубленной ради неправильно понятых идеалов жизни!.. А может – не безвозвратно?.. Ведь дети ее уже, должно быть, выросли, а сама она все еще молода…
Впрочем, одна заноза сидела в сердце Германа глубоко – застряв там еще задолго до великого дня хиротонии, шевелилась и колола с каждым годом все чаще и больней, будто не заноза уже была, а пуля, ворочающаяся в теле старого солдата и не дающая спать. Он отмахивался до поры до времени, живя от укола до укола.
Расстрел Петроградского митрополита из Патриаршей Церкви – вот что смущало его. Обритый и остриженный, одетый в лохмотья, пристреленный как бешеная собака на станции Пороховые по Ириновской дороге, – чтобы опозоренный и поруганный труп его не могли опознать и придать достойному погребению верные… Он принципиально, с праведным гневом отверг Живую Церковь, обласканную новой властью, уже к тому времени не скрывавшей свою людоедскую сущность, в то время как согласие, определенно, спасло бы ему жизнь…
А вот отца Николая Платонова, к тридцать шестому году – обновленческого митрополита Ленинградского и Гдовского – никто не тронул, так же, как и верных его чад. Барская дореволюционная квартира Германа не подверглась унизительному «уплотнению» (была просто разделена на две, с парадного и черного хода), его самого ни разу не арестовывали, не выдвигали никаких требований, не ставили перед выбором меж отречением и мучительной смертью… Но, может, сомнения напрасны? Может, буйное солнце не зря освещало каждый день первых лет его пастырского служения? Ведь ни одно слово в проповедях «живоцерковцев» не противоречит Христовым! Или противоречит? Как насчет вдохновенного призыва «зарядить церковную жизнь революционной энергией»? Он что – не видел этой энергии воочию? Хотя бы в лице незабвенного безносого насильника и убийцы из Саратова? А что думает Христос о его «свободе пастырского творчества» в области совершения наиглавнейшего таинства – Евхаристии? Ответы на все эти вопросы подспудно бурлили в нем, хорошо известные сердцу, но до поры до времени не находя выхода к сознанию, и отец Герман уже знал, что придет страшный день, когда они вырвутся – и затопят, повалят, сомнут…
В сентябре тридцать седьмого, вскоре после внезапного отъезда в неожиданные Сочи (всегда ездил в Крым) своего духовного отца и третьего в жизни благодетеля митрополита-живоцерковца Ленинградского Николая, он возвращался домой в тяжелых раздумьях о претворении Чаши. Еще утром вспомнилось и весь день крутилось в голове ужасное древнее предание о бесхитростной детской игре, затеянной христианскими мальчиками в – страшно подумать! – втором или третьем веке от Рождества Христова. Тогда алтарь тоже стоял в центре храма, все тайные молитвы были так же явны, как и теперь в Церкви, упорно называемой Живой, и, цепкой детской памятью заучив их, мальчишки принялись играть «в литургию», стянув хлеб и вино с чьей-то кухни и приспособив старый седой камень вместо алтаря… Глупая ребятня с разбитыми локтями и коленками так и стояла у Германа перед глазами… С деланной серьезностью они старательно повторяли все, что видели и слышали в церкви, – до тех пор, пока с неба не грянул гром и не сошла молния – прямо в стоявший на «алтарном» камне глиняный сосуд, мгновенно попалив его вместе с Веществом, легкомысленно созданным детьми… Значит, определенные слова и действия в определенной последовательности играют свою роль, независимо от того, кто их произносит и осуществляет? А, следовательно, вдохновенно творя над Дарами личную дерзновенную молитву, не преступней ли он тех несмышленых детей, не посмевших ничего привнести от себя в чинопоследование грозного таинства? Может, пока не поздно, принести покаяние в этом – но где? В Патриаршей церкви, в одной из сергианских общин? Да и иерей ли он для них, рукоположенный самозваным епископом? Или не самозваным? Отца Николая ведь произвели в епископы те, кто был ими еще в прежней Церкви? Господи, что же случилось, почему он не задавался всеми этими вопросами раньше? Как получилось, что он вполне нашел себя при этой неправой власти – и доволен собой, почитая свои руки за чистые? Господи, помоги, открой – что делать, куда и к кому бежать?
Он незаметно свернул на Семнадцатую – специально купил себе когда-то там квартиру неподалеку от Среднего, чтоб иметь возможность чаще пройти мимо бывшего дома утраченной любимой, – дома, в девятнадцатом благополучно разобранного на дрова освобожденными гражданами нового мира… Осталось миновать арку и войти в парадное – но из-под арки внезапно метнулась ему навстречу тонкая женская тень; миг – и девушка повисла у него на локте, утаскивая в тень подворотни: он узнал Тасю, свою давнюю духовную дочь, над тайной горячей любовью которой к себе самому привык за годы по-доброму посмеиваться – совсем не обидно, даже ободряюще; более того, иногда мелькала мысль о женитьбе на этой ласковой сероглазой и темноволосой девушке, что для безбрачного клирика обновленной церкви вполне было позволительно…
- Батюшка, вам нельзя домой, – тихо сказала Тася, касаясь сухими губами его вспыхнувшего уха. – За вами пришли… они… Я по улице пробегала со Смоленского, от Ксеньюшки… случайно… и увидела, как они заходили в вашу парадную… С тех пор и караулю… Из арки в арку тихонько перехожу… Машина их уехала, а сами не выходили… С обеда у вас на квартире засада…
* * *
Неделю он прожил за ширмой в комнате Таси, чья коммунальная квартира в бараке на Крестовском с единственным на сорок комнат туалетом была так обширна, что, казалось, соседи не могли запомнить друг друга в лицо. Потом его смелая духовная дочь решилась самоотверженно пойти на Васильевский с бидоном молока, наивно маскируясь под молочницу, – и вскоре вернулась невредимая с вестью о том, что засада снята, а квартира опечатана. Туда наведались вдвоем, глубокой ночью, и, подсвечивая спичкой, удачно сковырнули с двери ножиком сургучную, на красной веревочке печать и проскользнули в квартиру, где царил безобразный, жестокий разгром, будто после разбойного нападения, а не законного обыска, произведенного властью… Переодеваться не требовалось – по улице священники давно уж ходили в светском платье – потратили лишь четверть часа на судорожные и бестолковые сборы: Тася металась по разоренной кухне, хватая уцелевшую крупу и консервы, Герман лихорадочно набивал рюкзак книгами, бельем и теплой одеждой, снимал со стены и упаковывал любимые иконы. Уже готовый к выходу, последним наитием вырвал из-под стола разинутый, как пасть бульдога, кожаный саквояж с хирургическими инструментами, бросить который было безумием: то был самый полный, из лучшей нержавеющей стали добротный набор, изготовленный в конце прошлого века на московском предприятии Швабе. Расстаться с ним было невозможно по определению – не только потому, что годился он почти для любого, самого ужасного случая жизни, но и по другой, менее земной причине: владея им, Герман чувствовал себя врачом – а значит, человеком. Какой он там священник – в этом следовало еще долго разбираться, а вот доктор из него когда-то, определенно, состоялся…
- Скорей, ах, скорей же, батюшка!!! – рыдающим шепотом торопила Тася.
Она рисковала смертельно – Герман очень хорошо это понимал. Вышли тихо, на лестнице стояла кромешная тьма: лампочки в подъездах принадлежали теперь далекому, почти забытому прошлому; бесшумно заперли дверь, аккуратно нагрели спичкой сорванную печать, приладили, как смогли, на прежнее место. Рвавшаяся вперед Тася уже ступила с площадки на лестницу, когда снизу донесся четкий звук затормозившей у парадного тяжелой машины. Девушка обернулась с выражением дикого, захлестывающего ужаса в глазах – Герман долго не мог забыть той секунды. Но он был хирургом и привык принимать мгновенные решения:
- Все хорошо. Мы уйдем через чердак, – а про себя добавил: «Если, конечно, тот открыт…», – и схватил ее за руку, увлекая вверх.
Беглецы как раз успели закрыть за собой узкую чердачную дверь и выпрямиться, когда услышали громкий, торжествующий стук внизу – это энкаведешники ворвались в подъезд, но им предстояло еще одолеть шесть лестничных маршей до квартиры, убедиться, что она пуста, добежать до чердака… Тася осветила чердак прихваченной с кухни толстой стеариновой свечой: никого. Озаренные желтым светом сушившиеся тут и там на веревках чужие простыни казались странными неподвижными привидениями… По длинному чердаку они пробрались на другой конец дома, на черную лестницу, выходившую во двор, – и растаяли в густой ленинградской ночи, растворились в василеостровских узких переулках, дружелюбных проходных дворах…
- Почему они приехали так быстро? Как узнали? – потрясенно спрашивала Тася всю дорогу – и сама же отвечала: – Дворник не спал, увидел и позвонил из будки… Они теперь все – платные агенты… Все, все…
У Таси в комнате Герман побрился и укоротил длинные волосы перед старомодным медным умывальником, глянул в мутное, будто другой мир отражавшее зеркало: до чего же меняет мужчину борода! Лицо было неузнаваемо: чужое, жалкое, словно босое, с отчаянными глазами – неужели он когда-то ходил так каждый день и не стеснялся? Тася тихо плакала, сидя у себя на кровати… Он понимал, что девушка готова разделить с ним и ссылку, и побег, и любые лишения, заколебался на миг… Все это было бы очень романтичным, если б не грозили ей в случае поимки арест, пытки, тюрьма, а может, и расстрел… Он подошел к Тасе:
- Мне очень хочется, чтобы вы поехали со мной, Таисия… Очень. Но риск слишком велик, и я не могу сейчас брать на себя такую…
- Я ничего не боюсь! – горячо рванулась девушка. – С вами, батюшка, мне ничего не страшно… Я… я…
Герман понял, что она сейчас признается в любви, и ощутил отчетливый мужской испуг, мучительную неготовность к огромной ответственности, которая вот-вот на него свалится, – и приложил палец к губам:
- Я знаю. И нет меры моей благодарности. Именно поэтому я не имею сейчас права рисковать вами, Тасенька. Может быть, если жизнь моя как-то наладится… Тогда я дам вам знать, и вы приедете, если решите, – но теперь прощайте: чем скорей я уйду из вашего дома, тем для вас безопаснее.
Ее лицо дрожало в блеклом утреннем свете, Тася и не пыталась бороться со слезами:
- Б… Бла… Благословите, батюшка, – она сложила руки этой всегда умилявшей его в прихожанах ладьёй.
А он уж не знал – имеет ли власть благословлять своей грешной рукой, но не смог обмануть ее наивных ожиданий: благословил, крепко прижав пальцы к ее лбу, плечам… Мокрые горячие губы прижались к его руке.
- Только не забудьте… Не забудьте, пожалуйста… – обливаясь слезами шептала Тася.
Он не забыл: даже почти четыре года спустя, на лесной заимке у мелкого озера, среди зеленых валунов и поющих сосен, для кого – «святой батюшка Герман», а для неверующих, расплодившихся в огромном количестве, – так и просто «Герка-дурачок» дважды в день поминал Таисию на утренней и вечерней молитве, горячо надеясь, что правильно делает, молясь о ее здравии, а не за упокой…
Из Ленинграда Герман добрался дачным поездом до Луги, оттуда пересел на опочецкий и вышел в знакомом, еще более ужасном, чем четверть века назад, Острове. Грязь стояла непролазная, вмиг погубившая его хорошие городские ботики, – но дорогу к единственной больнице он помнил хорошо – а там благополучно нашелся и успевший когда-то попрощаться перед ссылкой и рассказать о своих намерениях маленький пузанчик Димка Волков. Кругленький, с глазками-пуговичками и резком голосом придворного карлы, он оказался бесстрашным и преданным другом, не побоявшимся приютить беглого товарища, без колебаний разделившим с ним кров и стол, хотя ему, ссыльному Рюриковичу, это грозило неминуемой смертью в случае разоблачения.
- А что такого? – наивно подняв свои белые редкие бровки, говорил он. – Тебя ведь никуда не вызывали? Подписку о невыезде не брали? Не гнались за тобой с криками «Стой, стреляю!»? Ну, и все. Ты, может, к себе домой и вовсе не возвращался – мало ли, кого там дворник, или кто еще, видел! Может, не ты с девушкой ночью приходил, а воры! Если ему вообще с похмелья не померещилось – печать-то цела! А ты еще раньше, днем, в отпуск уехал и, прости, ни ухом, ни рылом… Имеешь право ходить, где хочешь, гостить у друга… Что такого? – поросячьи добрые ресницы наивно хлопали; кто бы сказал, что в этом смешном человечке, грязноватом провинциальном докторе, течет древняя великокняжеская кровь!
Боясь подвести друга под большое горе, Герман гостил у него недолго – но и тех нескольких дней с откровенными разговорами, что он провел в доме однокашника, хватило для того, чтобы покинуть его с окровавленным сердцем. Все было основательно разложено по полочкам – ни отвернуться, ни усомниться, ни выбросить из головы… Отца Николая Платонова арестовывали дважды: впервые – в двадцать третьем году, когда священников расстреливали в подвалах сотнями и тысячами, – а его отчего-то выпустили без ущерба, хотя верные чада уж готовились служить по нему панихиды, как по мученику за веру… До того все знали, что пастырь их «горой за Патриарха», а, вернувшись, он за пару недель обратил в обновленчество весь Васильевский – как такое могло статься? Почему не задумался тогда Герман над этой метаморфозой? Теперь же, совсем недавно, Платонова задержали и выпустили опять – и он сразу же уехал в Сочи, никого не предупредив, – как это возможно? И отчего сразу после тайного отъезда бесследно стало вдруг исчезать обновленческое священноначалие – и простые клирики, вроде Германа? Не потому ли, что списки на арест были подготовлены обожаемым духовным отцом, ленинградским живоцерковным митрополитом?!
Уходя в неизвестность от Димки Волкова, Герман доподлинно знал, в каком состоянии люди бывают, когда накладывают на себя руки. И он бы не испугался – если б не вспомнил, разрываясь от душевной боли, о своей последней, перед самым явлением из подворотни спасительницы-Таси, молитве к Господу с просьбой указать путь бегства, который был ему немедленно, в следующую же секунду явлен! Не для того же спас тогда Бог его тощее бледное тело, чтобы он сразу же дерзко погубил его вместе с бессмертной душой! В деревню идти было не к кому – да он туда и не стремился: душа рвалась к одинокой покаянной молитве, а пока повторял лишь Иисусову, да иногда пятидесятый псалом, хотя помнил, что тот не спас от сурового наказания святого пророка Давида… Но это и вдохновляло: согрешив так страшно и необратимо, Псалмопевец был не только прощен, но и остался в веках великим святым пророком – значит, и у него, отпавшего от истинной Церкви, одиннадцать лет прослужившего иудой, есть шанс оправдаться перед Всевышним… «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей…» – шептал Герман, обустраивая убогое жилище в знакомом с детства, замшелом от времени, но еще крепком домике из лиственничных бревен, посреди полвека назад исхоженного вдоль и поперек, а теперь враждебного, полного страхований леса…
Его ужас усиливался, как у согрешившего Давида, лежащего на земле и понимающего, что вдохновенное покаяние напрасно: наведавшись к Диме уже в феврале, он своими глазами прочел в отложенных специально для него «Известиях» огромную статью об отречении бывшего митрополита Николая Платонова от христианской веры, где тот торжественно клялся в изжитии «былых религиозных предрассудков» и приносил присягу «единственно правильному» философскому учению – марксизму-ленинизму, которое, оказывается, успел детально изучить за «минувшие годы»… Герман плакал, как отрок, – последние его настоящие сердечные слезы лились так лишь на похоронах матери. Теперь же он хоронил отца: не вечно пьяного бесхребетного неудачника, утратившего к концу и лик, и образ человеческий, а настоящего, перед которым долгие годы слепо и пылко благоговел, который открыл ему путь к ослепительной радости пастырского служения, умел достучаться до любого, самого черствого сердца через всепрощающую горячую любовь… Его чуть гундосый, дорогой, пришептывающий голос… Лучше бы он шел за его гробом, чем читать теперь такие слова…
Сгоряча Герман решился было на молитву под открытым небом, желая себе вольного мученичества телесного, – но первый же час на лютом морозе, когда пальцы ног полностью потеряли чувствительность и стало ясно, что не войди он в теплое помещение – и придется их завтра ампутировать, показал, насколько он бессилен в качестве молитвенника… Печь к тому времени, к счастью, уже была, не то стать бы ему хромым инвалидом! Как Лука Новый Столпник сорок пять лет простоял?! А преподобный Алипий – шестьдесят шесть?! Ну, ладно, они в более теплых весях жили… Преподобный Никита Переяславский – тот подвизался в подземных пещерах – то есть, хоть крышу над головой имел… Каких-то сто лет назад преподобный Серафим Саровский только тысячу дней молился на камне в России – и то какую святость стяжал! Но однажды незадачливый отшельник понял: их молитва имела такую силу, что грела изнутри… Значит, нечего и искать никакого искусственного мученичества: того и гляди настоящее придет, как только местное НКВД узнает, что какой-то юродивый тут людей не пойми, как и чем лечит, – заберут за милую душу и такое мученичество обеспечат, что и первым христианам не снилось!
Однако в ожидании неминуемого ареста, которого давно не боялся и постепенно стал даже желать, Герман сумел несколько упорядочить свой молитвенный подвиг, соотнести его с бытовыми и физическими нуждами, что требовало не только беспрестанной молитвы, но и изматывающего, дотоле известного только умозрительно, простого мужицкого труда. Он неумело, но решительно орудовал топором, лопатой и коловоротом – специально ходил за инструментом в Остров, потратив изрядную часть и без того быстро таявших ленинградских денег. Добывал, шепча молитву, жирных карасей на озере, обустроил старый дом, весной вспахал лужайку под огородик, пригнал быстроглазую козу… Старался не ложиться спать, не дойдя до предельной усталости, потому что в те ночи, когда заснуть удавалось не сразу, вставали перед закрытыми глазами усердно забываемые лица, звучали в темноте пронзавшие душу слова, лились горчайшие слезы… Он считал их слезами саможаления, не осознавая, что обрел в покаянной молитве драгоценный слезный дар.
НКВД добралось до него только поздней весной тридцать девятого в лице двоих штатских молодых мужчин вида самого грозного. Встреча, которая должна была стать роковой, длилась всего несколько минут, и именно таковой стала – только совсем не в том смысле, какой виделся в кривом зеркале грядущего.
Герман только что подоил нетерпеливую Стрелку и поднялся с ведерком ее сладкого молока, когда вдруг почувствовал, что на поляне не один, но именно в эту минуту о вездесущих «органах» не подумал: показалось, что волки обложили, подбираясь не к нему, так к козе. Стремительно обернулся, рискуя расплескать молоко, – и наткнулся взглядом на два наведенных на него в упор, тускло-серым блеснувших ствола.
- Стоять, ни с места! – приказал тот парень, что был выше ростом и голос имел самый что ни на есть начальственный.
Герман так и замер с ведром в руках, отвлеченно думая, что вид у него сейчас более чем дурацкий.
- От Советской власти прячешься? – по-хозяйски шагнул к нему старший, за которым неохотно, с неубедительной суровостью во взгляде следовал младший вихрастый паренек с пистолетом. – Беглый? Документы есть?
- Я ни от кого не прячусь и ниоткуда не бежал, – как мог спокойно, ответствовал Герман, который к тому времени давно уж ареста не желал, не только обвыкшись в новых жизненных обстоятельствах, но и искренне полюбив свое вынужденное молитвенное отшельничество. – Документы у меня есть, но они в доме.
- Оружие? – подал голос молодой оперативник.
- Отродясь не имел, – честно ответил вопрошаемый. – Я врач, мое дело лечить, а не убивать. Даже если волки придут, не знаю, как от них отбиваться.
Волки пока не приходили, но в этих краях раньше водились в изобилии, так что ничего невозможного в этом не было: он и Стрелку даже летом на ночь в избушку забирал, а охотничьим ружьем как раз собирался на такой случай разжиться – уж у своих «паломничков» справки наводил.
- Ага! – оживился старший. – Значит, незаконным лечением занимаешься!
- Вполне законным. Свидетельство лекаря могу предъявить. А когда получал его – клятву давал никому в лечении не отказывать, – смиренно пояснил Герман.
- Складно! – ощерил редкие зубы начальник, начинавший понемногу звереть при виде очевидного морального превосходства допрашиваемого. – А почему в рясе?! Ты что – еще и поп?! Колхозники говорят, что не лекарствами лечишь, а заговорами! Молитвами всякими!! – он сам себя распалял все больше и больше: – Ты – враг! Печенью чую! Поп проклятый!
- Это подрясник, – скромно сказал отшельник. – Я действительно священник Живой Церкви… Обновленческой. Вероятно, уже бывший... Да, я молюсь, потому что верую в Бога, – тут по хребту его прошел замечательный холодок гордости за последние слова: не смалодушничал ведь, отрекаться не стал. – А лечу лекарствами. Их могу тоже показать. Некоторые в Острове достал, некоторые сам сделал, из целебных трав.
- Бывший или не бывший – это мы разберемся! – рявкнул вполне озверевший от спокойного тона собеседника энкаведешник. – Собирайся, гнида! С нами пойдешь, мы тебя не только лечить – плясать заставим!!
Он ногой распахнул дверь в избенку, показал дулом на вход:
- Шагай давай, целитель гребаный!
Герман переступил порог с полным сознанием, что входит в этот милый, уже родной дом в последний раз. Помедлил, глядя на «Нечаянную радость», озаряемую синим язычком лампадного пламени, – единственную большую, любимую, с начищенным окладом икону, которую самоотверженно притащил на себе из дома; немногие остальные, даже Спас, были маленькими, других не донес бы. Заметил образ и агент, больно толкнувший Германа в спину, чтобы подойти поближе:
- Чего это у тебя тут? Дорогая, наверно? Серебряная? Та-ак… Вишь, Иван, – дернул головой в сторону подтянувшегося следом и замершего в дверном проеме товарища, – вот и они, сокровища, спрятанные попами от народной власти. – Хм… Что тут за мужик на коленях изображен?
- Это грешник, – ответил смирившийся со своей участью и оттого уже почти спокойный доктор. – Молится Деве Марии, Божьей Матери.
Высокий парень сложился пополам он искусственного смеха, который стремился сам в себе разжечь до настоящего:
- Ну, уморил! Слышь, Иван? Она им – Дева, и Она же – Мать! О-от, сколько живу – не перестаю дурости церковников дивиться! – он шагнул к Герману и нагнулся к нему, растолковывая, как несмышленышу: – Как тебе девка родит? Ведь если родила, то значит, не девка уже, а баба, – постарался, значит, кто-нибудь…
Священник инстинктивно испугался:
- Послушайте, вы поосторожней с выражениями… Верите вы или нет – ваше дело, но такие слова могут иметь ужасные последствия…
Парень громко и похабно расхохотался:
- О-от, дураки! Он еще угрожает мне! У, рыло церковное! Щас узнаешь у меня! – он замахнулся пистолетом, но бить по дороге передумал. – Последствия! От кого – от этой блестящей деревяшки?! – он вызывающе мотнул головой в сторону иконы: – Да знаешь, кто Она такая, твоя Дева…
- Опомнитесь! – испытывая настоящий эсхатологический холод, крикнул Герман. – Вы жизнью рискуете! Вы поплатитесь!
Но разошедшегося начальника уже было не остановить, и рот его громко изрыгнул гнусное, омерзительное даже по отношению к последней уличной твари ругательство. Несколько секунд стояла оглушительная тишина.
- Ну, и что? – с вызовом сказал немного все же побледневший командир. – И чем я поплатился?! Где моя страшная кара? А?! Я тебя спрашиваю?
- Хватит, Семен, побузил – и будет, – робко подал голос от двери младший энкаведешник и, не опуская рассеянно поднятого пистолета, качнулся вперед, чтобы подойти к старшему, – но забыл, что еще не перешагнул порог…
Он споткнулся, что-то громко хлопнуло, глаза Семена выпучились, изо рта вдруг под давлением толкнулась густая багровая жидкость, чекист рухнул навзничь, сокрушительно ударившись головой об угол печи, – и больше не шевелился. Белые глаза тупо смотрели в дощатый закопченный потолок.
По большому счету, это был первый раз в жизни Германа, когда Божье вмешательство было явлено ему так ощутимо, так неоспоримо, так вещественно…
Дальнейшее вспоминалось сумбурно. Рыдания и ужас простого крестьянского паренька Вани, носимого когда-то бабушкой к причастию в еще не оскверненную сельскую церковь… Он бился головой о лавку, захлебывался, твердил, как заведенный: «Я друга убил!» – и чуть не крестился на красный угол… Ему даже в голову не пришло, что мог он легко и просто пристрелить сейчас нежелательного свидетеля, описать начальству жестокое сопротивление задержанного, сумевшего выхватить пистолет у храброго чекиста и убить его, а после застреленного другим героем при попытке к бегству… Еще бы и орден за доблесть получил и повышение по службе. Но, пожалуй, добродушный молодой мужичок не согласился бы на это, даже, если б ему подсказали, – он искренне убивался горем, винил себя, не хотел жить, пытался и не мог застрелиться, обреченно роняя трусливую руку с пистолетом...
- Послушайте, – переждав первый приступ его отчаянья, твердо сказал Герман. – Вашей вины здесь нет: пистолет выстрелил сам, произошел несчастный случай. Я тому свидетель. Более того, можно доставить тело в Остров и заявить властям, что не вы стреляли, а покойный случайно выстрелил сам в себя. Я подтвержу, что видел это, и подпишу – иначе вам все равно несдобровать, а в вас ведь, поди, семья?
Паренек встрепенулся, глянул почти осмысленно, сглотнул, кивая:
- Жена Таня и дочка Мариночка… Годик всего… Господи!
Герман твердо положил ему руку на плечо:
- Вот ради них. Соберитесь, вставайте, вместе подумаем…
В результате раздумий и последующих действий уже к вечеру того дня он оказался обладателем невероятной бумаги о собственной благонадежности, выданной в НКВД города Острова, где незамысловатые и по-своему неплохие русские парни искренне оплакивали своего глупо погибшего товарища и от всего сердца благодарили за помощь в доставке его бренных останков «честного советского доктора» пожилых лет – и даже пенсию ему сгоряча обещали выхлопотать…
Почти три года Советская власть отца Германа не трогала, не подозревая, что у нее под боком кипит горячая молитва о крушении преступного строя, об освобождении страждущего под гнетом распоясавшихся безбожников доброго, но сбитого с пути православного народа. А перед июлем сорок первого прибежал к нему, с удовольствием на поляне плотничавшему, вполне уже большой и здоровый десятилетний Лёнька, некогда лежавший голеньким и почти бездыханным на неструганом столе под накрест разрезанной на животе окровавленной простынкой…
- Отец Герман! Немцы! Немцы на нас напали! Фашисты! Сюда идут! Самолеты на Киевский тракт бомбы кидают! Война, отец Герман! Война!
Отдаленный грохот отшельник слышал уже давно, списывая его на очередные учения, – но теперь в груди горячо и упруго плеснуло: это оно? Освобождение от большевизма? Вымоленное… им и другими такими же? Или… новое, худшее рабство для несчастных людей?
Сутки он бродил вдоль озера потерянный, метался из дома на лужайку, от икон к окну – и вновь выскакивал на свою мирную, в шелесте бронзовых сосен поляну, садился, обхватив голову, на мохнатые от мха валуны, вскакивал, заломив руки… О чем молиться теперь? О победе русского оружия, как подобает православному? Или… немецкого, освободительного? Господи, подскажи, управь грешника, ускори на молитву! Но… «Яко что помолимся, якоже, подобает, не вемы, аще не Ты, Господи, Духом Твоим Святым наставиши ны!». Уже пришедший к порогу уныния, так и не обретший уверенности и покоя, кидаясь в мыслях от одной крайности к другой, он прислонился к косяку распахнутой двери, с тихим отчаяньем уставившись на кроткую водную гладь.
И вдруг – дрогнули невдалеке низкие сосновые лапы, послышались приглушенные детские голоса… На поляну один за другим выходили ребята пионерского возраста, в панамках, с рюкзаками, бледные, усталые и испуганные. За ними, шатаясь от напряжения, показались две взрослые девушки лет двадцати, из последних сил тащившие с помощью пионеров самодельные, из пары сухих стволов сооруженные носилки, на которых он увидел то, что миновало его три года назад в этой много чего успевшей повидать избушке: зловещую и роковую, безнадежную «маску Гиппократа».
Воины
Очередная – и последняя в этом походе уха не задалась. Ее варила вторая, мальчишечья палатка, ну, и сварила чисто по-мужски: с кое-как почищенными костлявыми ершами, белыми шариками вареных рыбьих глаз, как топором нарубленной картошкой и твердыми пластинами щедро положенного лаврового листа. Вода, хоть и процеженная лично Зиной через несколько слоев марли и кипевшая не менее двух часов, все равно отдавала речной тиной. Небалованные мальчишки из поселков Ленинградской области – бурно растущие и не особо разборчивые в еде, небрезгливо наворачивали хлебово из своих котелков, по-деловому развешивая лаврушку и кости по бортикам, девочки же – в основном, холеные домашние ленинградки – чуть не плакали, отцеживая мутную соленую жидкость, отодвигая в сторону неаппетитную гущу… Но все знали – у Зины не забалуешь: никто не получит шлепок второго – сытной говяжьей тушенки с пшеном из концентрата – на дно своего котелка, пока не предъявит ей пустую тару.
- Значит, ты не голодная, раз не доедаешь суп, – спокойно сказала вожатая сделавшей ротик корытцем от обиды черноглазой Марусе. – А, стало быть, и второе на тебя переводить незачем, – она выпрямилась и обвела строгим взглядом поникшие пионерские головы: – Всем доедать уху! Котелки должны блестеть! Завтра выступаем в обратный путь, потребуется много сил!
- Ну, Зи-иночка! – умоляюще прогудел девичий голосок. – Ну, пожа-луйста!
- Ты барышня кисейная или пионерка?! Вон, посмотри, как мальчики едят: аж за ушами трещит! Стыдись! – укорила ее неумолимая вожатая. – В империалистических странах дети о корке хлеба мечтают, а ты тут фокусничаешь…
Рядом с ней возникла тихая Лиля:
- Зина, на минуточку… Мне совет твой нужен… – и, отведя подругу в сторону, быстро-быстро зашептала, косясь на приунывших пионеров: – Ты что, с ума сошла – детей этой пакостью кормить? Сама-то, небось, в камыши свой котелок выплеснула… Я тоже. А Люська и наливать себе не стала… Это же хуже, чем для свиней… Мальчишки варили, они ведь по-другому не могут… Когда девочки готовили, вкусно было? Вкусно, вот и съедали подчистую. А сейчас… Пожалей ты их! – (Зина дернулась, но была мягко удержана). – Не оборачивайся, дай им вылить спокойно… Ну, не надо нам в походе слез и скандалов, и так очень жестко ты с ними… Хорошо?
Зина вырвалась, но не резким движением, а лишь чуть раздраженным, хотя последнее слово предпочла все-таки оставить за собой:
- Мягкотелость буржуазная… Терпеть не могу… – прошептала она в сторону, но так, чтобы Лиля все-таки услышала.
- А мы – всё! – раздались позади девушек повеселевшие голоса.
Дети бойко забрякали пустыми, даже уже без костей котелками:
- Тушенки, тушенки хотим!
- Вот видишь, им только палец дай – сразу руку откусят и на шею сядут… – продолжая ворчать, Зина взялась за черпак и принялась раскладывать кашу с мясом; она знала, что неправа, и старалась делать порции посолидней, чтоб те, кто остался без первого, смогли полноценно наесться. – Хлеба, хлеба больше берите, пока не заплесневел! И так уже черствый совсем…
Поход их, рассчитанный на десять дней, близился к завершению: уже больше недели провели двенадцать пионеров и три вожатые в псковском лесу, преодолевая препятствия на пересеченной местности, обучая друг друга ориентироваться по компасу и без, собирать лекарственные травы, которые пунктуально сверяли со справочником, ловить рыбу и худо-бедно ее готовить, ставить большие, на шестерых, палатки, разводить веселый и жаркий пионерский костер… Стоянок было сделано четыре, на каждой из первых двух простояли около полутора суток, да третьей – полных два дня, а на последней задержались на целых три, чтоб подкопить сил на обратный поход, да и место было чудо, как хорошо: высокий песчаный берег у излучины расширявшейся в этом месте Кухвы, высокие корабельные сосны, тонкими бронзовыми струнами устремлявшиеся к небу в закатных лучах. Они довольно значительно отклонились от первоначально продуманного и согласованного с лагерным начальством маршрута: слишком уж непролазными оказались буреломы вдоль той стороны реки, по которой предполагалось движение, поэтому, выбившись из сил, пыхтящие и исцарапанные, решили переправиться на противоположный берег. Речушку форсировали босиком, высоко подвернув походные шаровары; быстрая теплая вода кое-где заходила за колено, круглые красноватые камушки не ранили детские ноги, а на другом берегу сразу нашлось приятное, светлое место для привала или даже ночевки.
- Плохо, что с маршрута ушли, – задумчиво сказала Люся, глядя, как запыхавшиеся, молчаливые от усталости дети сбрасывают рюкзаки и валятся на сочную нетронутую траву. – Теперь случись что – и не найти нас…
- Если что случится – мы и сами вернемся, – пожала плечами Зина, отмечая на карте их новый путь. – Да и зачем нас искать? Кому? Брось! Посмотри на детей: у них уже щеки, как свекла, тут и до теплового удара недалеко. А по той стороне как бы они сейчас шли?
- Девочки! – Лиля, которая только что была ни жива, ни мертва, подбежала, сияя: – Тут такая натура! Красотища! Давайте с ночевкой! Завтра можно такие этюды написать! Ребята! Кто хочет писать этюды?
- Сначала палатки надо поставить и назначить дежурных по еде! – оборвала Зина. – А потом уже дурью маяться...
Добрая Люся глянула на нее укоризненно, Лиля надулась и пошла за своим рюкзаком…
Но в целом поход оказался нетрудным и веселым: много было пионерских песен у костра – так сказать, официальная часть программы:
- Взвейтесь кострами, синие ночи! – бодро запевали Люся, Лиля или Зина, но ночи здесь, на Северо-Западе, были скорей, цвета лунного камня, с легким синеватым оттенком ближе лишь к самому глухому часу.
Картошку испекли в золе без остатка – и очень быстро, но все этому тайно радовались, потому что как она ни вкусна, а тащить на себе мешки сырых тяжелых клубней весьма неприятно. Другое дело – вылавливать серебристо-черные картофелины острыми палочками из горячей золы, когда от костра остаются только похожие на драгоценные камни в драконьей пещере угли; перекидывать ее, раскаленную, смеясь от предвкушения, меж черных от сажи ладоней; наконец, осторожно разламывать, любуясь желтоватой рассыпчатой мякотью, и дуть на нее изо всех сил, но, так и не дождавшись остывания, круто солить крупной серой солью и страстно поедать, обжигаясь и пачкаясь в золе, прямо с хрустящей горелой кожицей, испытывая острое, чувственное блаженство…
- Ребята, давайте нашу, пионерскую, про картошечку! – перекрикивал все восторженные охи и ахи чей-то звонкий, чаще всего, девчачий голос.
- Ура! Ура! Дым костра,/ углей сиянье, /серый пепел и зола! /Дразнит наше обонянье/ Дым картошки у костра… – подхватывало отовсюду сразу несколько человек.
- Ах, картошка – объеденье…
-…денье-денье-денье… – дурашливо отзывался кто-то, то ли имитируя лесное эхо, то ли просто от избытка чувств.
- Пионеров идеал!
- …ал-ал…
- Тот не знает наслажденья…
- …денья-денья-денья…
- Кто картошки не едал…
- …дал-дал…
И, хотя, в песне, строго говоря, не было ровно ничего смешного – там также пелось и про «бедные желудки», которые «вечно голодны», потому что песня пришла из самых первых, голодных лет, когда пионерская организация носила еще имя Спартака – все, включая трех вожатых, буквально помирали со смеху.
Неофициальная часть наступала после отбоя, когда удавалось распихать детей по двум палаткам, девичьей и мальчишеской. В первой рассказывали страшные истории, принадлежавшие удивительному фольклору нового времени и, казалось бы, совершенно чуждые по духу материалистически воспитанному молодому поколению, – но искоренить этот быстро прижившийся обычай глупо было бы и пытаться:
- …каждый вечер она видела, что кровавое пятно на обоях становится все больше и больше… – еженощно нечто подобное доносилось до измотанных, накрутившихся за день вожатых, присевших перед сном с кружками чаю у догорающего костра. – И однажды в полночь прямо из стены показалась огромная рука в черной перчатке…
С мальчишеской палаткой все было понятно: там говорили тише, иногда сдержанно хрюкая, и лишь изредка прорывалось сквозь сдавленный, почти мужской регот:
- А она – это… без трусов стоит!..
Тогда Зина грозно кричала в сторону:
- Я все слышу!!! – и в обеих палатках ненадолго воцарялась лукавая тишина…
Обратный путь предполагался скорым и целеустремленным, предстоял тяжелый пеший переход без обычных занятий и развлечений, лишь с двумя короткими остановками на ночлег, но идти надеялись легче – ведь провизию уже почти всю доели, а натертые пятки за последние три дня основательно зажили.
Три вожатые уселись перед сном на бревне и, прихлебывая травяной душистый чай с колотым сахаром, молча смотрели на плотную паутину тумана, распластавшегося над спокойной рекой, замедлявшей здесь, на плавной излучине, и без того небыстрый бег… Говорить было особенно не о чем – слишком разные у них оказались характеры: категоричная, не терпевшая возражений Зина чувствовала себя неловкой и злой рядом с мягкой и здравомыслящей Люсей, от чего злилась еще пуще; а мечтательная, с глазами «на мокром месте» Лиля, которую могла обидеть любая, без всякого злого умысла отпущенная шутка, была чужда им обеим – да и сама держалась особняком, часто сидя в отдалении с раскрытым альбомом в окружении пары-тройки таких же тихих молчаливых девочек. Пытавшаяся примирить всех и наладить здоровые отношения Люся, привыкшая к семейному ладу, на этот раз не особенно преуспевала – и удивлялась, как люди могут быть такими непонятливыми и сердитыми. Она первая нарушила тишину:
- Девочки, там, случайно, не гроза собирается? Я уже давно слышу эти раскаты… Вот еще один… И еще… Слышите? И как будто полыхнуло в небе… Точно, молния… А вот опять! И ведь приближается!
- Сама ты молния, – оборвала Зина. – Я еще днем слышала. Это учения. Где-то в Латвии. Сейчас, и правда, как будто, ближе стало… Вовремя мы завтра снимаемся!
- А где Латвия? – робко спросила Лиля. – Близко, да?
Зина фыркнула:
- Да буквально рядом, не знаешь, что ли! Граница раньше километрах в трех отсюда проходила – ну, когда Латвия еще не Советская была… Город Резекне ближе всего.
За лесом грохотнуло сильней и отчетливей, гром кругло прокатился по ясному теплому небосводу. Темнота не торопилась, и сон не шел. Они со смутной тревогой вслушались в светлую ночь: воздух вдруг словно загудел, будто в лесу проснулся пчелиный рой. Из давно уж затихшей девичьей палатки высунулось испуганное личико Оли Трофимовой:
- Ой, что это такое гудит, а?
- Учения в Латвии. Спи давай, – строго обернулась на нее Зина, но голос прозвучал не слишком уверенно.
- Точно… учения? – шепотом переспросила Лиля. – Уж очень громко и… странно…
- Девочки, мне даже как-то не по себе… – придвинулась к ней Люся. – Весь день вдалеке грохотало понемножку, но чтоб так…
Все три девушки, поеживаясь от внезапного нутряного холода, как по команде, принялись застегивать кофточки.
- А что это еще может быть? – убеждая уже на товарок, а себя, вызывающе спросила Зина.
- А вдруг… вдруг… это… – Лиля не решилась договорить.
- Брось, – строго сказала на этот раз Люся. – Пошли-ка в палатку, надо выспаться хорошенько, чтобы завтра детей пораньше поднять и выступать с рассветом. Учения приближаются сюда, а мы совсем не там, где должны быть. Не хватало нам попасть под огонь, как те ребята у Гайдара… или не у Гайдара… помните?
И в этот момент земля у них под ногами легко, но заметно дрогнула. Вожатые замерли и вновь изо всех сил прислушались, не заметив, что инстинктивно схватились за руки. Низкий тяжелый гуд исподволь наполнял воздух, было уже ясно, что идет он не из леса, а с неба – сейчас накроет их разом что-то ужасное и непреодолимое, а потом – темнота, пустота – небытие?
Они медленно, лениво и тяжело выплыли из-за макушек сосен – черные на фоне тускло-перламутрового неба, заполняя нездешним ревом мир, стали пересекать открытое пространство над рекой – десятки в геометрически-правильном порядке выстроившихся черных самолетов, будто нескончаемая стая невиданно огромных перелетных птиц. Снизу на крыльях четко виднелись жирные, двойной линией нарисованные белые кресты. Несколько минут пролетали они над остолбеневшими от страха девушками – и ушли на восток, уже за русский, не латвийский лес – туда, где спал вдалеке город Остров, и где-то среди деревьев на зеленом взгорье стояли дощатые здания их пионерского лагеря…
- Слава Богу… Слава Богу… – неосознанно повторяла Люся. – Это немецкие… Германия – наш союзник, у нас пакт о ненападении…
- Да, да, значит, это совместные учения с Германией, только и всего… – пролепетала намертво вцепившаяся в ее руку Лиля...
Но тут, будто рассыпали с небес мешок огромных сухих горошин, прокатилась серия трескучих раскатов уже с восточной стороны – той, куда скрылись черные самолеты, – и затряслась потревоженная дальними взрывами земля, и перепуганные, заспанные, ничего не понимающие дети, шумно дыша и толкаясь, полезли из обеих палаток – выбравшись на землю, они принялись вскрикивать и вопрошать…
Но раздался особенно отчетливый, хоть и далекий, гром, будто разом выстрелило несколько крупнокалиберных пушек, – и тотчас на несколько секунд, как во сне, повисла глубокая страшная тишина.
- Черта с два это учения, – прозвучал в ней хмурый ровный голос Зины. – Это война. Они бомбят Остров. И Пушгоры. И Киевский тракт.
* * *
- Идем налегке, – отрывисто распоряжалась Зина, ходя среди торопливо укладывающих вещи детей. – Берем только самое необходимое, остальное бросить. Не разбредаемся, держимся кучно. Я с мальчиками впереди, Лиля в центре, Люся с девочками – замыкающая… Не паникуем. Передвигаемся максимально быстро и тихо. Не болтать, смотреть в оба. Заметив что-то необычное, не кричать, а подойти к вожатой. Рюкзаки укладывать так, чтоб не брякали: где угодно может оказаться вражеский десант. Кто уложился, подошел ко мне и попрыгал… – она бросила зверский взгляд в сторону растерянной Лили, которую явно била крупная дрожь, и рявкнула: – Тебя это тоже касается, растетеха! – но отдать подобный приказ вполне спокойно державшейся Люсе все-таки не решилась.
Парни прыгали с удовольствием, ощущая себя чуть ли не на спецзадании: вот повезло-то нежданно-негаданно! Пионерки осторожно трясли рюкзаками, некоторые из которых были забракованы неумолимой Зиной; дрожащими руками девчонки кинулись переукладывать свои нехитрые вещички под нетерпеливыми взглядами вполне готовых товарищей – но, наконец, Зина была удовлетворена укладкой и коротко скомандовала трогаться. Барабанщик Данька по привычке схватился за палочки и действительно чуть не выдал дробь, – да был вовремя схвачен едва ли не десятком бдительных рук.
- Чокнулся?! – зашипели со всех сторон девчонки, вырывая у него убогий инструмент. – Тут фашисты со всех сторон!
Но на самом деле все это еще отдавало обычной, только чуть более напряженной военной игрой, потому что никто, даже взрослые девушки-вожатые, включая и Зину, до конца не верил в серьезность и необратимость произошедшего. В глубине души всем казалось, что недоразумение вот-вот разрешится чем-то обыденным и легко объяснимым, и будет о чем поговорить в ночной тишине удобных и светлых лагерных палат, пугая друг друга не скучными призраками в белых простынях, а чем-то вполне реальным, лично и глубоко пережитым… А утро последнего июньского дня занималось особенно мирным и не изнуряюще жарким, а ненавязчиво теплым, и хотелось прижаться к прохладному березовому стволу, смотреть сквозь легонько дрожащие кружевной зеленью ветви в высокое, насыщенно-голубое летнее небо, в котором парит остроглазый ястреб, – а если и самолет пролетит – так родной, краснозвездный, и даже качнет приветственно мощными крыльями…
Все понемногу успокаивались – тем более что на востоке теперь стало тихо, а канонада на западе перебиралась южнее, и казалось, опасность понемногу откатывается от солнечного леса, двенадцати школьников в белых панамках и красных галстуках и трех взволнованных легконогих девушек в жарких коричневых шароварах. Все уже не так пристально вглядывались в дружелюбную чащу, добродушно вспыхивающую то желто-лиловым цветком, то первой красной ягодой, то глазастым бабочкиным крылом. И уж тем более, заставить детей и дальше идти молча было невозможно: Люся разрешила им разговаривать шепотом – впрочем, в ее разрешении они уже особенно не нуждались – и, поставив замыкающей воспрявшую духом Лилю, пробралась в голову нестройной колонны – поговорить с упрямо сжимающей губы в строгую ниточку Зиной. Что ни говори, а Ворошиловский стрелок, санитар и осовиахимовец с несколькими пунцовыми каплями уважаемых знаков на легкой куртке, она была неоспоримым начальником их небольшого смелого отряда.
- Слушай, мне кажется, мы напрасно подняли такую панику и перепугали детей… Все это, наверное, очень просто как-нибудь объясняется. А мы гоним малышей уже шесть часов без перерыва. Скоро полдень – а у них маковой росинки во рту не было. Если не сделать привал, дети ослабеют, и дальше будет только хуже… – робко начала Люся, подстраиваясь под широкий шаг своего командира.
К ее удивлению, Зина не возражала; обернувшись, она крикнула: «Привал!» – и обе вожатые со страхом увидели, как их подопечные начали падать, где стояли. Но другой еды, кроме суповых концентратов и сухарей, не оставалось, следовательно, нужно было набирать воду в реке, фильтровать ее, разводить огонь… Сил на это ни у кого не оставалось.
- Едим пока сухари, запиваем из фляг! – скомандовала Зина, и измученные долгим пешим дралом пионеры начали нехотя ворошить свои ставшие невыносимо тяжелыми рюкзаки.
Она и сама принялась энергично хрустеть и жевать, подавая пример окружившим ее товарищам-вожатым.
- Я вот что думаю, – глотая теплую кипяченую воду, сказала начальница. – Если это война, то идти в лагерь нам бесполезно: нет там давно никакого лагеря…
Лиля ахнула, прижав сухарь к груди: в комнате у нее осталось много замечательно удавшихся этюдов, которые она хотела представить одобряющему маминому взгляду, а потом развесить в детском саду в качестве первой своей мини-выставки. Тайно она все-таки не расставалась с давней детской мечтой стать когда-нибудь известной советской художницей…
- Да, – разъяснила ей, как маленькой, схватывавшая все на лету Люся: – Если началась война, то лагерь эвакуирован. За нами посылали кого-то, конечно, но посланные нас не нашли, ведь мы довольно серьезно отклонились от первоначального маршрута. Ради нас весь лагерь, конечно, не задержат. Но они знают, что мы – взрослые люди и сможем вывести детей самостоятельно.
- Это все Зина… – прошептала Лиля, зажмурив глаза. – Если бы мы шли заданным путем, то нас бы вернули с дороги! И сейчас мы были бы в безопасности! А она: «Зачем нас искать, зачем нас искать…». Вот зачем! На случай войны!
Зина впервые смутилась, но, не желая показать презренной «слабости», бросилась в бой очертя голову:
- А ты вообще помолчи! Тебе слова не давали! Ты с самого начала только обуза для всех! Зачем вообще поперлась – проку никакого, одно нытье! Даже обувь с носками не могла правильно подобрать – полмотка пластыря не тебя одну извели! В первый день еще хотела тебя назад отправить. А теперь ты сидишь и скулишь со страху! Даже дети малые лучше держатся… У, мокрица интеллигентская…
Глаза Лили быстро наполнились слезами, кончик носа покраснел. Не терпевшая несправедливости Люся кинулась восстанавливать мир:
- Девочки, не ссорьтесь! Не время! Может, мы в опасности, а может, и нет ничего! Вот завтра придем в лагерь, а там над нами посмеются: скажут – вот хвосты поджали, союзнических самолетов испугались, да как дернули! Но мы, в любом случае, должны показывать пример – как взрослые, как комсомольцы… А вы личные счеты сводите! Стыдно!
- Вопрос опасности или безопасности все равно нужно решить как можно скорей, – усмиренная Зина говорила уже почти миролюбиво, оценив Люсину несомненную правоту. – Потому что, если все же – война… Надеюсь, что нет, конечно, но после того, что мы видели и слышали… В этом случае мы, и правда, как раз плюнуть на их десант напоремся. Тогда всем конец – и нам, и детям…
Лиля закрыла лицо руками, но молчала.
- …а поэтому нам нужно срочно узнать, что происходит. Для этого кто-то – скорей всего, я – должен дойти до ближайшей деревни: там в сельсовете точно всё знают и помогут нам… Может, и транспорт дадут, если дело серьезное…
Тут уже Люся в страхе схватила ее за руку:
- Разделяться нельзя! Держаться надо только вместе! Насчет деревни – мысль хорошая, но одну мы тебя не отпустим! Правда, Лиля?
Та быстро закивала:
- Все несчастья бывают, когда группа разделяется: начинают друг друга искать, мечутся и… погибают. Так во всех книгах… и фильмах… Я за то, чтобы пойти в деревню всем отрядом!
Три девичьи головы склонились над картой:
- Вот эта деревня, Копаницы называется, ближе нет… И смотрите – всего километрах в двух… Ну, может, с гаком… Небольшим… Отдохнем хорошенько, сухарики догрызем – и двинем напрямик… Горячее сейчас варить не будем – в деревне поедим… Там власть, колхоз – они обязательно уже получили распоряжения по телефону или даже телеграфу…
Когда обнадеживающее решение было принято и объявлено юным пионерам, все немножко расслабились; подстелив свитера, дети растянулись среди желтых, одуряюще ароматных медоносов на небольшой, окруженной молодыми березами поляне; кто-то дремал, но несколько самых неугомонных с удовольствием нагнетали обстановку.
- Мой папа еще в тридцать седьмом говорил, что фашисты обязательно на нас нападут, – распалялся лишенный прав барабанщик Данька из Гатчины. – Когда еще вредительские зажимы для галстуков были… Со свастикой…
- Со свастикой? Зажимы для галстуков? Думай, что говоришь! – кинулся на него кто-то из девчонок, а толстая, похожая на добрую морскую свинку Женечка Шувалова даже не поленилась подползти к Даньке со своим наградным зажимом, полученным на школьной линейке за сплошные пятерки в году: – Где тут свастика? Пять поленьев – пять континентов, костер – пламя мировой революции, три языка пламени – Третий Интернационал… «Всегда готов» написано…
Данька снисходительно глянул на Женечкин значок, процедил презрительно:
- Да у тебя новый, позапрошлого года выпуска! С них свастику уже убрали…
Лежавшая с прикрытыми глазами Зина при этих словах норовисто дернулась было пресечь контрреволюционный разговор, но Люся с мягкой силой удержала ее – мол, пусть, сейчас не до того…
- У меня старый, с серпом и молотом! – шустро притопала на четвереньках к спорящим чернобровая румяная хохлушка Маруся из Княжево, что под Ленинградом. – Сестра свой отдала, когда в комсомол вступила.
- Ну, вот, – степенно кивнул барабанщик, вертя зажим в руках. – Этот точно вредительский. Смотрите сюда: серп и молот специально так перевернуты, что кажется, будто свастика… А это – буква «Т» – Троцкий, понятно? Тут даже профиль его есть – вон, смотри, в языках пламени, если повернуть боком: бородка, челка… Неужели не ясно? А вот – «З», Зиновьев… Мы тогда еще в первом классе учились, а весь Ленинград знал, что это чье-то вредительство… Даже поймали кого-то и посадили.
Сгрудившись, ребята поворачивали старый зажим так и эдак, потом дело дошло и до галстуков:
- Точно, у моего старшего брата в классе все пацаны в тридцать седьмом галстуки поснимали, я помню! – вмешался бойкий Мишка с Выборгской стороны. – Даже отец сказал, что в переплетении нитей на ткани видна свастика… Я маленький был, мне не говорили, но я слышал… Потом нам, когда принимали, уже другие галстуки выдали…
- Ну, хватит, – не вынесла Зина. – Пионеры, называется!! Три конца галстука – это партия, комсомол и пионерия! Галстук для пионера – это святое, а вы зубоскалите!
Она поднялась:
- Окончен привал! Па-адымайсь, не ленись! Пять минут на сборы – и выступаем в ближайшую деревню!
- Там молоком напоят, так что шустрей давайте, – улыбаясь, поддержала Люся.
- И машину дадут… – с надеждой прошептала, в очередной раз переклеивая пластырь на ноге, серая от усталости Лиля.
Через час, когда солнце как раз достигло своего невысокого северного зенита, они вышли к еще зеленому злаковому полю, рассеченному надвое хорошей проезжей дорогой, – идти стало легко, но жара ощутимо прибывала, дети еле волокли ноги. Зина сверилась с картой:
- Чуть-чуть осталось. По-одтянись! Ши-ире шаг!
- Так не годится, они едва идут, – приблизилась к ней утиравшая потное лицо Люся. – Здесь поле кругом, и нет никаких диверсантов. Нужна песня – поднять дух… Можно? – и, в ответ на короткий кивок: – Запевала! Давай про пуговку! Раз! Два! Ка-а-а…
- …ричневая пуговка валялась на дороге,
Коричневая пуговка в коричневой пыли,
Но мимо по дороге
Прошли босые ноги –
Босые, загорелые, протопали, прошли… – неуверенно подхватило несколько голосов в разных концах растянувшегося отряда.
Сначала не очень ладилась песня про бдительного Алешку, который все-таки поднял несчастную пуговку, увидел на ней нерусские буквы и заставил всех немедленно помчаться с ней на пограничную заставу; но постепенно голоса выровнялись, отстающие понемногу догоняли, присоединяясь на ходу, – и вот уже стройно, красиво и мужественно звучало под ровно синим небом над матово-зеленой, только-только заколосившейся пшеницей:
- Четыре дня искали, четыре дня скакали
Бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон,
В дороге повстречали чужого незнакомца,
Сурово осмотрели его со всех сторон.
А пуговки-то нету от левого кармана,
А сшиты не по-русски короткие штаны,
А в глубине кармана – патроны от нагана
И карта укреплений советской стороны…
После длинного молчаливого перехода, обрадованные возможностью говорить и петь во весь голос, дети радостно чеканили шаг по пыльной дороге, старательно выпевая в такт:
- Вот так шпион был пойман у самой у границы:
Никто на нашу землю не ступит, не пройдет!
– как раз успели они ревностно, с усилием крикнуть, но последние строки: «В Алешкиной коллекции та пуговка хранится, /За маленькую пуговку ему большой почет», прозвучали уже вразнобой… Как-то разом в конце дороги, где с обширного невысокого холма, на котором находилось поле, были четко видны разбросанные будто игрушечные избы маленького села, послышался хриплый рев тяжелых моторов и показались две огромные, уродливые, угловатые темно-серые машины с белыми крестами на башнях, быстро ехавшие на них…
- Танки!!! – раздался резкий Зинин крик – но растерялась она не более чем на секунду: – Все в лес!!! Вправо – и в лес через поле!!! Бего-ом!!!
И лишь пропустив вперед ошалело бросившихся наутек детей и подруг, старшая вожатая сама последовала за ними, часто оглядываясь на бегу.
Часть III
Велик и милосерден дар Господень –
Прямая речь – и звательный падеж.
А. Маничев
Исход
Виолетта почувствовала сильный толчок в плечи – оступилась и грузно отлетела назад, остановленная лишь белой громадой холодильника, с которого легко спланировало что-то бумажное, задев по щеке. Ее вульгарно оттолкнули с дороги, ведущей пусть к временному, но все же спасению. Оторопевшая, еще плохо соображая, она растерянно стояла посреди кабинета – а из коридора уже несся громовой, повелительный, не допускающий и мысли об ослушании голос заведующего:
- Все ходячие – в подвал! Направление – по стрелкам на стенах коридора! Персонал – по местам! Лежачих – на каталки!
Прерывистая сирена рвала слух, ноги ослабели? и, хотя воздух, как будто, свободно проникал в легкие, его все равно не хватало – ослабевшая женщина без толку пыталась оттянуть книзу высокий ворот бадлона… Чтобы опомниться, потребовалось несколько драгоценных секунд – и она также бросилась в ярко освещенный коридор. Первым, кого она увидела, был все тот же и взглядом по ней не скользнувший Олег Петрович, который быстро и решительно, имея лицо самое что ни на есть каменное, нес по коридору только днем привезенную из реанимации послеоперационную девушку с иссера-бледными щеками – толком не проснувшуюся, босую, в рубашке с огромными пятнами сукровицы.
Пропустив его, две обезумевшие санитарки неуклюже вывезли из мужской палаты гремящую каталку с умирающим стариком. Вот на них-то заведующий обернулся на ходу:
- Отставить! Спасать только молодых и небезнадежных!
Увядшая Фиалка не слышала, что они отвечали, не видела их дальнейших действий – она единственная мчалась в противоположном от выхода на лестницу направлении, уже без стеснения расталкивая нерасторопных ходячих больных. С дикими глазами, вскрикивающие, причитающие, каждый со своей предельной скоростью, они тянулись к дверям, где поперек уже оказалась очередная каталка с лежачим, и некоторые несли перед собой, как драгоценность, пластиковые пакетики с розоватой жидкостью, которые нельзя было бросить: прозрачные трубки от них тянулись под кое-как запахнутые пижамы и халаты и уходили концом в брюшину! Женщина с катетером в мочевом пузыре ковыляла враскорячку, задрав подол грязной рубашки, под который убегала трубка, а трясущаяся, но не бросавшая товарища соседка по палате, одной рукой поддерживала больную, а в другой несла тугой пакет с ее же мочой… Естественная стыдливость размазалась и стерлась разом, жестокий инстинкт самосохранения мгновенно высвечивал, как бестеневая операционная лампа, всю самую сокровенную человеческую суть.
Дежурная медсестра со второго поста, великолепная Белла, тоже попалась Виолетте навстречу – она неслась вдоль распахнутых палатных дверей, заломив руки и зверски толкая больных, с абсолютно бессмысленными глазами – и Виолетта вспомнила на лету, как еще буквально на той неделе красотка-Беллочка толкала в сестринской красивую речь о прошлых и будущих жизнях и мировой гармонии. Она прилежно ходила в дацан, старательно «отрабатывала» нехорошие поступки, совершенные ею некогда в бытность царицей Месопотамии, и никогда не ела мяса, чтоб дополнительно очистить свою и без того кристальную карму, бедняжка… Но все это не проникало в сердце, мельком касаясь и тотчас отлетая во внешнюю тьму, потому что оглушительный, усиливавшийся с каждой секундой рев сирены парализовал ум и волю, и на первый план насильственно выталкивалась – душа. У кого какая имелась, во всей своей красе и безобразии.
Платная палата была крайней у входа с соседнее отделение, где, отчетливо видимое сквозь стеклянную стену, происходило все то же самое: отдельные случаи яркого, беспримерного самоотречения среди общего мутного потока слепого и жестокого ужаса.
Виолетта рванула дверь и вздрогнула: в призрачном, совершенно потустороннем свете самого темного часа белой ночи Ваня стоял перед ней, полностью одетый и спокойный, – разве что его худенькое личико было чуть серьезней обычного:
- Ба! А я уже испугался…
«Чего? Неужели он мог подумать, что я брошу его и убегу одна?!» – бабушка рывком подхватила ребенка, прижала, покрывая поцелуями спутанную головку:
- Все, все, все… Сейчас мы с тобой пойдем, пойдем… – ее трясло с ног до головы, она и шагу бы не смогла ступить.
- Ба-а! – повелительно сказал вдруг Ванечка. – Давай, я понесу рюкзак, а ты – меня!
Перед глазами мгновенно встала невероятная картина: некое безобразное ушастое чудище с таким же грустным лицом, как у Вани, говорит прямоходящему крокодилу в шляпе: «Давай, я понесу чемоданы, а ты – меня!»; да, да, Господи, это же Чебурашка с Геной!
- К черту рюкзак!!! – она мотнулась к выходу, поддерживая под попу обхватившего ее руками и ногами мальчика.
Они оказались в темном коридоре – почему нет света? – ах, да, его вырубили во всем городе, как и положено по инструкции; теперь останутся только временные генераторы в бомбоубежищах; замерли высокоточные жизнеподдерживающие аппараты в реанимации, остановились экстренные операции – введенные в глубокий наркоз пациенты уже никогда не проснутся… Но ведь есть же у больницы свой генератор? Или и его тоже? Отделение оказалось почти пустым: все, кто мог двигаться, уже выбрались на площадку, а кто не мог… За ними вернутся! Не могут не вернуться – вот только отвезут тех, первых…
Но на лестнице сразу стало ясно, что движение возможно только в один конец: сплошной плотный поток людей со всех этажей и отделений, переливавшийся нестройными голосами и выкриками, почти в полной темноте мощно тек вниз. Любой, попытавшийся воспротивиться, качнуться назад, будет немедленно сметен и растоптан! Вот ее нога наступила на мягкое, рыхлое… Сделать ничего нельзя: упавший мертв уже несколько минут, его плоть размозжена десятками ног – и ее левая, ступившая в эту гадкую податливость, уже ничего не добавит к его страданиям. Сколько времени прошло? Четыре минуты?! Пять?! Пять с половиной?! Сколько до блокировки дверей?! Сирена еще воет, иногда прерываемая равнодушным железным голосом, – а значит, пока не конец, не конец…
- Успеваем, успеваем… – хрипло прошептала Виолетта в ухо внуку, когда, преодолев несколько пролетов в тесно шагающей гомонящей толпе, они оказались в каменном, практически неосвещенном подвале: тусклый рыжий свет проникал туда только из раскрытой двери бомбоубежища – толщиной сантиметров в тридцать стальной двери с металлическим штурвалом посередине.
За дверью виднелось узкое темное пространство, ограниченное выкрашенными в зеленое стенами, и там человеческий поток резко уходил вниз не то по наклонному полу, не то по новым ступеням. Давки в дверях не было: два человека в военной форме, с противогазами на боку, откровенно держали толпу под прицелом внушительных пистолетов – и несчастные беглецы невольно замедляли ход… Напряжение росло с каждой секундой. Несколько мгновений – и вожделенную дверь захлопнут, загерметизируют прямо перед ними, и вся серая громада сталинского дома содрогнется и осядет, рухнет прямо в этот подвал – на нее, на Ванечку!
- Пустите!!! – истерически завизжала Виолетта. – Я с ребенком!!! Детей пустите!!!
- Здесь беременные женщины!!! – отозвался бесполый голос неподалеку. – Не смейте закрывать двери!!!
- Сволочи!!! Всем дайте пройти!!! – подхватили сверху разнородные голоса. – Здесь такие же люди!!!
Толпа зверски поднаперла сзади, на пистолеты уже не обращали внимания. Вероятно, безошибочный внутренний счетчик времени, тысячелетия дремлющий в каждом теплокровном существе, подсказал обреченным, что последние миги заповедных шести минут – на исходе, и прямо сейчас не успевшие дойти останутся в кромешной тьме – отрезанные, выброшенные, лишенные последних крох надежды…
- А-а-а!!! Гады!!! Ребенка пустите!!! – бабушка с внуком были уже в последнем шаге от двери, но шаг этот сделать было невозможно: их оттесняли в сторону, кто-то, проталкиваясь, ударил Ваню локтем по голове, она слышала, как ребенок коротко ахнул. – Ироды!!!
Виолетта не могла работать локтями, как другие, внезапно выздоровевшие прооперированные с неснятыми швами: единственная из всех, она несла перед собой дитя и не могла ни на секунду отпустить онемевшие руки. Не соображая, она стала бить окружающих ногами – наугад, со всей силы – больные? – пусть: они спасутся, а она через несколько секунд умрет! Ванечка тихо захныкал у нее под ухом, Виолетта ощутила на шее теплую влагу – он плачет, мерзавцы!!! – и, озаренная вспышкой мгновенного решения, схватила ребенка за бока, ощутив острые, хрупкие, будто не кости там были, а хрящики, края подреберий, и стала отрывать его от себя, осторожно приподымая… Резкий звонок грянул изнутри убежища – и тотчас же все перекрыл грубый лай военного:
- Дверь закрывается! Всем отойти! Есть приказ стрелять на поражение! – он выпрямил руку и выстрелил поверх голов.
Оглушительный, словно ракета разорвалась прямо тут, грохот прокатился по подвалу, отскочил от кирпичных стен, обрушился на беззащитные человеческие головы. Ванечка зажал ладошками ушки и закричал; движимая мощным доводчиком дверь стала медленно втягиваться внутрь. Вокруг Виолетты оказалось беснующееся, ревущее, проклинающее, изрыгающее ругательства стадо, чей рев перекрыл вой сирены, – и совершенно невообразимым образом она услышала у своего плеча чей-то едва различимый, не ей предназначенный шепот:
- Не надо, милая… Лучше человеком умереть… чем жить скотиной…
Умереть?!! Ну, уж нет – только не Ванечке!!! На миг обретшая силы титана Ба рывком воздела внука над толпой и – швырнула в стремительно сужающуюся щель двери, в которую, словно помогая, вцепились десятки рук – оттягивая, грозя оторвать от доводчика, от стены, выворотить с корнем…
Виолетта успела увидеть, как Ваня пулей пролетел в проем на толпившиеся по ту сторону головы – и тут же прямо перед ней сухо треснули два прицельных выстрела. Мужчина и женщина, первые у двери, судорожно, уже без мысли, ухватившиеся за нее, один за другим откинулись навзничь, на тех, кто был сзади. Толпа охнула в одну грудь. Последняя щелка тусклого света пропала. Все замерло.
- Убили! – раздался было в непроницаемом мраке чей-то нерешительный крик, но никто не вторил ему.
Две первые жертвы, принесенные в преддверье Великой Крови, были в эти секунды слишком маленькой трагедией, чтобы оплакивать их.
Было даже странно, что при таком скоплении отчаявшегося народа возможна такая глухая и непроницаемая тишина, которая наступила в беспросветно темном подвале больницы. Прекратились сирены, замер равнодушный голос диктора вдали.
- Сейчас е..анёт… – настороженно произнес кто-то с удивительным спокойствием.
- Яко разбойник… – прошелестело рядом. – Исповедую… Помяни, Господи… во Царствии Твоем…
Но ничего не происходило – и именно этого нельзя было вынести. Виолетта с недоумением ощутила свои пустые руки. Вот сейчас… Сейчас… Скорей бы уже… Скорей! И, не выдержав медленно зревшего уже лично в ней взрыва, она, как только что Ваня, зажала уши руками, зажмурилась, сменив одну тьму на другую, и с мучительным захлебывающимся звуком стала толчками набирать воздух в стесненную со всех сторон грудь.
Исполнение
Камень, на четверть ушедший в землю, отчищали в шесть рук, как недавно еще снимали оклад с иконы. Старые и новые слои мха слились на нем, образовав плотную, почти живую корку, из-под которой бросались врассыпную захваченные врасплох мелкие насекомые; Василиса дала благополучно удрать перепуганному муравьишке, упорно тащившему на себе сухую хвоинку, – не стала сметать бедолагу с его поклажей – хотя раньше подобной сентиментальностью не страдала. Она усмехнулась сама себе. А Влад вдруг стал ходить вокруг камня осторожно, большими шагами, почти на цыпочках, и на улыбчивое недоумение жены серьезно ответил:
- Ты что, не понимаешь? Это могила. А мы тут топчемся, как три бегемота.
Отец Петр, сосредоточенно вычищавший острой палочкой сор из бороздок на камне, в этот момент поднялся:
- Взгляните.
Супруги осторожно наклонились над валуном:
- Это крест. Православный, – сказал Влад. – Тут кто-то похоронен, тут и думать нечего...
- Все три и похоронены, – кивнул священник. – Сверху выбито: «Воины» – только буквы уж очень неглубокие, гораздо хуже различимы, чем имена… Видно, это слово выбили последним. Собственно, чтобы прочесть, знать надо, что ищешь. Но если знаешь, то сомневаться не приходится. Девушки-солдаты, так надо полагать…
Василиса вгляделась в давно уж, еще ею одной почти прочитанные имена:
- Зинаида, Елизавета, Людмила… Может, санинструкторы? Странно, почему сразу три? Скорей всего, если покопать здесь, то блиндаж какой-нибудь санитарный отыщется, или еще что-то похожее… Снарядом, наверное, накрыло.
- Не складывается, – строго сказал отец Петр. – Псковщину освобождали в сорок четвертом. А наше письмо датировано самым началом войны. Немцы здесь наступали очень быстро, никаких наших частей в лесах тогда не могло оказаться.
- Партизанки? – с большим сомнением предположил Влад – и сам себя перебил: – Нет, ерунда, не было тут еще в июле сорок первого никаких партизан… И быть не могло…
- Знаете, что – это, наверное, наш десант… Выбросили с самолета во вражеский тыл, а они на немцев напоролись. Или немцы на них. Был бой, они погибли, а этот… иерей Герман… их перенес поближе к своему дому, чтоб за могилкой приглядывать, похоронил и сделал надпись на камне… Ведь эти развалины – остатки его дома, я теперь не сомневаюсь! – бойко выдала Василиса собственную версию.
Отец Петр улыбнулся:
- Уже фабула романа! Или статьи. Сразу видно, что журналистка… Хватка еще та, – он покачал головой: – Что гадать попусту. Мы никогда не узнаем.
- Между прочим, похоже на правду! – вступился муж за жену, как тому и следует быть. – В пользу этого говорит то, что на камне выбит крест: значит, хоронил глубоко верующий человек, а кому бы это быть в сорок первом, как не священнику. Боевые товарищи выбили бы звезду – да только откуда у них времени на это взяться! У десанта! Быстро закопали своих, на карте отметили место – и вперед! Им ведь задание нужно было выполнить – да и вообще ноги уносить…
- Или летчицы сбитые… Женский экипаж… Командир, штурман и стрелок. Тоже вполне возможно… – раздумчиво произнес отец Петр. – Потому что три женщины в одном десанте – это вряд ли… Одна, радистка, например, могла быть, но три…
- Да, батюшка, – серьезно сказала Василиса. – Но кем бы они ни были девяносто лет назад, для нас сейчас это действительно те святые девы-воины, о которых сказано… – и добавила странную фразу: – Как бы нам ни хотелось, чтоб это было не так…
Мужчины, как по команде, вскинули на нее глаза, но никто не произнес ни слова. Эта огонь и воду прошедшая, слышавшая в небесах архангельские трубы молодая женщина давно не носила очков – ни черных, ни розовых. Она видела мир ясно и отчетливо, как сквозь промытое стекло, и все видимое воспринималось ею мучительно достоверно – но всегда с той обязательной горчинкой, принять которую решаются только самые – почти по-женски – сильные мужчины. Никому из них троих в глубине души не хотелось быть настоящими адресатами этого налагающего страшную, нечеловеческую ответственность письма. А хотелось – поискать и не найти, чтоб с чистой совестью списать все на ошибку и свои праздные додумывания; хотелось, чтоб оказалось проще легкого: жил когда-то беглый расстрига, впавший в прелесть или даже безумие, написал и спрятал, сам не зная, что и кому, – ну, а они, нашедшие, применив к себе, – возгордились; хотелось вернуться, смущенно поджав виноватые хвосты, да и забыть поскорей, как сон, благо явь – ужасная, да и дел полно…
Теперь же объявить цепочку приведших к этому камню случаев – простым совпадением ни у кого не поворачивался язык. И стало страшно – всем. Не обычным человечьим, превозмогаемым страхом боли или смерти, а высоким страхом не так сделать, не так сказать, не так подумать. Оступиться на невидимом лезвии, по которому следовало безошибочно пройти – слепыми и дрожащими, как котята…
- Ну, хорошо, нашли мы их – верней не их, а могилу – и что теперь с ней делать? Вскрывать? Перезахоранивать? Кресты ставить? По письму судя, они должны помочь нам – но, может, сначала мы им? – размышлял вслух отец Петр.
- Если они святые девы, то нужно сперва отслужить им молебен, – по-деловому предложил Влад.
- Но они же не прославлены. Никому неизвестны. Строго говоря, вообще непонятно, кто они такие, и, раз на то пошло, действительно ли там лежит кто-нибудь, или это условное место… Да мало ли что… Собственных святых сочинять – дело темное… – пуще засомневался священник; его исподволь начинала бить мелкая нервная дрожь, по спине словно метались чьи-то холодные лапки. – Я на такое не подписывался… Увольте…
- А от Христа отрекаться подписывался?! А Матерь Божью перед каким-то подонком хулить – подписывался?! Подумаешь, утюг ему горячий под морду сунули! Гадости тайно болтать он может, а молебен служить ему западло! – как-то разом вскипела вдруг Василиса – и, пожалуй, бросилась бы хватать отца Петра за грудки, но они оказались по разные стороны предполагаемой могилы, и наступить на нее бывшая блудница не решилась.
Влад замахал руками на обоих:
- Замолчите оба! Не дурите! Я вспомнил! Вспомнил! Бабка мне в детстве читала, про Царя Николая… Его ведь знаете, как прославили сначала? В болоте! В девятнадцатом году прошлого века! Это потом уж – зарубежники, РПЦ… А сначала – простые люди, казаки… Сотня, с семьями, – потеряла связь с обозом, войском… Красные окружили их в болотах со всех сторон… Куда не сунутся – везде большевички… Конец, короче. И был среди них священник, я сейчас даже вспомню, как его звали… Отец… Отец… – Влад зажмурился и напрягся, аж вены на висках вздулись. – Отец Илья! Говорит, мол, Царь-мученик был почетный казачьих войск атаман, сейчас молебен отслужу. Ему отвечают – ты чего, он не прославлен, чудеса от него не явлены – какой молебен?! А Илья им: а вот по нашим молитвам он и явит чудо, молитвами и прославим! И отслужил, все подпевали… Что-то вроде святым мученикам Дома Царского, не помню точно… И вышли! По пояс в болоте шли, кони вязли, но не ржали; их вытаскивали; дети не плакали… Потом не помнили толком, как и что, – но вышли аккурат в середину казачьих войск. Никто не верил, что они могли там пройти: это были самые гиблые места! Около ста человек выбралось – с женами и детьми, и… – он гордо закончил: – Тридцать один конь!
- Так то Царь… Он Помазанник… А у нас тут… Авантюра какая-то… – все еще колебался значительно присмиревший отец Петр.
- А весь этот наш поход – не авантюра?! А само письмо – не чушь собачья?! А как вам икона в деревенском туалете?! Но ведь пошли же почему-то! Раз уж мы все это всерьез приняли, то теперь отступать… как-то… уж совсем… И, между прочим, там написано, что времени у нас почти нет! А если, как вы говорите, – с перезахоронением, с комиссией какой-нибудь, не дай Бог… – Василиса закатила глаза, тряхнула нечесаной головой, на секунду став похожей на болотную кикимору. – В конце концов, про ваше отречение никто не узнал, а уж про незаконный молебен, тем более, не узнает! А если захотите перезахоранивать – так это и позже можно устроить…
Отец Петр и сам не знал, что на него нашло: с самого начала он показал себя лидером и вдохновителем их ни в какие ворота не лезущей затеи, а теперь вдруг начал искать и искать повода остановиться, осмыслить, взять паузу… Им хорошо, они молодые, горячие, а ему седьмой десяток пошел – кому другому и думать-то! Но, с другой стороны… С другой стороны, он и в книгах видел, и в людях иногда – редко! – наблюдал особую эту отчаянность, отметающую в единственно верный момент все условное, на пороге дерзости и дерзновения безошибочно выбирающую второе и ведущую – он содрогнулся – к святости… Отступник расправил плечи, поднял голову – и сразу понял, что обычным его положением много лет и была эта побитая ссутуленность, взгляд исподлобья; другим его и не знали…
- Пойдем, поможешь облачиться, – властно бросил он своему алтарнику.
Убийца весело подхватился:
- Другое дело, батюшка! – и оба ушли в палатку.
Блудница осталась на берегу одна, обернулась на еще тонувшее в сливках утреннего тумана озеро…
- Ну, надо же… – с легким изумлением прошептала она. – И, главное, как просто…
* * *
Молебен святым девам-воинам, мученицам Зинаиде, Елизавете и Людмиле служили по полному чину и, как первые христиане в катакомбах, – все вместе. Мятое облачение отца Петра и плохонький, лишь до щиколоток доходящий стихарь псаломщика Владислава сверкали, как червонное золото, в лучах быстро идущего вверх по привычной невидимой лестнице июньского солнца. Не забыли взять в поход ни кадило, ни ладан – и вокруг словно умытого серо-розового могильного камня курился умиротворяющий благовонный дымок… Под рясой иерея мелькали огромные грязно-белые кроссовки, а у служки его из-под стихаря виднелись худые, в рваных джинсах ноги, обутые в резиновые боты на рыбьем меху, единственная мирянка стояла в накинутом вместо платка капюшоне… С тропарями, где просто подставили нужные имена, все прошло гладко, а вот заключительную молитву придумывали всем малочисленным «миром» на ходу, подсказывая отцу Петру подходящие к случаю выражения:
- О, три святые девы, мученичество за землю Российскую принявшие…
- А вдруг они не за землю… Живот свой за други своя положившие…
- …умолите Всемилостивого Бога даровать нам правильное понятие…
- Лучше – путь наш управить к благополучному завершению предпринятого дела…
- …и паки цело и безмятежно возвратиться… Нет, это эгоизм какой-то – чуть что – и о своих шкурах… Пусть – молите истине нас наставить…
- … и спастися душам нашим…
А когда вслед за отцом Петром прикладывались к теплому от солнца гладкому лбу камня, величание вдруг полилось стройно и ладно, сам собой рождался на устах забытый, но навеки родной, никогда из кровной памяти не исчезавший звательный падеж: «Величаем вас, святые мученицы, девы-воины, Зинаидо, Елизавето и Людмило! И чтим святое страдание ваше, яже за Христа претерпели еси…». Солнце приближалось к зениту. Туман над озером давно уже рассеялся.
- Ну, все, – словно разбуженный, замолчал и остановился отец Петр. – Одно дело мы сделали. Главное, мнится мне, не за горами. Но перед этим… – он осторожно стал вытягивать с груди цепочку с миниатюрной дароносицей. – Ваши грехи я все знаю, вы мои – тоже. У нас сейчас все не по канонам, но, надеюсь, по Христу. Складывайте руки. Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими… Не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзание Тебе дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя…
- Помяни, меня, Господи, во Царствии Твоем, – в одно дыхание закончили супруги.
Кругом почти в симфонию сливалось пение невидимых лесных птиц. Все ощущали сугубую торжественность и красоту момента, ничуть не смущаясь его сказочностью, заведомой неповторимостью. «Как исповедь во время пешего подъема на Фавор, – провел про себя быструю аналогию отец Петр, который лет сорок назад, молодым семинаристом ездил паломником на Святую Землю и ночью, в Преображение, поднимался по серпантину, исповедуясь духовнику группы на ходу, шагал вслепую, с головой, накрытой епитрахилью. – Шел тогда и думал: что угодно может в жизни повториться, но не это. Вот и сейчас… Такого дважды не бывает…». Он хотел, приобщиться первым, что всегда делал раньше в алтаре, но представил, как неизбывный, гнусный вкус плесени сейчас вернет его на землю, шмякнет о нее, неумолимую, и в который раз закровоточит сердце… Смалодушничал и причастил молодых людей первыми, потом обреченно поднес лжицу к своему паскудному рту… И ощутил восхитительный вкус дорогого церковного кагора – и даже, кажется что-то еще – другое, неназываемое, драгоценное – но запретил себе думать, чтоб не смутиться. С благоговением проглотил, запил из фляжки, дал ребятам…
- Батюшка, вы плачете? – наивно спросила вдруг Василиса.
Отец Петр потрогал щеку, другую, застыдился, хотел сказать, что от яркого солнечного света слезу прошибло, – и махнул рукой:
- Да. Плачу. И очень рад.
* * *
Переоделись, прибрались, позавтракали – все это почти молча, лишь изредка перекидываясь скупыми фразами о сиюминутном. Вновь вышли к озеру, постояли у могилы.
- Ну, что, куда теперь двинем? – обвел всех взглядом неунывающий Влад. – Герман обещал, что девы нам помогут, так?
Но ни у кого не рождалось ровно никаких идей. Рядом – только сосновый участок бесконечного леса, пушисто-зеленые, некогда крепкие, а теперь мягкие под ногой бревна сгинувшей избенки, некогда приютившей странного отшельника... Оранжевая «экспедиционная» палатка на поляне, черно-пегое пятно вчерашнего костровища… Все настолько же безмятежное, как могло быть и десять, и сто лет назад, и странно было вспоминать о том, что за пределами этого свободного, полной грудью дышащего леса как раз сейчас мечутся осатаневшие от страха и злобы люди, готовые сжечь и друг друга, и этот мирный, ни в чем не повинный лес, и всю голубую землю, и Богом созданную вселенную… Озеро лежало у ног путешественников – дымчато-голубое в солнечном свете, похожее на лунный камень.
- Смотрите, там не остров ли посередке? – спросила вдруг Василиса.
Все столпились у кромки воды. Теперь, когда от тумана, вечером и утром лежавшего на озере легким, но непроницаемым покрывалом, не осталось и следа, на середине озера четко виднелся небольшой горбатый островок, поросший редкими хилыми кустиками.
- Точно, остров, – с некоторым недоумением покачал головой священник; и после смутной паузы, добавил: – Причем, кажется, можно не сомневаться, что путь наш лежит именно туда.
- Девы сработали быстро и четко! – объявил Влад, и, каким бы драматическим ни был момент, все одновременно коротко засмеялись.
- Осталось только лодку найти… – нерешительно предложила Василиса.
Ее муж уже пробовал дно ногой в утепленной калоше:
- Ничего подобного. Смотрите, дно тут песчаное, очень плотное… Похоже, и вброд дойдем. Сапоги ведь у всех с собой? Ну, и все. Вон, камыши – или что там за растения – аж до самого островка тянутся. Значит, везде мелко. Это вообще не озеро, а просто большая лужа…
Отец Петр тоже осторожно ступил в воду, заулыбался:
- Да. Дно, как в заливе… В детстве, помню… Еще, когда дамбы не было… Я все думал – на что похоже, а потом понял – на мамину стиральную доску, такое же ребристое… В залив мы с ребятами далеко-о пешком заходили во время отливов… Однажды черепаху пустили поплавать, а она взяла и совсем уплыла. Развила крейсерскую скорость – мы так и не догнали… Да… Смотрю – здесь все точно так же… Водичка, как хрусталь…. Даже ракушки на дне, розовенькие…
- Черепахи живут триста лет, значит, ваша до сих пор где-то там пасется, – серьезно вставил Влад, и на этот раз все действительно прыснули со смеху.
- В конце концов, даже если там глубже, и нам придется плыть и промокнуть… – протянула Василиса… – Вернемся и обсушимся на солнышке – делов-то… Жарко ведь!
- Василиса, вам не обязательно… Там, может, и нет ничего… Давайте, вы останетесь здесь, с... со святыми девами… А мы быстренько сбегаем туда… И, если найдем…
- …могилу отца Германа… – быстро подсказал Влад.
- …ну, в общем, да… То помашем вам оттуда, и вы тоже подтянетесь, а? Зачем вам страдать, если что? – закончил отец Петр.
Василиса замахала руками:
- Не-не-не-не! Так не пойдет! Мне одной страшно. Я с вами!
Поклажу распределили на два небольших рюкзака – для мужчин. Упаковали небольшое Евангелие, облачения, походный требник, кадило, коробку с ладаном. Чуть не забыли спички – Влад специально возвращался за ними бегом и вприпрыжку догонял уже шлепавших в сапогах по озеру соратников… Прозрачная, тысячами маленьких радуг переливавшаяся вода долго была им по щиколотку, потом стала чуть глубже – но так и не захлестнула никому сапоги, так что на поросший осокой бережок все вышли с сухими ногами. Искать долго не пришлось, потому что весьма скромных размеров суша просматривалась сквозь кусты насквозь, и они сразу же увидели средь редких тонких ветвей когда-то аккуратный, а теперь значительно просевший холмик из небольших прибрежных камней, словно приросших друг к другу и затянутых красивым зеленым бархатом.
- Что и требовалось доказать… – шепотом отпустил Влад робкую и уже неуместную шутку.
Все замерли, склонив головы, мужчины стянули кепки. Никаких сомнений в правильности и законности происходящего никто и не думал высказывать. Всем было ясно, что безумцы ли они, романтики ли – или попросту два дурака и одна дура – а другого им не дано, искать его бесполезно и негде.
- Ну что, – обернулся к спутникам за поддержкой отец Петр. – Священномученик Герман Новый?
Оба кивнули. Влад стянул с плеча рюкзак и принялся его деловито распаковывать. И через несколько минут с крошечного, едва видимого над водами затерявшегося в могучих лесах необъятной Псковщины безымянного озерца отлетел к Небесам строгий, смиренный в своей торжественности возглас прощенного отступника:
- Благословен Бог наш, всегда, ныне, и присно, и вовеки веков!
- Амии-инь… – подхватили слитые воедино два других голоса – мужчины и женщины, бывших когда-то убийцей и блудницей.
Слушал замерший лес, слушала тихая вода, слушало высокое бледное небо. Плеснул беззаботный рыбий хвост, метеором упал серый ястреб на близкий берег.
- Священномучениче Германе Новый, моли Бога о нас!
Далеко в Петербурге по длинному коридору большой больницы неслась измученная пожилая медсестра с капельницей. За столом унылого казенного помещения, опершись щекой на ладонь, грустно рисовал акварелью в альбоме усталый дошколенок с гладкими, стриженными «под польку» русыми волосами. Иногда он рассеянно протягивал руку и делал глоток из простого больничного стакана, наполненного сочно-красным клюквенным морсом – не кровью…
Мышастые тучи, придя с севера, постепенно сгущались над головой трех странных молитвенников, певших над грудой мхом поросших камней, и за спинами их незаметно вырастала новая, уже непроницаемая стена тумана, и остро пахло дождем…
Они разоблачились, вновь собрали в дорогу рюкзаки, с шорохом и треском пробрались сквозь низкий кустарник к кромке воды.
- Оп-па-а! – весело протянул Один из них, увидев, что берег, с которого они только что пришли, где был разбит их временный лагерь с палаткой и припасами, где на песке были выставлены в ряд двое кроссовок и одни боты, теперь полностью скрыт из виду серым сырым туманом, уже почти добравшимся до островка.
- Оттуда дождь надвигается. Непогода. А мы и не заметили. Наугад не пойдем – опасно. Переждать придется, – сказал Другой.
- Зачем? – спросила Третья. – Смотрите – на другой стороне еще солнце. И озеро, как на ладони. А за ним деревня, кажется… Точно, деревня… Или хутор… Давайте там переждем – все ж не до нитки вымокнем.
Спутники легко согласились с ней, и все дружно двинулись к противоположному берегу, небо над которым было еще бархатно-синим, а невидимое над островом солнце вовсю играло там на кустах бурно цветущей королевской сирени – и те вспыхивали фиолетовым, лиловым, кипенно-белым. За сиренью даже слышались звонкие голоса, полные неожиданной радости, – на том берегу явно жили люди, и они уже заметили бредущих к ним по мелкой золотой воде путников.
- Слышите – вроде как благовест у них…
- Смотрите, нам какие-то девушки с мостков машут…
- Да, веселый здесь, наверное, народ…
Жертва
Буквально через несколько секунд Зина со стыдом заметила, что сильные, тренированные ноги несут ее быстрей и ловчей, чем двух других вожатых, и уж тем более – чем до полусмерти перепуганных детей. Она непроизвольно опередила всех и летела к лесу во главе ойкавшей, пыхтевшей, стремглав несшейся по мягкой земле человеческой стаи. До леса оставалось уже метров двадцать, но оглядываться теперь стало страшно – по усилившемуся, заполнившему собой все вокруг реву танковых моторов, особенно четко и жутко звучавшему в залитом солнцем поле, и так было понятно, что какой-то километр, отделявший их храбрый отряд от врага, мощным немецким танкам да по твердой сухой дороге преодолеть – раз плюнуть, и если те, кто управляет ими, решат…
«Но ведь они же видят, что это дети! – промчалась у Зины первая четкая мысль. – Не станут же они по детям стрелять!» – и именно в этот момент позади слева негромко и коротко, как бы на пробу, стрекотнуло: дак-дак-дак…
- Ложись!!! Ползком!!! Ползком!!! – хрипло завизжала она, падая и понимая на лету, что уползти на брюхе от машин, умеющих двигаться со скоростью больше ста километров в час, смешно и думать, и подала не менее бессмысленную команду: – На четвереньках!!! К лесу!!! Быстрей!!!
- Еще чуть-чуть!!! Давайте-давайте!!! Немного осталось!! – услышала Зина еще один взрослый голос позади и с отстраненным удивлением поняла, что это не Люся, а Лиля поднимает и подбадривает детей. – Вы же не трусы, вы большевичата!! Не сдавайтесь врагам!!!
- Вперед! Вперед, трусихи! – выкрикнул кто-то из мальчишек.
- Мы почти ушли, вот уже лес!!! Поднажмите, они в лес не пойдут!!! – прорезался сбоку и Люсин голос.
И сразу же уверенно, со всех сторон грянуло бездушное и безжалостное: «Дак-дак-дак… дак-дак-дак… дак-дак-дак…». Прямо над головой у Зины с залихватским свистом срезало несколько пыльно-зеленых колосков – они упали куда-то вниз, в неглубокий глинистый ров… Противопожарная канава! Справа и слева пионеры уже сыпались в нее, залегали… Нельзя, нужно в лес!
- Не ложиться!!! В лес!!! В лес!!! – Зина все-таки обернулась, на секунду приподнявшись над колосьями: близко, страшно близко – там, где была дорога, по которой они только что лихо топали и пели про пуговку, стояли, развернувшись в их сторону, два темных крестоносных танка, и откуда-то из щели на брюхе одного из них полыхнул короткий огонь: дак-дак-дак – но за мгновение до этого Зина успела спрятаться и лихорадочно откатиться – пули легли рядом, не причинив вреда.
Все стали бросаться из канавы в прилегающие кусты, которые росли на небольшом возвышении, надежно защищавшем от пуль, – и вскоре весь отряд оказался под ним: задыхающиеся, хрипящие, исхлестанные ветвями, ничего не соображавшие дети валились на спину, пытаясь отдышаться. Пули ожесточенно стригли кусты над их головами, листья и ветки сыпались на белые панамки, на красные галстуки – но, осторожно высунувшись меж стволов кустарника, Зина убедилась, что танки так и остались на дороге, не делая ни малейших попыток преследовать малолетних беглецов по полю; они лишь ожесточенно строчили из двух пулеметов им вслед, но не знали о спасительном возвышении, и пули летели слишком высоко, не представляя собой особой опасности. «Постреляют и уйдут, – с облегчением сказала себе Зина. – И погони, конечно, никакой не будет». В ту же секунду у ее плеча оказалась Лиля:
- Зина, детей только одиннадцать! Кто-то не добежал!
- Кати нет! – отозвалась откуда-то Люся. – Но в канаве я ее видела!
- Побоялась подниматься… чтобы броситься… в кусты… – пропищал прерывающийся девичий голосок. – Она же… жирная…
- Она, наверно, ранена! – крикнула Лиля. – Нельзя ее там оставлять! – и, к великому изумлению Зины, девушка моментально взобралась на холмик и стала на карачках продираться обратно сквозь кусты в своей ярко-белой футболке.
- Стой! – Люся рванулась за ней, но схватить не успела. – Зина, держи ее!
Было поздно. Дак-дак-дак, до того ушедшее далеко вверх и вправо, молниеносно вернулось и коротко полоснуло по белому цвету: дак-дак. Лиля отрывисто вскрикнула два раза и тяжело, с треском повалилась в канаву – а танки словно только того и ждали: как на стрельбище, при трудной охоте на скрытые движущиеся мишени, удовлетворенные единственным точным попаданием, они дружно, красивым синхронным движением развернулись, сорвались с места – и помчались обратно в деревню.
Взрослые бросились наверх, велев пионерам лежать, и тоже скатились в противопожарный ров, где сразу увидели Лилю, которая полусидела, скрючившись, на дне, а рядом – растянувшую толстые губы, но от ужаса забывшую зарыдать Катю, по прозвищу Жиртрест, – та была цела и невредима, но напугана до полного остолбенения.
- Давай к остальным!!! – грозно рявкнула на нее Зина. – Тупица!!!
И даже добрая Люся, приподняв словно приросшую к глинистой земле девчонку, встряхнула ее и, подняв, как крупного щенка, за шиворот, выбросила из канавы наверх и толкнула, придав такое ускорение, что толстушка буквально вломилась в кусты, где уже просвечивали озабоченные лица постепенно очухавшихся пионеров. Девушки склонились над Лилей, беспомощно смотревшей на них снизу помутневшими синими глазами, – а лицо ее казалось сплошь вылепленным из серой сухой земли…
- Куда тебя? – глупо спросила потрясенная Люся, хотя уже и так очевидно было, что случилось самое страшное: пулевое ранение в живот, от которого нет спасенья.
В любом случае, Лилю надо было срочно уносить в лес, пока не вернулись танки, – пионеры, увидев, что опасность миновала, тоже высыпали на помощь и помогли подхватить раненую вожатую. Она молчала, глубоко закусив скомканную нижнюю губу и зажмурившись: эта гримаса крайнего страдания испугала бросившихся было бестолково хлопотать детей – и они столпились шепчущейся кучкой в отдалении, пока Зина умелыми движениями, не раз отрепетированными на курсах, перевязывала странно маленькую и почти бескровную рану справа внизу живота подруги…
- У меня папка – фельдшер… На империалистической был… А потом – в Красной Армии… против Врангеля воевал… – выделился вдруг отчетливый голос долговязого, всегда будто из одних длинных угловатых конечностей состоявшего Тёмки. – Он говорит, что раны в живот – самые опасные. После них мало, кто выживает…
- И, главное, из-за этой дуры… – поддержал кто-то из мальчишек. – Она же вообще пустое место… Жиртрест он и есть Жиртрест. Прихлопнули бы ее там немцы – никто б и не чихнул… У, жирнюга трусливая… – он замахнулся на Катю локтем, но ударить не посмел.
Бедняжка всхлипнула, отбежала прочь и с облегчением заплакала у березы – но даже из девочек, обычно бросавшихся друг за дружку горой против часто и жестоко задиравшего их мальчишечьего племени, никто на этот раз не поспешил к ней с платком для вытирания соплей и утешениями… Из девичьей группки раздался разноголосый шип:
- И правда, лучше бы… эту… чем Лилю… Лиля добрая, она картины рисует и никогда не ругается, а эта… Всегда жует что-то, ябедничает и в хвосте тащится… Вечно ее ждем, а она канючит…
Стоявшая на коленях у раскрытого рюкзака Люся, вскочила и грозно пошла на подопечных:
- А ну-ка, замолчали! Герои выискались! А между тем, никакой храбрости никто не проявил! Только и сумели, что, как зайцы, в кусты, брызнуть! А на товарищей, на отставших, на упавших – и головы не повернули! Ни один! И не стыдно! И еще стоят тут, судят, кому жить, кому умирать, по их мнению, – а ведь это только Бог решает, не… – она запнулась на полуслове, сама поразившись выскочившему слову.
Но никто, даже непримиримая Зина, сосредоточенно рубившая молодую осиновую поросль для носилок, и не подумал ей возражать, дети притихли и попятились.
Вот этот переход оказался уже по-настоящему страшным. Кое-как сооруженные из прочных слег и запасной одежды носилки бессменно несли, надрываясь, Зина и Люся – спереди, а сзади через каждые полчаса сменялись по четыре человека из пионеров, хватаясь по двое за каждый конец, остальные испуганно жались вокруг, в страхе озираясь, прислушиваясь и стараясь ступать как можно тише. Путь держали на неведомое Веретенниково – большое, судя по карте, село, лежавшее в четырех километрах к северу, надеясь, что туда немцы еще не добрались, и пока еще слепо веря в спасительность прогрессивной советской медицины, которую надеялись там обнаружить – в виде умных, готовых немедленно помочь врачей в местной больнице, в чьи надежные руки можно было бы вверить умирающую и услышать такое знакомое по фильмам и книгам обнадеживающее, воскрешающее: «Будет жить!». Да и вообще – как такое могло случиться: только что она ходила меж ними, смеялась, рисовала, подбадривала – живая, красивая, самая красивая из трех вожатых – той незнакомой и непривычной им всем красотой хрупкого, неяркого, но редкого и благородного цветка.
«А ведь она из "бывших"», – вдруг ни к селу, ни к городу, подумала Люся, когда во время очередного короткого привала прилегла рядом с носилками, чтобы вытереть смертный пот с Лилиного высокого мертвенно-бледного лба. Почему-то вспомнилась та, никогда не виданная ею барышня, что некогда жила в их ленинградской квартире, писала красивыми вставочками в тетрадке, вышивала детский крестильный чепчик; она, наверное, была похожа на Лилю…
- Люсенька, я умру? – вдруг спросила та, приподняв бледно-сиреневые веки; притушено сверкнула густая синь глаз под длинными влажными ресницами.
- Что ты, что ты! – замахала руками Люся, прекрасно понимая, что лжет. – До больницы уже буквально два шага! А у нас знаешь, какая медицина? Знаешь? Самая передовая в мире! В два счета вынут эту дурацкую пулю – и не заметишь! Будешь потом ее на шее носить и смеяться!
- Мне не себя… Я – что… Мне маму жалко… У нее никого, кроме меня, нет… – две слезинки выползли из вновь зажмуренных глаз, Лиля неглубоко, рывком вздохнула. – Мне бы ради нее…
- Лилечка, не надо! – приподнялась рядом из травы пластом лежавшая Зина. – Сейчас уже вообще, наверное, все в порядке. Немцев, скорей всего, уже обратно к Латвии гонят – то-то они так озверели! Ты видела в кинохронике наши тяжелые КВ-2? Неуязвимые колоссы Сталина? Где против них выстоять этим жестяным коробкам? Драпают, небось, и оглянуться боятся! А мы через час уже в больнице будем – и тебя сразу на операционный стол! А потом – самолетом в Ленинград! Ну, давай, держись, немного осталось!
- У меня рана, как у Пушкина… – мельком улыбнулась Лиля. – А он не выжил… Только три дня промучился…
- Да когда это было! – с возмущением почти крикнула Зина. – Сто лет назад! Тогда врачи вообще ничего не умели! А сейчас… Даже не сравнивай! – она делано рассмеялась: – Надо же – Пушкин! Нашла, о ком вспоминать!
- Пора идти, а дети пить хотят, фляги пустые давно… Не говорю уж, что голодные… Совсем ослабеют – плохо будет… – пробормотала Люся.
Зина задумалась:
- Ну, накормить их мы все равно не сможем: у нас только концентраты, а огонь разводить нельзя – дым пойдет, могут увидеть. Мы же не знаем наверняка, где немцы. Конечно, их гонят, но все-таки… А вот напоить детей надо бы. Без еды человек долго продержится, а без воды… – Она развернула карту на коленях: – Точно. Тут река буквально в полукилометре – все та же Кухва. Давай-ка мне котелок побольше, я сбегаю. Понятно, что вволю напиться не удастся, но все же лучше, чем ничего. Я быстро – туда и назад, это четверть часа – не больше. Детям все равно нужно еще отдохнуть – прямо сейчас выступить не получится.
Зина подхватила большой мятый котелок – тот самый, в котором еще вчера вечером, а казалось – в другой жизни, кипела мутная вонючая уха, неумело сваренная мальчишками, и быстро пошла в нужном направлении – но отнюдь не беззаботным шагом туриста, а упруго и бесшумно ставя ловкие ноги в крепких кожаных ботинках, одновременно чутко прислушиваясь и вглядываясь в светлую чащу. И она услышала. Услышала в отдалении громкие мужские голоса, то и дело прерывавшиеся взрывами самого веселого смеха. Девушка замерла: наши? Неужели сейчас можно будет подбежать к советскому командиру, рассказать о случившемся несчастье, получить указания – а может быть, сразу и квалифицированную медицинскую помощь?! Но опытная осовиахимовка не торопилась, а лишь напряженней прислушалась, ступая еще тише, – и вдруг ее бросило в дрожь. Еще нельзя было разобрать слов, но ухо чутко уловило чужие интонации зычного молодого хохота и удалых возгласов; вовсе не из русских звуков, кровно родных и безошибочно опознаваемых, состояла далекая речь. Там, впереди, были враги. Уверенные в себе, ничего не боявшиеся, уже хозяевами ощущавшие себя на этой земле! Но Зина не повернула назад – лишь опустила на землю слабо брякавший котелок – и дальше тронулась бесшумным женским и кошачьим шагом, ведомая не простым человеческим любопытством, а надеясь узнать что-то важное для себя: ведь в школе немецкий она изучала шутя, неизменно имея «отлично» в году и четверти. Впереди виднелся широкий солнечный просвет, а за кустами вскоре показался дикий зеленый пляж, осторожно подобравшись к которому, вожатая стала свидетельницей сцены, поначалу показавшейся совершенно мирной: человек десять парней, примерно ее ровесников, широкоплечих и мускулистых, как комсомольцы-студенты на каникулах, резвились в реке, поднимая фонтаны золотых в клонящемся солнце брызг, задиристо хохоча и вскрикивая. Двое, по пояс голые, стояли к ней спиной на берегу, перекрикиваясь с товарищами, но в воду не шли – это, верно, была ленивая, не опасавшаяся никаких подвохов охрана. Зина быстро окинула взглядом поляну: там и тут валялась, придавленная оружием, чужая серая амуниция, давно знакомая по обязательным перед каждым фильмом киножурналам, в которых симпатичные стройные парни в странно изогнутых касках небрежно шли по завоеванной Европе, жуя на ходу длинные травинки… Вдруг один из солдат-дозорных обернулся и целеустремленно направился в Зинину сторону, где та засела в густом кусте, жадно подсматривая сквозь листья. Девушка мысленно поблагодарила себя за то, что не забыла механически накинуть перед пробежкой к реке свою легкую брезентовую защитного цвета куртку, казавшуюся такой лишней на без одного дня июльской жаре, а выходило – спасительной. Солдат шел расслабленно, явно не замечая, что за ним наблюдают, и Зина решилась осторожно отодвинуть мешавшую смотреть ветку… Он уже стоял с другой стороны ее куста и, насвистывая, расстегивал гульфик с явным намереньем по-быстрому облегчиться. Зина смотрела, как завороженная, – она впервые видела так близко настоящий мужской – взрослый! – «прибор», вовсе не походивший на вялые октябрятские письки, которые она совсем недавно, в лагере, небрезгливо держала пальцами, когда ночью обходила палаты самых младших с целью высадить на горшок тех, кто мог описаться во сне, – и сонные, еще лишенные стеснительности перед старшими, мальчики доверчиво предоставляли вожатой возможность подержать свои скромные трубочки под негромкое: «Пись-пись…», зная, что сейчас будут водворены ею обратно в теплую кроватку… Было страшно и смотреть – и зажмуриться, невероятная гадливость, почти тошнота вскипала изнутри, даже проскочила неуместная мысль: «Если я выйду замуж, в меня – вот это! – пихать будут?! Ну, уж нет!!» – а меж тем, интересный предмет исчез во тьме солдатских штанов, а его беспечный обладатель, все так же насвистывая, – причем, не марш, а чуть ли на арию Зигфрида! – уже удалялся в направлении реки, где друзья его, вскарабкиваясь в воде друг другу на плечи, с грохотом и ревом обрушивались в реку, устраивая маленькие тугие взрывы…
Зина очнулась – теперь ею двигали гнев и возмущение. Она почти безбоязненно сунулась из кустов в сторону ближайшей аккуратной кучки одежды, придавленной двумя крест-накрест лежавшими карабинами, мгновенно схватила их и случившийся рядом вещмешок, после чего все на том же дыхании метнулась в кусты и, выпрямившись во весь рост, побежала. На ходу оглянулась: ее маневр остался никем не замеченным – и Зина ускорила шаг. Не удержавшись, метров через триста остановилась, бегло осмотрела добычу и радостно вскрикнула: ей удалось утянуть у врага не только обычную магазинную винтовку-маузер, но и сравнительно редкий, лишь для офицеров предназначенный пистолет-пулемет «шмайсер», годный для ближнего боя. Его можно будет отдать Люсе, наскоро показав, как управляться, а уж из винтовки она, Зина, не промахнется в фашиста и с восьмисот метров! А если еще в вещмешке найдутся запасные магазины… Через минуту она вбежала на поляну, навстречу выскочила переволновавшаяся ее долгим отсутствием Люся, со всех сторон бросились, щебеча, испуганные пионеры.
- Воды нет, но добыла оружие, – скороговоркой бросила им Зина. – Уходим немедленно, сразу: у реки немцы. Лиля как?
- Держится… – выдохнула обомлевшая Люся.
- Прекрасно. Бери автомат, вешай на шею, потом разберемся. А мне с винтовкой сподручней, если что: я ведь Ворошиловский стрелок. Ребята! Двое беритесь пока вместо меня за носилки, я должна на ходу проверить рюкзак, нет ли там запасных обойм. Ну – раз, два – взяли! Не разговаривать, не шуметь! Отправляемся…
Этот путь был бестолков и ужасен. Подгоняемые страхом погони или, наоборот, лобового столкновения с немцами, они трусили гурьбой, петляя по лесу, подвывая от ужаса, увязая во мху, цепляясь одеждой за сучья, падая, плача, неловко поднимая друг друга – и все таща, почти уже волоком, неподъемные, но драгоценные носилки, где, укрытая до подбородка, металась почти без сознания Лиля, и на заострившееся, без кровинки, уже будто глиняное лицо ее боялись случайно взглянуть.
Сосны расступились перед ними как-то вдруг, сверкнуло розовое предзакатное озеро; измученные, едва ступавшие дети, поддерживая друг друга, по двое, по трое выбирались с гадко пружинившего под ногой мха на твердую, утоптанную лужайку. С краю паслась молчаливая рыже-полосатая коза, поднявшая при виде гостей грациозную голову, чуть дальше скромно стояла, слегка кренясь набок, охотничья избушка с распахнутой дверью, и в проеме, одетый в подоткнутый, штопаный со всех сторон выцветший подрясник, с темным крестом на груди, стоял белый как лунь длинноволосый священник. Заметив детей и вожатых, из последних сил втянувших на поляну носилки, он изумленно подался вперед.
Битва
- И вы уверены – они видели, что перед ними дети? – потрясенный сбивчивым рассказом Зины и Люси, Герман спросил о самом главном для него сегодня.
- Да конечно! – остро и горячо защебетали девушки. – В чистом поле среди низких еще колосьев… Белые панамки и красные галстуки! Маленькие все! Да и нас троих вряд ли можно было принять за бойцов!..
Отец Герман выпрямился, прикрыл глаза: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что сомнения мои разрешил…» – но медлить было нельзя. Сейчас он снова был мужчина, старший и – врач:
- Кладем ее на лавку. Осторожно. Нужно немедленно осмотреть рану.
- Где тут ближайшая больница? Ее бы срочно к врачу… – умоляюще прошептала Люся.
- Больницы здесь нет, есть только фельдшерский пункт в Веретенниково, а в Острове того и гляди будут немцы, да и не довезти туда вашу подругу. Но я, представьте, хирург. Двадцать пять лет оперировал, пока священником не стал… Здесь тоже пришлось… один раз, – быстро объяснил Герман.
И вдруг Зина вскинула голову, прищурилась и глянула – пристально, но не враждебно:
- Вы… ссыльный?
Он улыбнулся:
- Ссыльный-доброволец. Сам себя сослал. Долго рассказывать.
- Я окончила курсы санитаров! Если надо, буду… – Зина, помявшись, решилась: – Ассистировать вам. Я знаю названия многих… почти всех инструментов.
Он кивнул и стал быстро распоряжаться:
- Затопи плиту, нагрей утюг; вон там инструменты в саквояже – кинь в кастрюлю и стерилизуй, сколько получится… Вытри стол, за занавеской на полке возьми чистые простыни, обе прогладь, одну постели, другую приготовь, чтоб покрыть… Закрепи свечи тут и тут… Подтащи тот ящик, накрой чем-нибудь, все, что найдешь в том шкафчике, – пузырьки, вату, пакеты с нитками – разложи аккуратно… – он обернулся к Люсе: – Теперь ты. Займешься детьми. Посмотри сама посуду, утварь, что из еды можно найти… Жаль, на огороде еще ничего нет… Ведро в сенях возьми, подоите козу, выпейте молока сначала. Потом приготовь на костре крупу, картошка еще осталась – поешьте, и… отведи их туда, к озеру, что ли… Чтоб не слышали, если вдруг… – Герман содрогнулся, – …если она закричит.
Он пока еще не отпускал последнюю надежду – простую надежду, что пуля прошла как-нибудь удачно, вбок, не зацепила кишечник, кости – и можно будет просто прокалить хорошенько щипцы – да и… выдернуть… Осторожно завернул окровавленную футболку на животе раненой девушки, посмотрел ей в лицо: глаза плотно закрыты, черты заострились, страшная печать тьмы легла на весь облик. И примитивная аппендэктомия, делая которую три года назад, он сам чуть у стола со страху не помер, показалась ему детской игрой, студенческим баловством… Девушка даже не простонала ни разу, когда он бережно орудовал зондом, – значит, глубокий обморок.
- Зина, найди там срочно камфару, набери шприц – пять кубиков. Да, пять! – и отметая возможные возражения: – Ничего, что нестерильный! Тут уж не о том речь.
«Нижняя правая часть живота… Пуля здоровенная, и не одна – ну, да, пулемет… Из танкового пулемета в девчонку – сволочь… Полный живот крови, но, вроде, остановилась сама… Кишки, конечно, пробиты… Всё вывалилось в брюшину – а это верный перитонит… Промою, конечно, но… Подвздошная кость и, похоже, крестцовая, затронуты… На что это все похоже, Господи… Я ведь знаю это, читал… Где… – Герман чуть с размаху не хлопнул себя ладонью по лбу – остановился, сохранил руку чистой. – Пушкин Александр Сергеевич… Почти его рана… Плохи дела…».
Он закрыл глаза, выпрямился, изо всех сил пытаясь сосредоточиться, вспомнить. Буквально недавно – да минувшей весной – этот милый Рюрикович в больнице, в Острове, убежденно доказывал, что сейчас Пушкина вполне можно было бы спасти, – и даже вдохновенно рисовал – руками в воздухе! – план операции, как он ее видел… Что же он тогда… Впрочем, и без него можно догадаться… Димка Волков, Димка… Тебя бы сюда сейчас… Нет – к тебе бы… Вскрыть брюшную полость нижним серединным разрезом… Эвакуировать выпот и кровь… Это не эвакуировать – это выгребать придется… Резецировать участки тонкого кишечника… А их там, может, десять… Восстановить непрерывность кишечной трубки… Ага, если от нее что-то осталось, а не одни лохмотья… Широко рассечь раневой канал, остановить кровотечение из поврежденных сосудов – еще пойди, найди их… Удалить пулю и осколки подвздошной и крестцовой костей – конечно, и окажется, что кроме осколков ничего и нет… Санировать и дренировать брюшную полость и малый таз… Ну, до этого-то моя пациентка вряд ли доживет: умрет от болевого шока и падения давления… Значит, еще и гемотрансфузию надо делать… А какая группа у нее – поди узнай… Нет, это безнадежно все… Безнадежно.
- Зина, ты случайно не знаешь, какая у Лили группа крови?
Она быстро обернулась от стола:
- Случайно знаю. Мы, в Ленинграде еще, вместе на медосмотре были и справки потом получали – помню, посмеялись, что группа у нас одинаковая – вторая…
«Господи, вот это удача!»
- …и резус положительный.
- Какой резус? – оторопел Герман.
- А вы и не знали? – с нескрываемым торжеством выпрямилась Зина, наивно гордясь случаем научить чему-то аж взрослого доктора; конечно, одичал он тут в лесу. – Его только в прошлом году открыли, в честь подопытной макаки назвали. Бывает отрицательный и положительный. Переливать можно только одинаковый, как у нас с Лилей. А что это такое – я не очень поняла…
- Умница! Ты главное поняла! – воспрянул Герман. – Пол-литра своей ты дать подруге, конечно, не откажешься? Тогда бросай все, тащи сюда другую лавку и ложись рядом… Сделаю прямое переливание, канюля есть у меня… Потерпишь? Но ты должна знать – вену твою… правую локтевую… пересечь придется и перевязать… Лишишься ты ее, в общем… Это больновато. И, скорей всего… бесполезно: рана у Лили тяжелая, с ней даже в больнице трудно справиться, а уж здесь… Но…
Зина уже подтаскивала лавку:
- Не тратьте слов, товарищ доктор. Что бы ни было – надо сделать все, что можно, – она резво улеглась, закатала рукав, но вдруг дрогнула, как маленькая: – Только побыстрей, хорошо?.. – и закрыла глаза, веки затрепетали…
Хлороформа не было у Германа уже давно – в Островской больнице он теперь находился на строгом учете, и просто так унести пузырек не получилось. Зато дал ему Димка чуть не целый ящик прокаина для местного обезболивания, благодаря чему все поверхностные операции, которые довелось отшельнику сделать за последние пару лет, не принесли пациентам боли – он даже зубы колхозникам научился лихо выдергивать. После переливания Лиля обрела чуть более человеческий цвет лица, но все еще лежала в забытьи – и Герман решился на инфильтрационную анестезию по Вишневскому – методом ползучего инфильтрата, применению которой обучился, дивясь прогрессу, когда ассистировал Волкову на ночных операциях. Впрочем, выбора не было. Добавил на всякий случай еще и внутрибрюшную – по Брауну… Весь сосредоточившись на операции, про Иисусову молитву позабыл вовсе:
- Лопатку дай… Да не ту – Буяльского… для оттеснения… Зажим… Еще… Да кровоостанавливающий же! Который – клемма… Вон они, сбоку у тебя… Зеркало… Побольше… Так. Подъемник, крючок. Острый… Иглы кишечные – другие, не эти! Круглые!! Дура! А говорила – знаешь… Мочевой пузырь цел… Удивительно, но хоть одна радость… Теперь скальпель – но только с ограничителем… Турникет!!! Турникет – льет же!!!
С него и самого лило нешуточно – стоял весь мокрый и липкий, счет времени потерял… Жива – не жива… Давление мерить все равно нечем. Умрет. Сейчас или позже…
- Теперь кетгут, аккуратно… Иглодержатель… Тьфу-ты, упустил… Пинцет! Господи, почему ты человека только с двумя руками сотворил?! Мне третья нужна! И четвертая! Так, спокойно, шьем… Еще кетгут…
И тут он ее услышал. Медленно и размеренно, где-то внутри головы, но не там, где обычно бегают мысли, она отрешенно звучала как бы сама по себе – но и неразрывно с ним, со всем его внутренним устройством, связанная: «Господи… Иисусе… Христе… Сыне… Божий… помилуй… мя… грешного… Господи… Иисусе…». Рука на мгновенье дрогнула – главное, не обольщаться, не возгордиться – стяжал, дескать… Видали мы таких стяжателей…
- Дренаж. Тампоны вынимаем… Ушиваем… Жива? Хорошо… Другую иглу…
Когда выбрался наружу, в темно-голубую, тревожно бухавшую со всех сторон ночь, – соображал плохо, верней, не соображал совсем. Трясло с головы до пят, ноги подкашивались – так и осел на порог, тупо глядя на пылавший посреди поляны костер, вокруг которого жались друг к дружке сонные пионеры… Вторая девушка, подбежав, жарко говорила что-то – страшное усилие потребовалось, чтобы понять:
- …а палатки мы давно уже бросили… дети на голой земле засыпают… простынут… Лиля… будет жить?..
Он медленно повел головой, стал с трудом выдавливать слово за словом:
- Нет. Еще жива, но… Рана страшная. В животе месиво. Две пули. Крупного калибра. Я прооперировал. Но не поможет. И инфекция. Нет против нее… средств. Иди, помоги. Зине прибраться… Лиля за занавеской. Детей на пол… И сами. С рассветом пойдем. Киевский тракт близко. Пять верст. Напрямки.
А заря уже тут была, на подходе: коротка летняя ночь на Псковщине, легка, прозрачна. Заря с зарей, как в Ленинграде, не сходятся, но недалеко друг от друга отстоят. Как первые птицы голос подадут – и часов не надо: половина пятого; словно оркестровая яма в антракте, недолго свои музыкальные горлышки настраивают – вот-вот грянут… А уж как первые лучи из-за макушек стрельнут – тут тебе и хор, и оркестр – Мариинки не надо.
Да, Мариинка… Мех вокруг нежного лица, соленые губы у края его рта… Маленький москательщик, глупо и жутко погибший… Последняя, так страшно отмеченная встреча. Когда-то казалось, что незабываемая. А уж сколько лет не вспоминал.
* * *
Утром в окно постучали – а окно-то было у отца Германа непростое, даром что единственное: еще с прошлого века сохранилась в нем толстая полупрозрачная слюда, которой ничего не делалось, – но и увидеть сквозь нее, кто пришел, не получалось: словно вечная изморозь лежала на крошечном оконце. Правда, по деликатности стука понятно было, что не враги. Пока. Это стучала самая преданная «прихожанка» его – колхозница Анна, мать чудесно прооперированного Леньки и хорошеньких трехлетних близняшек Верочки и Наденьки, явившихся на свет одновременно со вторым рождением их старшего брата под скальпелем доктора Богданова. Он открыл ей дверь, впустил в сени – женщина вся трепетала от волнения:
- Немцы идут… Вот-вот у нас будут… Взрослых парней всех в армию угнали – еще двадцать четвертого… Сельсовет разбежался, оба председателя с замами барахло свое на полуторку погрузили – и ходу… А коммуняки еще раньше сдернулись… В деревне бабы одни с дитями да старики… Говорят – немец придет, колхоз отменит – и заживем как раньше. Вроде, и хорошо – а все боязно: вдруг ихний порядок не слаще будет. Или уж хуже некуда?..
- Есть, Анна, – Герман распахнул перед ней дверь в единственную горницу, и «прихожанка» ахнула при виде вповалку спящих на полу и даже под столом пионеров и вожатых. – Вот в этих детей немецкие танки вчера стреляли из пулеметов. За занавеской на лавке девушка – я у нее две пули из живота вечером вынул, умирает. Сама суди – хуже это, чем колхоз, или нет. Хотя пришла ты вовремя…
Анна ахнула и чуть слышно запричитала – но отшельник твердо взял ее за локоть:
- Замолчи и слушай. Мне помощь твоя нужна. Я сейчас всех подниму и покормлю – иди козу подои по-быстрому, и что там в корзинке-то у тебя, давай – а потом поведу к Киевскому тракту. Их надо срочно в Ленинград отправлять, к родителям, – но, пока машину не найду и каждого туда не посажу, не успокоюсь. А вот девушку с места трогать нельзя – поэтому останешься, присмотришь. В смысле, поменяешь там под ней, если что, лекарство дашь, какое скажу. Уйду часа на три-четыре – ничего твоим дома не сделается, Лёнька приглядит. Ну, а если девушка – ее Лиля зовут – раньше умрет… Тогда что уж… Лицо ей накрой, молитву сотвори и ступай с Богом.
Женщина затряслась в мелких усердных кивках:
- Все сделаю… Как Бог свят… – и бросилась с ведром во двор, волоча за собой норовистую Стрелку.
Благодаря ее ловкой и спорой помощи вышли быстро. Отец Герман, одетый в светское, то есть, в рубаху и парусиновые штаны, что в сочетании с бородой и длинными, в косичку собранными волосами, делало его похожим на того, кем он и был – на ряженого попа, уверенно вел детей через лес по прямой. Притихшие, давно оставившие дурацкие шутки и разговорчики, пионеры трусили налегке, как стайка утят за матерью, в присутствии взрослого мужчины, да еще доктора, проникнутые особой уверенностью… Он же, осторожно, чтоб никого не хлестнуло, отпуская за собой тугие ветки, шел по лесу и с горечью думал о том, что детскую эту уверенность ему подкрепить нечем – совсем. А ну, как придут к тракту – а там уж немецкие войска топают победным маршем! Что тогда? Он не знал, но чувствовал, что случись такое – и всем несдобровать, а детишки, вдобавок, в красных галстуках, дурачки. Он обернулся:
- Всем галстуки снять! Увидят – расстреляют на месте и разбираться не станут – дети или не дети. А так, если вдруг… нарвемся… скажем – просто школьники с учителями.
Пионеры замерли было на миг, но потом нерешительно потянули руки к зажимам и узелкам.
- Переходим на подпольное положение, – жалко улыбнулась Люся, снимая свой. – Ничего, ребята, мы еще наденем их. Обязательно наденем. Обещаю…
Господи, что эта девочка могла обещать…
- А я свой не сниму – хоть режьте меня, – вдруг пропищал из кучки детей тонюсенький голосок. – На нем кровь революционеров и красноармейцев. У меня дедушку Колчак в Сибири убил. Не сниму.
Пионеры расступились, оставляя посередине толстую застенчивую девчонку, похожую на готовую с перепугу броситься в бой морскую свинку, с двумя растрепанными косичками, подвязанными с двух сторон в виде жалких «баранок».
- Быстро, Катерина, – решительно шагнула к ней Зина. – Из-за тебя задерживаемся. А ведь каждая минута сейчас дорога!
- Давай, Катя, – несколько более мягким тоном поддержала Люся. – Видишь – все сняли. Это на время, не навсегда.
- Опять она… Из-за нее… Как тогда… Все не как у людей… – зашелестело среди маленьких отступников.
- Да скажите ей, наконец, товарищ доктор! – чуть ли не топнула ногой Зина. – Не силой же с нее галстук снимать. Сознательность должна проявить. Ей же хуже будет, если что: решат, что только одна Катя пионерка, всех отпустят, а ей – пулю в лоб. Скажите!
Он опустил голову:
- Не скажу… Прости… Я понимаю ее… Так раньше за крест готовы были умереть… Теперь – за галстук. Хотя, с моей точки зрения, это и неправильно – ведь крест и галстук несравнимы… Но природа поступка – одна. И я это уважаю. Пусть, как хочет…
- Так ведь она же умереть из-за этого может! – робко возразил кто-то из детей.
Отец Герман выпрямился:
- Значит, умрет. И Господь примет ее так, как если б она за крест умерла… – тут он спохватился, встряхнулся: – Нечего рассуждать о том, чего не знаете! Трогаемся! – он повернулся и с треском вломился в подлесок, сразу же вновь ощутив в голове: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий…» – и еще убыстрил шаг.
На полдороге их путь пересекала полузаброшенная проселочная дорога: когда-то широкая, она начала понемногу зарастать травой, с обеих сторон склонились, образовав живую арку, молодые березы. Дорога дугой огибала лесной массив – и дальше начинался небольшой уклон, обеспечивавший дополнительную легкость хода. Только выбрались на просвет, подождали отстающих, да первые ходоки во главе с отцом Германом успели втянуться на ту сторону, как из-за недалекого поворота, почти неслышные за мирным шумом берез, вылетели два колясных мотоцикла и низкая черная машина. Отшельник только услышал сзади громкое: «Немцы!!!» – и дети табунком проскакали мимо него, перепрыгивая через бурелом и отчаянно хрустя ветками, а сразу за ними с округлившимися глазами примчались две вожатые с оружием наперевес.
- Вас видели? – бросил он, но ответа не требовалось: звук моторов замер на дороге метрах в ста, загавкали чужие отрывистые голоса...
Зина рванула с плеча винтовку:
- Всем уходить; доктор, ведите их. Люся – со «шмайсером» – замыкающая. Я прикрою, у меня ведь три обоймы запасные. Как собак, перестреляю – и догоню.
Люся дернулась было – «Я с тобой!» – но была остановлена таким свирепым взглядом товарки, что отшатнулась.
- У-во-ди-де-тей, – низким голосом приказала Зина и, не произнеся больше ни слова и не оглядываясь, бросилась назад.
- Бегом! Бегом! – призывала Люся, хотя пионеры были уже далеко впереди.
Герман и она нехотя последовали за ними, оглядываясь на бегу.
- Зина – Ворошиловский стрелок… Она им спуску не даст, – задыхаясь, говорила девушка, держась вровень со священником. – За нее можно не волноваться… Не завидую я… тем немцам, которые… встретятся ей… на пути…
Он с сомнением покачал головой, чувствуя, как сердце в прямом смысле обливается кровью, – но в этот миг позади грянули первые выстрелы, и сразу часто и сухо затрещал лес, короткий посвист пуль заполнил воздух.
- Пригнитесь, доктор! Они почти на километр бьют! – крикнула Люся, но бежать согнувшись было неудобно, и он выпрямился, полагаясь на милость Всевышнего, схватил вожатую за руку и прибавил ходу.
Вскоре они нагнали свой панически бегущий отряд и, подбадривая друг друга, прикрывали спины детей, слушали, как отдаляются участившиеся выстрелы, по мере того, как беглецы уходят все глубже в чащу. Самое страшное – свист шальных пуль вокруг – постепенно прекратилось – но дальняя перестрелка не замолкала, к винтовочным выстрелам прибавились короткие автоматные очереди. Все остановились перевести дух – мальчики и девочки одинаково хрипели и рвали пуговицы на груди, кого-то тошнило у дерева…
- Она одна… А их много… Она не справится… – Люся со слезами рвалась назад, Герман с трудом удерживал ее.
- Ты не поможешь, – каменно твердил он. – Одна или две – не имеет значения. Там опытные солдаты, прошедшие всю Европу.
- Она показала мне, как стрелять! – заливаясь рыданиями, трясла автоматом девушка. – Нельзя бросать товарища в беде!
- Чем ты поможешь с одной обоймой! – рявкнул, наконец, отшельник. – Береги ее, может, пригодится! Дети еще не в безопасности! И это твоя единственная забота сейчас! Зина затаится и потом уйдет! А если и нет – нельзя, чтоб ее жертва оказалась напрасной! – он обернулся на детей: – В путь! Без слез и соплей! Вперед! Вперед, я сказал! Осталось немного!
Немного – до чего? Он не знал ответа, но сердце в мгновенье обернулось льдиной. В таком не зазвучит Иисусова молитва…
* * *
Немцев на Киевском тракте за Островом еще не было, но на западной окраине города уже шли бои. По самому шоссе, по обочинам, даже по канавам, сплошной толпой, как на демонстрации, шли оборванные, голодные, часто даже босые люди, почти без поклажи – только с разновозрастными, заплаканными детьми. Они двигались, словно заведенные, молча, иногда расступались, провожая хмурыми и злыми взглядами, перед редкими гружеными полуторками, которые, как тяжелые баржи, медленно резали человеческое море; у тех, кто сумел попасть в машины, было много шансов добраться до еще советского Пскова и спешно двинуть оттуда на казавшийся неодолимым для врага Ленинград.
Некоторое время Люся и Герман брели рядом с семьей изнуренных беженцев из Белоруссии, даже взяли на руки каждый по их маленькому, странно смирному ребенку.
- Бежать пришлось в одну минуту… Даже меньше… Так и выскочили, в чем были… Кругом горит все, самолеты с неба пикируют… Только отбежали – и уж дома нет… А до того руководство ответственность за эвакуацию на себя не брало… Все распоряжений ждали, из центра… Нас, говорят, в паникерстве обвинят и расстреляют за это… Вот тебе и паникерство… Теперь и сами пропадем, и детей погубим… – размеренно шагая под тяжестью сидевшего у него на шее мальчишки лет четырех, осипшим голосом рассказывал глава семейства.
Но не успела отзывчивая, все время утиравшая слезы Люся ему как следует посочувствовать, как издалека донесся женский визг: «Самолеты!!!» – и вся толпа бросилась врассыпную, крича и давя упавших. «Ложись! Ложись!!!» – неслось отовсюду вперемешку с рыданиями и растерянными криками заметавшихся детей. Белорус дернул Люсю в сторону – «Залегай, раззява!!» – но она, как завороженная, еще несколько секунд смотрела, как вдоль дороги, ревя и воя, понемногу снижаясь, летели два толстобрюхих самолета-крестоносца, – и вдруг эти черные брюхи разродились маленькими черными цилиндрами, посыпавшимися щедро, будто мак из сухой цветочной коробочки. Герман повалил девушку в канаву, закрывая собой; как живая, зашевелилась, готовясь раскрыться, земля, заложило уши от непереносимого грохота… Он не знал, успели ли разбежаться и залечь пионеры, ежесекундно ждал смертельного удара в беззащитную спину, которая казалась теперь такой огромной, такой значительной, такой заметной сверху – и все целило теперь в нее… Будет больно или нет? И какая боль? Жгучая? Острая? Или просто удар – и конец?..
Когда бесконечная, краем зацепившая вечность бомбежка кончилось – его поразила та будничность, с какой стали подниматься, вылезать и отряхиваться уцелевшие люди, оглядываясь в поисках своих детей и добра, и то упорное, тупое спокойствие, с которым все снова дружно двинулись в путь на север… Бомбы легли далеко сзади, никого по-соседству не задело, лица белоруса и его молчаливой жены ничего не выражали, но на Люсином, черном от грязи, горели два огромных, опустошенно-светлых глаза…
- Да мы привыкли, пока шли… Уж в десятый раз в кювет бросаемся… Или больше, – объяснил мужчина, принимая своего серьезного малыша из ее рук.
Вожатая подхватилась и, остро напоминая наседку, собирающую цыплят после неожиданного проезда телеги, кинулась считать и ощупывать своих подопечных, что один за другим вылезали из придорожного рва, размазывая слезы и пыль по осунувшимся мордашкам. Никто и внимания не обратил на внезапно затормозивший рядом грузовик с двумя десятками не топавших на своих ногах счастливцев. Но из кабины грянул срывающийся мужской вопль:
- Люся!!! Люся!!!
Она подняла голову, пролепетала:
- Господи, товарищ Зырянов…
Начальник лагеря уже спрыгнул на ходу и подскочил к ней, забрасывая вопросами:
- Где дети? Все живы? А другие вожатые? Зачем вы ушли с маршрута? Откуда у вас автомат? Вас искали и двадцать второго, и двадцать третьего… Почему вы не вернулись? Потом лагерь пришлось эвакуировать, а я все ждал… Ждал до последнего… И только, когда они уже совсем близко подошли, – поехал вот с завхозом… Беженцев взял по дороге… Люся, Люся, да что ж вы молчите?
Она действительно безумно смотрела на начальника и молчала, не веря своим глазам – и счастью. Герман подошел, приобнял ее за плечи, стал объяснять:
- Я врач, живу здесь, помог им выбраться. Одна девушка ранена, ее пришлось оставить в моем доме, в лесу. Другая… Другая, в общем, тоже осталась… Все ваши пионеры живы и здоровы. Но идти больше пешком не смогут. Им и так пришлось многое перенести, поэтому…
Но Зырянов уже откидывал задний борт кузова:
- Товарищи, всем взрослым придется сойти! Дальше поедут только дети с педагогом! Люся, сажайте их и влезайте следом, долго стоять нельзя!
А дети уж и сами карабкались, как умели, Герман бросился помогать, неотступно думая о том, что сейчас надо срочно к возвращаться к Зине… За Зиной… Не оставлять… Унести…
- Ну, Люсенька… Внученька… Ты ведь мне во внучки годишься… – глянул он девушке в глаза, когда все дети уже сидели в кузове – сомлевшие, почти равнодушные от усталости и пережитых ужасов. – С Богом, хотя ты в Него, наверно, не веришь… Счастливого пути. Желаю тебе…
Но Люся вдруг отшатнулась, будто ее ударили:
- Нет!!! И не просите!!! Там девочки!!! Пока я не узнаю… Нет, нет, ни за что! О детях теперь есть, кому позаботиться! – и, словно боясь, что ее потащат в кузов насильно, отпрыгнула в сторону и бросилась назад по шоссе.
Кивнув Зырянову, Герман дернулся за ней, но был схвачен начальником за рукав:
- Товарищ доктор… С ними девушка была… Зина… Статная такая… Строгая… Она…?..
Отшельник медленно и нежно отнял руку, посмотрел в лицо молодому растерянному мужчине и едва заметно покачал головой; увидел, как меж бровей того, будто в один миг прорубленная, легла глубокая скорбная морщина, которая никогда не разгладится, – на секунду склонил перед ним голову, потом отвернулся и пошел не оглядываясь.
По лесу двигались скорым шагом – не особенно таясь, но внимательно просматривая окрестности со всех сторон. Герман едва поспевал за легким Люсиным шагом, косясь на ее целеустремленный профиль с откровенным уважением. Эта комсомолка, еще недавно при нем стеснительно запихнувшая в карман галстук вожатой, была того же замеса, что и первые, казавшиеся железобетонными в своей вере христианки, – но те радостно умирали, чая скорой встречи с Небесным Женихом – а она? Как у нее, верящей в абсолютное ничто за последней гранью, доставало сейчас сил по этой грани так твердо, так мужественно идти?
- Вы то место… хорошо помните? – мрачно спросила на ходу Люся.
Он кивнул:
- Нам чуть левей надо взять… Я тут за три года все просеки-тропинки изучил… Как тот дедушка у Плещеева… Мне мама пела, у колыбели.
Она посмотрела смутно-вопросительно, но удержалась от вопроса, а он горько улыбнулся и стал напевать сквозь одышку от быстрого шага – специально, чтоб сбить ее мысли с того, что ей предстояло и от чего оградить ее он не мог:
- Дедушка, голубчик, сделай мне свисток…/ Дедушка, найди мне беленький грибок…/ Ты хотел мне нынче…/ Сказку рассказать…/ Посулил мне дедушка…/ Белочку поймать…
- Перестаньте! – Люся остановилась и повернулась к нему лицом, вся дрожа: – Я не маленькая, вы меня песенкой не отвлечете! – она перевела дыхание и сглотнула слезы: – Я одного боюсь… Боюсь, что мы ее не найдем… А это будет значить… Это будет значить, что она попала в плен… К… К ним, к этим… Она ведь, когда оружие добывала, в кусте сидела и видела, как один из них… – запнувшись на полуслове, девушка так вспыхнула, что Герман почти понял, о чем идет речь. – Неважно. Лучше умереть.
- Да, – искренне согласился он.
Они еще некоторое время шли молча – и вдруг как по команде встали, увидев ее одновременно. Зина ровно лежала навзничь, вытянувшись на пронзительно-зеленом, залитом бурой кровью мху, буквально изрешеченная пулями; застывшая спереди коричневой коркой походная куртка сплошь была взлохмачена рваными отверстиями. Похоже, стреляли из автомата в упор. Запрокинутое лицо с плотно закрытыми глазами, иссера-белое, как у статуи в Летнем саду, было спокойно и торжественно. Знал Герман эту торжественность. Как врач и как священник знал. После больших мучений наступает она. Очень больших.
- Звери, – прошептала, опускаясь рядом с телом подруги на колени, Люся. – Звери.
Она не плакала.
- Зверь такого не творит, – подошел ближе отец Герман. – Это сделали нелюди.
Поднял покойную на руки, неожиданно тяжелую – неожиданно легко – понес…
Место для могилы нашли прямо у его зацветающего озера – теплое, сухое место в песчаной земле под соснами. Анна, привычная к лопате, помогала копать, Люся отрешенно сидела на земле рядом с умершей, рассеянно перебирала спутанные темные волосы подруги – и все еще сухими и страшными оставались ее глаза; Лиля тихо и горячо бредила в избушке, звала маму, как и положено хорошей домашней девочке, температура перевалила за сорок, начинался неумолимый предсепсис… Молча орудуя лопатой рядом с Анной, не имея сил молиться, но слушая уже привычную, независимую молитву в собственной голове, отец Герман думал о том, что Зинино плотное, закаленное тело не сгниет, а высохнет, сохранится в этой замечательной почве – в песках так часто бывает: мумифицируются покойнички, а потом говорят – нетленные мощи… Мощи и есть.
Он выбрался наверх, кивнул Анне – хватит, мол – пошел в избу, надел епитрахиль, поручи… Вернулся:
- Отпевать будем.
Люся подняла лицо:
- Зачем это? Она комсомолка, ни во что не верит… Не верила… Ей бы не понравилось. Она даже, может, и некрещеная.
Он опустил руку девушке на голову:
- Это ей раньше не понравилось бы. А теперь понравится – будь уверена. Бог ведь есть независимо от нашей веры в Него. А крещеная или нет… Это, Люся, теперь очевидно: Господь Сам крестит тех, кто душу за други своя положил, в их собственной крови. А ее там много было – крови. Так-то. И еще Он сказал: нет больше той жертвы. Поднимайся давай. Сама-то крещеная?
Она кивнула:
- Да, у меня мама верующая. Нас у нее восемь, я младшая, – она вздохнула. – Самая любимая.
После отпевания сделали невысокий холм, укрепили временный, из неструганых палок связанный крест, химическим карандашом написали на маленькой фанерке имя. Вместо киселя и кутьи помянули черным хлебом, женщины – со Стрелкиным молоком, он – просто водой по случаю Петровок, слушая, как Лиля за занавеской монотонно зовет свою маму тоненьким голосом…
- Пойду я, – сказала Анна, перевязывая платок. – Уж и не знаю, что там, в деревне, делается… Благослови, отче.
Он поднял было руку, но на секунду задумался, заколебался:
- А что, Аня, у вас на фельдшерском пункте много лекарств, не знаешь?
- Знамо дело, много, – повела она круглым плечом. – Аккурат перед самой войной, дней десять тому, фелшар при мне из грузовика ящики доставал – новые из района прислали. Да что там есть, чего у тебя нету?
- Сульфидин, – вздохнул Герман. – Новое лекарство, инфекцию лечит. Только год, как появилось. Мне о нем доктор из Острова рассказывал: у них, представляешь, родильница от сепсиса совсем уж почти умерла – а стали ее сульфидином лечить – и поправилась. Волшебный эликсир, а не лекарство, говорят. Но дать мне его он не дал – подотчетное. А вот на пункт к вам могли прислать коробку-другую… Может, попросишь у фельдшера… Или хоть стрептоциду… красного, а лучше – белого…
- Не даст, – отрезала Анна. – Он злой, как собака. С ним говори, не говори – толку не будет, разве что стырить по-тихому. Да только ведь поймают – так десяточку и огребешь.
Люся вскочила:
- Анна, я с вами иду! Ведите меня в ваше Веретенниково! Пусть только попробует не дать! – она потрясла у лица автоматом: – Вот, чего понюхает! Суль-фи-дин? Запомню! А красным стрептоцидом мне мама горло лечила.
Герман загородил ей дорогу:
- Это безумие! Не пущу тебя никуда! Лекарств там, может, и нет, а идти туда и обратно смертельно опасно! Неоправдан такой риск, пойми… Умирает Лиля. Не спасти уже…
Она подняла к глазам отшельника два своих тонких пальчика, большой и указательный, почти сведенные в колечко – с малюсеньким разрывом:
- Даже если есть вот такой шанс спасти ее… Вот такусенький… Я никогда не прощу себе, если его не использую. Никогда, слышите?
Герман осторожно провел ладонью по ее голове – как, действительно, мог бы по внучкиной:
- Что ж вы такие герои-то, а? Такие воины… А ведь девочки еще… Смешные, стриженые… В шароварах… Ну, вот куда ты летишь? Убьют ведь… Как Зину, как Лилю…
Она тряхнула головой, отстраняясь:
- Лиля – жива, – четко произнесла девушка. – И, пока она жива, я буду за нее бороться. Мне… мне Зины хватит… По тому, как она лежала… По тому, что говорила… Я знаю, как она умерла… Точно знаю. Когда все патроны кончились и последняя обойма подходила к концу, – а там всего-то пять патронов… Наверно – и скорей всего – Зина была уже ранена, и серьезно, потому и не смогла уйти… Тогда она, стреляя, поднялась во весь рост – чтобы умереть в бою, а не попасть в плен… И тут они ее из автоматов… – Люся простонала, сжав виски, словно видела все воочию. – Не знаю, только о чем она думала, о ком… Родителей нет у нее, умерли, одна живет… жила… А может, вспомнила их, маму звала, как Лиля… Страшно же… Я бы звала. Пойду я, доктор. Пустите, Анна ждет…
Та действительно уже несколько раз просовывала голову из сеней в горницу, призывая их «договариваться» поскорей. Герман посторонился, вышел за девушкой на поляну: от пионерского кострища осталось только черное пятно с двумя торчащими по бокам рогатинами, озеро матово золотилось. Он вытянул руку, соединил большой и безымянный пальцы, благословляя две прямые и гордые женские спины – широкую крестьянскую и узкую девичью, быстро удалявшиеся среди розовых стволов.
Когда вернулся в горницу – было тихо, Лиля уже не бредила – и мелькнула у него шальная мысль, что если сейчас отдернет занавеску и найдет девушку мертвой, то успеет еще догнать и вернуть Люсю, удержать ее от опасного и уже бесполезного похода. Но Лиля не только была жива, но и открыла глаза, тяжело обводя взглядом незнакомое помещение – закопченные бревна стен, выцветшую ситцевую занавеску, тусклые оклады икон в красном углу… На миг в нем вспыхнула страстная, почти молитвенная надежда: вдруг сильный молодой организм еще поборется с мощной бактериальной атакой, бросит в бой все резервы – а там и Люся подоспеет с чудо-лекарством! Но подошел ближе, увидел истаявшее, стеариновое лицо, облепленное мокрыми светлыми волосами, услышал частое и короткое, как у пса на жаре, дыхание, осторожно прикоснулся к девичьему запястью, нащупал там живое, прерывисто трепещущее… И понял, что смерть подступила вплотную, остаются минуты до короткой агонии. Это он тоже хорошо знал и помнил: еще молодым врачом часто удивлялся, когда безнадежные перед самым уходом на малое время как бы пробуждались от предсмертного забытья и успевали проститься с близкими или даже приобщиться Святых Тайн. Почитал это за последнюю милость Божью к человекам и не сомневался в том, что прав.
- Я врач, прооперировал тебя… Ты была ранена, до больницы далеко, поэтому лежишь в моем доме… – предупредил он возможные Лилины вопросы. – У тебя болит где-нибудь? Чего-нибудь хочешь?
Девушка слабо повела головой из стороны в сторону. Плохо. Если при таком ранении да после такой операции не болит, – значит, совсем худо. Он улыбнулся, мимолетно вспомнив, что улыбку когда-то имел самую обворожительную, дамам нравилась – во всяком случае, Лилю не должна была испугать:
- Ты лежи, отдыхай. Операция тебе сделана серьезная. Шевелиться нельзя…
Нагнулся, проверил склянку под дренажной трубкой – опять полна мутной сукровицы – вылил в десятый раз.
- Я умру?.. – вдруг вполне осмысленно прошептала Лиля, облизнув сухим языком сухие же, сероватой пленкой подернутые губы.
Герман поднес ей воды на ложке, осторожно приподнял голову, подсунув ладонь под затылок:
- Проглоти… Я не знаю. Положение серьезное. Но Люся ушла за лекарством, оно очень хорошее, так что духом не падай… – доктор Богданов всю свою жизнь ратовал за то, чтобы больной знал правду о своем состоянии. – Ты молодая и крепкая. Организм может справиться.
- А Зина… она тоже… ушла? – одними губами спросила умирающая.
Герман кивнул.
- А мама… ей сказали?.. – пытала девушка.
Он покачал головой:
- Нет – она ведь, наверное, в Ленинграде? Туда сейчас ничего не сообщить.
Лиля улыбнулась:
- Слава Богу… А то она бы… с ума сошла… Слава Богу…
Отшельник набрал воздуха, как перед прыжком в воду, уверенный, что перед ним лежит непробиваемая атеистка, для которой все, что составляло радость и мучение всей его жизни, – просто «религиозные пережитки», – и мысленно прыгнул в омут:
- Ты в Него веришь?
- Да, – коротко и просто ответила девушка. – Мама дома… в шкатулочке… мой крестик прячет… Раз она верит… тайком… значит, и я тоже…
«Сейчас бы причастить ее, Господи! Причастить бы! Так ведь нечем же, нечем!!! Да и священник ли я вообще?!! Священник ли?!!» Герман неловко вытянул из-за воротника свой наперсный крест, благословил им девушку, прижал к ее губам ноги Распятого… У Лили сразу потекли слезы, зашевелились губы – она что-то беззвучно говорила. Герман наклонился.
- Наша с мамой кухонька… Мои рисунки на стенах… Розы, розы… Головки… Стенгазеты… Детский сад… Сталин с Мамлакат… И опять рисунки… Кофе «Здоровье» по утрам… Яичница с булкой… Мама гладит мне платье… И уже стоит у автобуса… Лес, рюкзак тяжелый… Ноги натерла… Песни у костра… Глупые… Самолеты… Много… И вот – танки… Все бегут… И я… Раз – и темнота… Яма… И все… Никчемная жизнь… Никчемная я… – Лиля вдруг стала медленно подаваться вверх, стремясь приподняться, голос окреп, почти зазвенел в последней попытке донести до него, случайного провожатого: – И это вся жизнь?! Вся?!! И больше ничего?!
Он с мягкой силой вернул ее на подушку:
- Не смей так думать. Ты спасала ребенка. Это не никчемная жизнь. Такое мало, кто смог бы… – но Лиля уже не слышала: в ее глазах медленно гасли голубые отсветы лампадки.
Герман отвернул край верхней простыни, закрыв мертвое лицо: живым не дозволено быть свидетелями таинственного посмертного преображения. Свесив руки меж колен, он некоторое время тупо смотрел на конец рыжей дренажной трубки: поначалу частые, розоватые капельки теперь падали все реже, реже… Вот эта – последняя… Ах, нет, будет еще одна… Как, и еще?
Он встрепенулся, вскочил и принялся читать канон на исход души.
Ясная, чуть прохладная, цвета разбавленных синих чернил раннеиюльская ночь притушила огонь сосновых стволов, мазнула серебром по колючим кронам, бросила в черные воды озера огрызок луны. Люси не было. Спать отец Герман и не пытался. Еще до темноты обстоятельно выкопал он могилу для Лили в полушаге от Зининой, соорудил и недолговечный крест, но хоронить медлил, надеясь отпеть и опустить покойницу в землю в присутствии Люси, которая, наверняка, захочет оплакать и проводить подругу. «Лекарство она добыть не сумела (если б достала – ничто б не удержало, это понятно), и Анна заставила ее ночевать у себя в доме – не отпустила одну в лес на ночь глядя. Правильное решение. Совершенно правильное. Утром поест и придет. У них рано встают, затемно. Дорогу Люся запомнила, да и Анна еще раз объяснит. А то и Лёньку снарядит – проводить. К семи надо ждать. Много – к восьми», – в сотый раз повторял себе Герман на разные лады, то бестолково мечась по спящей поляне, то с подавленным ужасом слушая близкую канонаду, отчетливо переместившуюся с запада на юг, то в глухом отчаянье падая на колени перед «Нечаянной радостью»…
Но давно уже слаженно грянул лесной пернатый оркестр, белесое солнце равнодушно вывалилось из-за ржавых макушек, добавило в мир разноцветных красок – и безотказную золотую луковицу старых часов, иногда слабо звякавшую в кармане, стало по-настоящему страшно открывать. Когда отпрыгивала полированная крышка, на ладони загоралось как бы второе, маленькое солнце – такое же безжалостное. Четверть девятого. Половина. Три четверти. Перевалило на десятый час. Когда стало ясно, что Люся уже не придет, Герман принялся громоздить в голове одну за другой обнадеживающие версии ее исчезновения: не нашла сульфидин и поняла, что Лиле ничем не поможет, – а тут как раз из села уходила последняя машина на Псков – да хоть телега! – и девочка использовала свой последний шанс вернуться домой – не железная же она, у нее там, поди, тоже мать с отцом! Могло такое быть? Могло, почему нет! Скоро придет Анна или Ленька прибежит, или еще кто из деревни – да вот уже завтра! – и расскажут, а он облегченно улыбнется своим страхам. Только в душе он знал, что никакие это не страхи. Давно знал. Еще вчера. Всегда. До того, как родился.
В обед Герман понял, что ждать ему больше невмочь, и чуть не оставил Лилю, как она была – на столе, со скрещенными на груди руками, – но одумался, сраженный простой и убийственной мыслью: «А вдруг я не вернусь?». Поднял ее, завернул, отнес в неглубокую могилу… Засыпав чуть влажным темно-золотым песком, разровнял руками холмик, приладил крест:
- Подожди немножко, милая. Приду – и отпою. Ну, а если не приду, – значит, лежи и жди ангелов.
Загнал в сени упиравшуюся Стрелку, переоделся наскоро, куснул хрусткую горбушку, проглотил холодную скользкую картофелину, не заметив, что не посолил ни то, ни другое, перекрестился: «Хоть в неведенье, Матушка, не оставь!» – да так и ушел с непокрытой головой.
Бойко шагал знакомыми перелесками, махом перескакивал через канавы, не боясь поломать ноги, а вышел на прямую дорогу к околице – и почувствовал это. Не каким-то особым «лесным» чутьем, за длинные годы жизни в большом городе притупившимся, а просто и внятно – сердцем. Герман остановился и прислушался: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий…» – к этому он уже привык, но специально запретил себе заострять внимание, чтоб преступно не возгордиться. Это всего лишь в голове: молитва, стало быть, умная – да не он один. Поусердней бывали молитвеннички. Нет, то было в сердце. Оно вдруг словно спеклось, но не от дурного предчувствия – от сокровенного знания. Отшельник понял – сейчас будет больно. Очень. И сердце заранее готовится, чтоб не разорваться.
Нет, не из-за того, что в большом селе Веретенниково уже были немцы, – это Герман предполагал и потому не удивился, увидев на двухэтажном здании сельсовета новый флаг – тоже красный, но с белым кругом и свастикой, и даже низкий красивый автомобиль у входа – не тот ли самый… Проехал грузовик с немецкими солдатами – никто даже голову в его сторону не повернул: бредет себе по дороге какой-то седой старикашка – и пусть бредет. Смеялись они там, как мальчишки, совсем не злобно, неслась пронзительная незнакомая мелодия – какой-то весельчак играл на губной гармонике… Нет, не потому словно запекшейся коркой покрылось сердце. Не потому.
Привычным движением Герман опустил руку за Аннину калитку, повернул расхлябанную щеколду, нагнул голову, проходя под мокрым бельем, мельком поздоровался с неприветливым, сразу же отвернувшимся от активно недолюбливаемого «Герки-дурачка» Семеном, мужем Анны, толкнул коричневую крашеную дверь – и сразу выскочил ему навстречу глазастый расхристанный Лёнька. Резко, как голодный галчонок, он с ходу выпалил:
- Повесили! Повесили ее, пионервожатую твою! Вчера еще! Только мамка меня к тебе не пустила, погодить велела!
И тут пришло странное, неуместное, немыслимое облегчение. Напряжение спало – волноваться было больше не о ком, а горе… Герман давно с ним познакомился – еще в Мариининской больнице для бедных. Вот где его много было – а теперь, наверное, и вовсе каждого коснется. Всех без исключения. Глухо спросил:
- Мать дома? – и, на кивок: – Зови.
Но Лёнька провел его в горницу – широкую, прибранную, с вышитыми рушниками и скатёрками, до яичной желтизны выскобленным полом и стерильно-белой печью, вовсе не похожую на обычную вонючую и закопченную крестьянскую избу: Анна была фанатичной хозяйкой, детей рожала крепких и ладных – повезло с ней нелюдиму-Семену, еще в двадцатых распропагандированному большевичкáми. Она обернулась на шум от стола, на который как раз экономно-бережным движением ставила свежеиспеченный каравай, – и ахнула, прижав к губам конец фартука.
- Я знаю, – мрачно сказал отшельник. – Рассказывай.
- Ах ты, гаденыш! – Анна замахнулась на отскочившего Лёньку полотенцем. – Так батюшке с бухты-барахты и вывалил! А если б он тут, в сенях, и окочурился от такого известия?! Старый ведь человек – а ты ему в лоб! Третья ведь уже она! – и запнулась, глянула вопросительно: – Третья?
Герман кивнул, подумав мимоходом, что его пятьдесят девять для русской деревни – мафусаилов век. А им сколько было, девчонкам его? Двадцать? Он рухнул на табурет, оперся локтями на стол, подпер лоб:
- На пункте фельдшерском поймали? Да? Говори уже, я ведь не железный, могу и не выдержать.
Анна села напротив, склонила голову, стала водить указательным пальцем по скатерти, медленно обходя большой вышитый цветок лепесток за лепестком:
- Да… Когда мы в деревню притопали, тут уж немцы были… До вечера у меня переждали – она аж рвалась вся – а чуть сумерки, вместе пошли... Глядим – на пункте все стекла выбиты – они туда ведь первым делом сунулись, за спиртом. И сидят в приемном вокруг стола – спирт хлещут и гогочут, сволочи… Мы за домом в кустах спрятались – ждем: может, уйдут. А они не уходят, зато другие подваливают… Им тоже наливают… Потом и петь стали… Ну, нам все видно из кустов-то… Тут Люська и говорит – в соседнюю, мол, комнату дверь прикрыта, они туда и не смотрят! А белый-то шкафчик с лекарствами, побитый весь, – вот он. Я, говорит, залезу быстренько, посмотрю: коробочки наверняка на полу валяются – они же за спиртом полезли, а про сульфидин, небось, и знать не знают – да и зачем он им. Я ей – пойдем от греха, какой тебе сульфидин, они ж, как стадо быков, растоптали там все… А Люська – ни в какую… Проверить, мол, надо, чтоб совесть чиста была… Я и моргнуть не успела, как она уж в окно юркнула – быстро так, чисто ящерица… – Анна замолчала, не поднимая глаз и все сильней давя пальцем на свою вышивку.
- Договаривай, – приказал Герман.
- Что договаривать… – женщина понизила голос почти до шепота. – Дальше все быстро случилось… Уж не знаю, нашла она пилюли твои, или что – только шумнула чем-то… На стекло, кажись, наступила… Или смахнула что-нибудь… Треск был, громкий… Ну, и солдатня, ясное дело, гурьбой в ту комнату – а Люська на них автомат свой как выставит и кричит: «Мама-а!»… Они и давай в нее палить, кто из чего… А я-то в кустах – прямо напротив… Жуть такая, что как в дерево превратилась, ни охнуть, ни шевельнуться… Потом они ее выволокли через дверь во двор… Это сбоку от меня – но тоже видно… Стали обшаривать – а у ней галстук в кармане… пионерский… Уж тут-то такой рев поднялся! Двое помчались куда-то, как оглашенные…
- Они надругались над ней? – вскинул голову Герман. – Говори все.
Анна перекрестилась:
- Бог миловал, она уж, видать, мертвая была – как кукла сломанная… Ироды и побрезговали: с покойницей-то – невелико удовольствие… Просто подхватили за руки-за ноги – и понесли… Я, как стихло, – домой огородами… Прибежала – себя не помнила. Семен самогоном отпаивал, да все равно полночи прокричала… – только теперь Анна подняла голову: – А наутро уж вся деревня знала, что поймали русскую диверсантку с оружием… Застрелили и вздернули на геодезической вышке – ну, знаешь, у водокачки там… Так и висит сейчас, прости, Господи. Снимать-то никто не решается…
- Я сниму. Прямо сейчас. Плевать на них, – он поднялся: – Не помогай, опасно. Сам справлюсь. Благослови вас всех Бог.
На сытном, пестром от разнотравья лугу, посреди которого и возвышалась проклятая вышка, как ни в чем не бывало, паслось пестрое колхозное стадо – и Герман припустил в обход, перетекавшими одна в другую осиновыми рощицами, – провалился в мокрую канаву, неопасно подвернул ногу – но толком и не заметил. Сквозь вечно дрожащую в память об иудином грехе листву он уже мог видеть вдалеке крошечную коричневую с белым фигурку под нижней площадкой, слегка покачивавшуюся на семи вольных полевых ветрах. И вдруг над вышкой плавно закружили аисты, с незапамятных, дореволюционных еще времен обитавшие в огромном, как небольшая хижина, гнезде на вершине недалекой водокачки. Они планировали, будто пара фантастически огромных коршунов, вооруженные мощными острыми клювами, постепенно снижались, целя на невиданно щедрую добычу. Герман выскочил из рощи и, презрев опасность, припустил через пышный луг наискосок, виляя между коровами, хлопая в ладоши и размахивая руками в надежде отпугнуть гнусных падальщиков. Никакого пиетета, свойственного пребывающим в блаженном неведенье городским жителям, он к этим крупным, как зайцы-русаки, птицам не испытывал: знал, что символы счастливой семейной жизни – жестокие хищники, разоряющие чужие гнезда в поисках пропитания для потомства, без разбору поедающие не только лягушек и ящерок, но и бельчат, а когда повезет – так и весьма крупных лисяток. Но не против они отведать и мертвечинки, охотно раздирая на части любое погибшее тело, – вот и прилетели, милые стервятники, – только Люси им не видать. Аист с аистихой тяжело и неохотно взлетели на верхнюю площадку, настороженно наблюдая за соперником, но нападать на царя природы, конечно не стали. Мужчина быстро вскарабкался по гладким и сухим седым жердинам, ступил на выгоревшие доски: держат. Достал перочинный ножик, нагнулся, быстро-быстро перепилил добротную, явно немецкую, незнакомого плетения веревку, перекинутую через нижнюю планку ограды, – и легкое девичье тело бесшумно скользнуло в густую, пряно дышавшую траву. Только успел спуститься – на недалекой дороге взревел мотор – отшельник повалился плашмя, залег, наблюдая сквозь колышущиеся стебли, – «Господи, только не сейчас!» – и пронесло. Лихо, клином, промчалось несколько трескучих, мотоциклов – будто стая бешеных собак за вожаком – тогда он выпрямился, подхватил легкую скорбную ношу, и, пригнувшись, потрусил коротким путем к роще. Краем глаза увидел, что среди коров вдруг выросла неказистая, в жеваной войлочной шляпе, как у Утесова в знаменитой фильме, фигура колхозного пастуха: заломив ее на затылок и почесывая висок рукоятью увесистого кнута, тот задумчиво провожал взглядом лохматого бородача, похищающего висельницу, – но молчал, и Герман не стал объясняться, исчез среди стволов… Лишь углубившись в лес, отдышался, опустив уже закоченевшее тело девушки на землю, совсем убрал веревку, искалечившую хрупкую шею, стиснул зубы, поверхностно осмотрел, как врач, и вздохнул с настоящим облегчением: Анна сказала правду, девушка погибла мгновенно от выстрелов в упор из одного автомата и нескольких карабинов, дышать после таких ранений она уже не могла; глаза закрыты, язык во рту – не билась в петле, не задыхалась, не мучилась… Провел рукой по голове, поцеловал в лоб: густые русые кудряшки слиплись внизу от крови, но на макушке были сухи, пушисты и неожиданно пахли солнышком… Он застонал и ткнулся рядом в траву, обхватив Люсю рукой, – и даже удалось ненадолго заплакать.
Обратно шел медленно, с частыми остановками. В спешке не было нужды, никто его не ждал, кроме голодной Стрелки, верно, недоумевающей по поводу своего неурочного заточения, – и неотпетой Лили под светло-коричневым песчаным холмиком. «Сейчас отпою вас сразу обеих, девочки, – шептал он во время привалов, в изнеможении прислоняясь спиной то к березовому, то к сосновому стволу. – Сейчас вот дойдем – и отпою»…
Основные земные заботы его закончились к полудню следующего дня. Осознав, что три уродливых креста, которые, стоя рядком, глядели на озеро, недолговечны, а, стало быть, могилам суждено сгинуть безвозвратно, приглядел он низкий продолговатый валун на берегу. Используя лом, как рычаг, выкатил на поляну – чудом пупок не развязался... Трудился над ним – долотом и тяжелым молотом – долго и истово, сверху выбил крест, ниже, одно под другим, корявыми буквами три имени: Зинаида, Елизавета, Людмила – в том порядке, как умерли, – и установил в изголовье сей неуклюжий памятник, – поперек, чтоб на всех трех хватило… Прибрался во дворе, в избенке, Стрелку в сени заволок, травы накидал горемыке. Из всего облачения только епитрахиль и поручи у него оставались – надел их на чистый подрясник…
Выпил воды, затеплил лампаду и встал на молитву перед «Нечаянной радостью».
Шли дни, гудели сосны, несколько раз прошел робкий дождичек, опасливо подобрался к жилью, поскреб дверь лапой, чуя добычу, одинокий дряхлый волк – и ушел несолоно хлебавши – а немолодая коза в сенях со страху навсегда онемела; пронеслась над зацветающим озером одна черная буря, изломав камыши, ударила молния в одинокую старую ветлу на островке – и та завалилась, зияя сожженным нутром, отрясая серебряные листья; зарастал плодовитыми плевелами заброшенный огород на задворках, прилетали крупные рябые птицы с пепельно-оранжевыми грудками, клевали сосновые шишки; любопытно смотрела на них, замерев на толстом стволе вниз головой, летучая белка… Заметно округлилась, словно забрюхатела луна, регулярно проходя короткий путь над водой, – а дом все молчал, не являя огня, не открывая двери.
Отшельник знал, что другие – настоящие, а не самозваные! – молитвенники получали великие откровения наяву, ушами слышали и сохраняли на века Божественные внушения, испытывали крестом и молитвой явившихся ангелов Света и, испытав, поклонялись им. А в его прокопченной, как рыбная тушка, избе на десятый день кончились лучины, хлебные корки и вода в кадушке, и лампаду уж нечем стало заправлять – да еще одичавшая коза уже сутки молча билась рогами в дверь – голодная и все сени обгадившая. Как ни вслушивался отец Герман в шепоты ночи, в хлопотливые звуки дня – не приходил ему ответ на дерзновенную молитву ни наяву, ни в знаменитом, всем подвижникам знакомом «тонком сне». Всем – но не ему: лишь только позволял себе передышку – так засыпал мертво, без сновидений, как под хлороформом.
Моргая, он выбрался ранним утром на Божий свет, выпустил резво, как молочный козленок, поскакавшую Стрелку, вздохнул – и взялся, кряхтя, за лопату, чтоб очистить сени от безобразия. Зачерпнул, шагнул на двор, пригнувшись в дверном проеме, – и услышал. Не с Небес, не снаружи – изнутри, в себе самом – но не свои слова.
«Эту войну отмолят другие. Тебе разрешаю присоединить свой голос к тем, кто будет отмаливать следующую – через три раза по тридцать лет. Лежи и жди, пока придут поднять тебя на молитву трое – отступник, убийца и блудница. Не гнушайся ими – они не бóльшие грешники, чем ты. Напиши им письмо – Я Сама его передам. Три святые девы-воина покажут им дорогу к тебе. Теперь торопись».
Одновременно с этим поднялось, захлестнуло разом и схлынуло небывалое тепло – не как от огня или солнца, а другое, неназываемое, в котором хотелось остаться навечно – молиться, любить и творить.
«Господи, помилуй! Не сам же я такое выдумал?!!» – Герман выронил лопату и бросился в дом.
Никакой лихорадочной суеты не было – он действовал четко и безошибочно, как в давние времена на легкой привычной операции. Набросал химическим карандашом несколько строк красивым четким почерком на листке из подаренной Лёнькой на рецепты школьной тетрадки, сложил ввосьмеро, разорвал хрустящую упаковку бинта, завернул; повертел головой в поисках чего-то более надежного, взгляд сразу упал на запасливо сложенную на полке плотную промасленную бумагу, в которой давно уж принес из Острова новый колун, обернул ею послание в несколько слоев, перетянул бечевой; разрезал единственные парусиновые штаны, точно зная, что они больше никогда не пригодятся, – обмотал пакет плотной тканью сверху, опять обвязал веревкой… Расплющил в ладонях внушительный сверток – и с силой протолкнул под оклад любимой иконы: «На Тебя, Пречистая, уповаю, сохрани и передай, как обещала» – снял ее, приложился благоговейно, завернул в тонкое одеяло.
Дом запирать на замок не стал, чтоб, если не вернется, послужил он теплым пристанищем какому-нибудь измученному путнику: в горнице лежали на видном месте спички, сложены были дрова у печи аккуратной стопкой… Поклонился трем золотистым могилкам, хотел идти – но вдруг бросился в дом, прибежал с долотом и молотом да целый час еще провозился, торопливо выбивая неровное: «Воины».
На полпути Герман почувствовал, что силы покидают его, уходят, как кровь из раненого, – и было это странно и непривычно. Родившийся и выросший в этих местах, он впитал когда-то несокрушимое здоровье из чистого духовитого воздуха, прозрачной воды, которую можно было пить сырой, знал, как прижаться головой к осине, чтоб забрала у него хвори и все дурные энергии, а потом перейти к березе – и благодарно принять в себя ее невидимые радостные токи, заряжавшие силой тело и дух. Живя здесь последние годы, он, как врач, с удовольствием изучал целебную, живительную силу трав в их гармоничных сочетаниях, научился слушать лес и озеро, не бояться диких зверей… И вот, с каждым шагом чувствовал, как ощутимо слабеет, еле несет на плече Богородичную икону – совсем не тяжелую, особенно после того, как пришлось поднимать мертвых девушек, а заодно с ними – словно все горе мира… Он не подумал, что попросту изнурил свой организм, живя почти десять дней на черством хлебе и воде в добровольном «затворе», что слишком сильно страдал до того – оперируя, спасая, хороня… Шел и удивлялся тому, как гулко гудит отупевшая голова, и даже заветные восемь слов отступили далеко-далеко и едва доносятся до помраченного сознания…
Себя почти не помня, отшельник вступил в захваченное Веретенниково – и первым, кого он заметил, был все тот же странный мужичок, которого пришлось увидеть здесь последним в прошлый раз: оборванный пастух в мятой шляпе и с вечно пьяными глазами. Заметив равнодушно миновавшего Германа, он проводил его нехорошим пристальным взглядом, сдвинул шляпу, почесал бороденку… – развернулся и бойко потрусил в обратном направлении.
А Герман без стука ввалился в избу к своей верной «прихожанке» – семья сидела за ужином, с удовольствием хлебала горячее молоко с гречневой кашей; при виде него Надя и Вера застыли с ложками в кулачках, а Лёнька разинул рот.
- Анна, худо мне что-то, – едва проговорил отшельник, опуская икону на пол у двери. – Но дело уж очень срочное…
Семен деловито раздал каждому чаду по подзатыльнику, быстро вернув всех к хлебу насущному, да и сам отвернулся и вновь принялся за еду, снисходительно хмыкнув над «бабьими глупостями» супруги. Хозяйка сразу увела гостя в другую, меньшую, но такую же опрятную горничку, усадила, предложила поесть с дороги. Он тяжело помотал головой:
- Не могу, Аня, жар у меня, похоже… Во рту как наждачкой выстелено. Но это пустое, до дома дойду – отлежусь. Ты слушай. Тут вот, в одеяле, – икона, ты ее знаешь: «Нечаянная радость», много раз у меня видела. Я тебе ее оставляю на сохранение. Таить ничего не буду: за окладом спрятано важное послание. За ним когда-нибудь придут. Нескоро, поэтому Лёньке расскажи и девочкам, как подрастут. Спрячь ее хорошенько, как знаешь, чтоб никто не польстился, не унес – это очень важно. Отдашь – или, скорей, дети отдадут – только тем, кто специально придет и спросит. Благодаря ей, дом ваш не тронут, а все вы уцелеете – и в войну, и… потом. Все поняла?
Анна старательно кивнула, округлив глаза. Он мог вполне доверять этой рослой, тридцатилетней, но выглядевшей на все пятьдесят женщине: человеком она была простым, честным и обязательным, «батюшке» своему верила беззаветно.
- И вот еще что, – сам для себя неожиданно сказал отец Герман, припомнив услышанное откровение. – Эта война закончится нашей победой. Нескорой, трудной, дорогой – но победой. Есть сильные молитвенники. Помни об этом, даже когда покажется, что все потеряно… Ну, прощай, Аня, ухожу я, а то не дойду, чего доброго… Давай благословлю…
Она вскочила, с готовностью подставляя натруженные ладони, потом припала теплыми губами к его руке, не отпуская… Наконец, оторвалась, глаза были «на мокром месте»:
- Я соберу тебе покушать побольше – пост-то ведь кончился – и Лёньку завтра пришлю с корзиной: сегодня Сам не пустит – видал, как зыркает…
- Спасибо, Аня, что бы я без всех вас делал… – Герман был искренне благодарен ей за то, что она не запричитала, почуяв, что он прощается навсегда.
По улице прошел только до поворота – и снова нос к носу столкнулся с давешним пастухом, только тот теперь имел вид вполне торжествующий, даже, можно сказать победоносный: вел за собой сразу двух автоматчиков и одного офицера с пистолетом в руке – трое высоких светловолосых красавцев покорно топали за коротышкой с внешностью гнилого сморчка.
- На ловца и зверь бежит! – торжественно провозгласил Сморчок на всю улицу. – Даже по домам искать не пришлось голубчика! – он обернулся к офицеру: – Вот и он, далеко ходить не надо!
Автоматчики дружно шагнули к Герману, а офицер брезгливо оттолкнул пастуха, ткнув ему в плечо двумя пальцами в перчатке:
- Карашо. Пшоль, – и тот отлетел в канаву, проломив кусты.
Подталкивая в спину автоматами, Германа привели в бывший сельсовет, над которым красовалась теперь черно-белая вывеска с красивыми готическими буквами: «Kommandatur» и мелким корявым переводом для туземцев: «Каминдатура», втолкнули в комнату с геранями на подоконниках, где за столом сидел начальник рангом повыше, лысоватый, в маленьких круглых очочках. Поодаль на стуле растерянно втягивал голову в плечи кругленький белобрысый и краснолицый человечек, хорошо Герману знакомый, – учитель немецкого языка, с классическим русским именем Иван Иванович Иванов.
Старший офицер откинулся на высокую спинку и быстро проговорил что-то на рубленом немецком наречии – Герман смог разобрать только искаженное «большевик». Он стоял выпрямившись, чувствуя не закономерный страх, а что-то вроде возбужденного нетерпения, какое испытываешь, стоя на платформе вокзала и завидев вдалеке черную точку и легкий сизоватый дымок паровоза, тянущего вереницу спальных вагончиков, в одном из которых мчится к тебе, чтобы остаться навсегда, самый дорогой и любимый в мире человек. Начальник мотнул головой Иванову – и тот посыпал:
- Господин офицер хочет знать, зачем вы сняли и унесли тело казненной диверсантки. Вы связаны с русской армией или просто большевик? – и добавил от себя скороговоркой: – Я не виноват, меня силой притащили…
Герман кивнул ему прощающе:
- Я вас не виню… Переведите, ему как есть: я русский, священник, с армией не связан, большевиков не люблю. А девушку снял и похоронил в лесу, потому что ужасно было смотреть, как она висит там – босая, окровавленная… Каждый умерший должен быть отпет и предан земле – я выполнил свой долг человека и священника.
Иван Иваныч зачастил по-немецки в сторону офицера – а тот методично кивал, не сводя глаз с прямо смотревшего ему в лицо арестованного, – и, вероятно, поверил: махнул рукой, отпуская переводчика, и что-то коротко бросил младшему по званию. Тот сделал один шаг, размахнулся и с силой ударил Германа рукояткой пистолета в висок – отшельник рухнул бы вбок, но был подхвачен – и успел услышать сквозь общую оглушенность быстрый шепот Иванова, на цыпочках проскакивавшего мимо:
- Не-бойтесь-он-велел-не-до-смерти-только-проучить…
Хозяин кабинета возмущенно подскочил, смахивая что-то с рукава, каркнул:
- Nicht da! – и солдаты выволокли тряпкой повисшего арестанта во двор.
Бросив на землю, Германа били сапогами и прикладами карабинов – он чувствовал в багровой темноте хруст собственных костей, глухие сочные звуки ударов, но боль казалась далекой, словно приглушенной, и сознание сохранялось довольно долго; давясь соленой кровью, он выплевывал осколки зубов и слушал набатом гремевшие восемь спасительных слов в голове, слов, которые сам он уже не смог бы ни произнести, ни подумать. А потом кто-то со смехом ударил его по затылку лопатой – и перед глазами навеки рассеялась тьма.
* * *
Поздно ночью, когда на всей завоеванной территории давно уж действовал таинственный «комендантский час», в суть которого селяне еще не вникли, потому что пока никто не был пойман и расстрелян, Анна прибежала огородами в старый дом двоюродного брата Егора, который в свое время был успешно вылечен «батюшкой-доктором» от злокачественной лихорадки, которую тот называл странным ученым словом «пневмония». Она трижды тихонько стукнула в ставню – дверь почти сразу беззвучно отворилась, и высокий бородатый человек с толстым огарком на глиняной плошке пропустил женщину в темные, с огромными и страшными живыми тенями на потолке сени.
- Егор… Беда-то какая… – выдавила она, давясь рыданиями, но продолжать не могла, закрыла лицо руками.
- Я знаю. Лёнька твой прибегал, – родственник тепло обнял Анну за плечи и повел в горницу, где она с удивлением увидела их общего соседа и, по совместительству, товарища давних детских салок на пыльной деревенской улице. – Вот Илюха пришел подсобить. Ему отец Герман руку прошлый год вылечил. Фелшар уж в район его везти хотел – отнимать: до локтя синяя была и твердая, как колода.
- Мы как мыслим? – тут же вмешался здоровенный, будто колхозный битюг, Илюха. – Пусть затихнут совсем – так, чтоб и караул в подсобке уснул. Батюшку они в сторону оттащили, у кустов бросили – туда свет не достает, я сам видел. Как угомонятся – к часу ночи, надо полагать – так мы его вдвоем с Егором и вынесем. На кладбище нам с ним ходу нет: поймают – и… не знаю, что сделают…
- Я зато знаю, – мрачно перебил Егор. – До свету в роще переждем – ну, а дальше дорога знакомая…
Анна вытерла слезы уголком платка:
- Правильно. Только где ж хоронить надумали?
Друзья переглянулись.
- Мы долго кумекали – и вот что решили. Плоскодонка там у него на озере в кустах привязана. И думать нечего: отвезем на остров – тот, что посередке. На нем и похороним, и литию прочтем, как сможем. А место камнями отметим – много их там у воды, был я как-то раз интересу ради… – сказал Илюха.
- Ты вот что, Аня. Раз уж пришла – поешь вот, а домой не ходи – не ровен час… Запрешь за нами дом – и ложись себе на печь до солнышка, – баском предложил Егор, растянув один угол своего темного рта, что означало у него улыбку.
Так и сделали. Повечеряли селедкой с хлебом и парой луковиц, запили крепким кислым квасом – а потом проводила Анна друзей до калитки. Двое шли сторожко, по травянистой обочине – поэтому она скоро перестала слышать звук шагов, но еще долго стояла на крыльце с душой, ушедшей со страху в пятки, и изо всех сил вслушивалась в беззвездную и безлунную, антрацитово-серую ночь – не послышатся ли где выстрелы, крики, автоматные очереди?
Но темнота так и осталась благостно бесшумной.
Эпилог
Крик
- …И тут какая-то баба ка-ак заорет! Представляете, тьма кругом непроглядная, кругом народ уже не дышит со страху, все ждут, что вот-вот жахнет – и всем труба… Я крещусь – помяни меня, дескать, Господи, во Царствии Твоем, как разбойника, – и вдруг такой рев нечеловеческий – мама не горюй! То ли петух свихнувшийся, то ли что… – стоя посреди двора перед домом отца Андрея, эмоционально рассказывал приехавший погостить брат одной из его хожалок. – У меня чуть швы не разошлись, чес-слово… Мне ведь только днем трубку из живота вынули… Еле ногами шаркал – вот и не успел в убежище… В общем, орет эта баба и орет, круче всякой сирены…
- Да хватит нам про глупости, – раздраженно перебила сестра. – Про дело давай. Как войну отменили.
- Пусть выговорится, Иринушка… – продребезжал с крыльца отец Андрей, все так же бережно державший обеими руками под тканью подрясника свою живую веригу, возложенную Хозяином: огромную, размером с голову грудничка, грыжу. – Человек такое пережил – тебе и не снилось. Ты рассказывай, рассказывай, Матвеюшка… Мы слушаем. Даже вон и овечки слушают.
Вокруг Матвея, крупного лохматого детины с небесным взглядом, действительно столпились, задирая головы, свободные овцы странного хутора Солнцево.
- Ну, вот я и говорю… – вновь увлеченно забубнил он. – Голосит баба – а тут двери убежища обратно отъезжают, а там – люди смеются, говор стоит… Она так и замолкла – как оборвала. Тут ей поверх голов мальчонку передают (это ее, оказалось, пацан был, которого в последний момент вбросили, – ну, я говорил)… А малой-то хохочет-заливается… «Бабуля, – кричит, – вот это я здорово полетел!». Баба – она там врачиха или медсестра, кто их разберет, – его целует-обнимает и слезами заливается – я тоже, грешным делом, прослезился…
- Тебе бы все про баб! – снова не выдержала его строгая сестрица. – Все никак не уймешься.
- Да ну, чё ты, Ирка, я же по-хорошему… – ничуть не обиделся Матвей. – Ну, короче, те, которые успели в убежище, сказали – радио у них там работало на стене – что отбой тревоги объявили. Перехватили ракеты-то! Жаль только этих двух – ну, которые за двери-то цеплялись – из пистолета положили… Царствие им Небесное… Тут уж кругом заохали, завыли… Ну, и всё… Мы по палатам побрели – да какой тут сон: до утра телевизор смотрели. А ближе к обеду уже… Это сколько ж времени было… Часа два, наверно… Передали, что подписано перемирие… Перед лицом мирового сообщества… Как-то так… Войска отводят в места дислокации… Ядерными ракетами договорились не пуляться, конфликт разрешать дипломатически… Обещают, что скоро даже интернет вернут! И все каналы в телевизор! Чес-слово, говорю, что сам слышал.
- Наши едут! – объявила от калитки главная, особо приближенная хожалка Мария.
К забору, подскакивая на ухабах, приближался видавший виды, но вполне крепкий, как старый рабочий мерин, джип, управляемый батюшкиным любимцем Санюшенькой. Он тащил на буксире огромный, почти доверху заляпанный грязью «мерседес»-внедорожник, за рулем которого с непроницаемым лицом сидел на все руки мастер Ванюшенька, а рядом с ним – хорошо знакомый на хуторе лесничий Борис Иваныч. Все трое неторопливо спешились, один за другим мрачно прошли в калитку и остановились рядком, остро напоминая почему-то слезших с коней трех бородатых богатырей Васнецова, только в одинаковых линялых штормовках и бурых кепках вместо шеломов.
- Ну, что?.. – сразу же любопытно кинулась к ним Марьюшка, поправляя очки на мягком носу. – Плохо, да?
Водитель сплюнул:
- Дрянь дело. Далеко в лесу нашли. У опушки, там, где старая колея, был приткнут. Вообще не завелся. Три часа пробились над ним – без толку. Тут электроника хитрая. Вот, приволокли на буксире, покумекаем с Ванькой на досуге.
- Да не про то она спрашивает, дурья твоя башка! – прикрикнула Ирина. – Эти-то, трое… Священник и муж с женой… Они где?
- А я почем знаю! – огрызнулся Сашка. – Дальше даже их танк не проехал бы. Пешком они пошли. Вон его спроси, – он кивнул в сторону понурого лесничего, в чью сторону сразу обратились все взоры.
Тот почему-то стянул с головы кепку:
- Ну, похоже, хреново все… Совсем. На палатку ихнюю я наткнулся – причем, место там странное такое: бревна какие-то замшелые, видно, заимка когда-то стояла, а рядом болото – топь, шагу не ступишь. Небольшое, но гиблое. Кустарник вокруг непролазный. Но раньше, говорят, это озеро было…
- Я его помню! – вдруг прозвенел тоненький голос отца Андрея. – Мальчишками в конце шестидесятых туда бегали. Уже заболачивание шло. Даже до островка – там посередине что-то вроде островка виднелось – никто и на спор идти не хотел: трясина кругом – пикнуть не успеешь… Ты говори, говори, Боренька.
- В общем, лагерем они там встали – костровище и все такое… – хмуро продолжал Борис Иваныч. – В палатке все вещи ихние лежат – правда, рюкзак только один остался, и сумочка такая с бабским барахлом – ну, пудры-помады всякие… Документы и ключи от машины, «мерина»-то этого, тоже нашел… И главное, термос. Термос – вот что меня напугало: он старый, китайский еще, такие чай по несколько дней теплым держат. А в этом – холодный оказался и даже с плесенью. Значит, давно все это бросили. С неделю как или больше. Ушли – и… не вернулись.
- Заблудились?.. – выдохнул кто-то. – Ведь не волки же – они летом не нападают…
- Хуже, – лесничий сделался мрачней тучи. – Они, похоже, в болото полезли. Недалеко от палатки обувь ихняя стоит – кроссовки мужские и женские да боты одни резиновые. Все мокрое насквозь – дожди ведь неделю шли.
- Так не в болото же они босиком отправились! – выпалила взволнованная до крайности Мария. – Значит, недалеко, раз без обуви!
- Дура ты, Машка, – беззлобно оборвал лесничий. – У них сапоги с собой были. Как пить дать. В сапогах и пошли. И сгинули. Оттуда не выберешься. Я там лет пять назад лося-трехлетка сдуру спугнул – а он возьми да и скакни в трясину… И трех минут не продергался – только рога мелькнули…
- Господи… Господи… – закрестились и запричитали хожалки. – Да что ж им болото далось?!. Зачем сунулись – неужто не понимали?.. Да и вообще – зачем в лес этот пошли, чего искали?!.
Отец Андрей переложил грыжу в левую руку, осенил себя медленным широким крестом и слабым своим, надтреснутым, чуть различимым голосом едва-едва проговорил – но был необъяснимым образом услышан всеми:
- Что тут думать... Им Хозяин велел – вот и пошли.
24 сентября 2019 г.
д. Букино,
Пушкиногорский район
Псковской области
Вилла «Счастливая кошка»
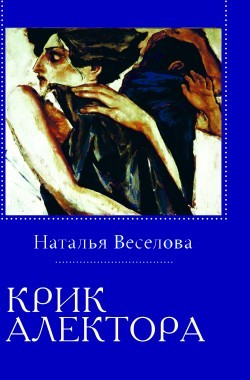





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

