Читать онлайн "На реках Вавилонских"
Глава: "Untitled"
НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ
От автора
В этой книге нет вымышленных персонажей, и все события – реальны. Несколько лет назад я начала исследовать историю собственной семьи. Шаг за шагом, архив за архивом, город за городом вело меня страстное желание восстановить разорванные нити. На генеалогическом древе, корни которого уходили глубоко в вековые пласты истории, обожженном, с обрубленными ветвями, уцелело всего два-три ростка. Войны, восстания, революции, эпидемии – ничто не прошло мимо семьи…
Во многих разоренных домах родители скрывали от детей прошлые беды, уничтожали документы, фотографии и прочие следы растоптанной жизни. Нет, однако, ничего тайного, что не стало бы явным, рукописи не горят, на архивных полках ждут перевязанные веревочками папки, а память хранит имена и лица.
На заброшенном кладбище в Вологодской губернии я нашла могильный холмик и поставила крест вместо воткнутой в него палки с дощечкой «1937». Я узнала номер, под которым покоятся на Пискаревском мемориале мои родственники. В самом мрачном из домов я прочитала последнее слово деда, осужденного по 58 статье. Украинский ученый положил передо мной список участников Зимнего похода, где красивым витиеватым почерком была выведена фамилия прадеда, Григория Трофимовича Магдебурга. Письма, присланные бабушкой из ссылки, записки из тюремной больницы, послужные списки, дело «шляхтенского разбора», карты боев Великой войны, дневник хирурга санитарного поезда и черно-белые снимки с трещинками, с которых смотрели на меня родные лица, похожие чем-то друг на друга, на меня и моих детей – передо мной вставала жизнь рода: ручейки судеб сплетались, обрывались, сходились снова и вливались в могучую реку – историю страны. Так родилась эта книга.
Как я уже сказала, в ней нет ничего придуманного. Исключение составляют три героя. Унтер-офицер Геннадий Борисович Москаленко, который сопровождает одного из главных героев – служебный персонаж. Штабс-капитан Леонтий Ломаковский, по роману – брат супруги моего прадеда, – собирательный образ. Мне удалось найти послужные списки отца Александры Ломаковской, ее дядьев и братьев. Все они были военными и служили Отечеству в разных родах войск. О судьбе их узнать не удалось, боевой путь Леонтия – типичная история русского офицера.
Особый случай – юнкер Антон Левченко. И фамилия, и внешний облик героя перенесены в роман из наших дней. Артем Левченко – украинский историки журналист– много трудов посвятил исследованию истории Чугуевского военного училища и щедро поделился со мной всем, что узнал. Преданность его и любовь к судьбе юнкеров училища, где преподавал мой прадед, почти мистически связали Артема со временем, когда Россия переживала муки. Эпизод со знаменем из пятой главы тоже не случаен, Артем не оставляет надежды, что символ училища надежно спрятан офицерами-чугуевцами, и в назначенный срок он сумеет его найти.
Больше исключений нет. Все события, повороты судеб, служба и личная жизнь всех персонажей основаны на архивных документах. Мне никогда не справиться с таким огромным трудом, если бы не помощь историков, архивистов, сотрудников музеев, юристов, краеведов и журналистов.
В работе мне помогала петербургский историк Ирина Борисовна Мулина. Она проделала огромную работу по розыску документов семьи Савич.
Глубокая моя благодарность украинским историкам, а особенно Леониду Абраменко, автору книги «Последняя обитель». Его усилиями были обнародованы протоколы о регистрации офицеров, убитых в Крыму во время Красного террора. Искренне признательна я за помощь известному киевскому историку и журналисту Ярославу Тинченко и ученому из Феодосии, автору выдающихся исследований по истории Гражданской войны, Андрею Бобкову.
В мою жизнь вошли и останутся в ней навсегда керченские друзья: старший научный сотрудник Керченского историко-культурного заповедника Владимир Филиппович Санжаровец, предводитель Керченского союза монархистов Геннадий Борисович Григорьев, молодые исследователи братья Владимир и Константин Ходаковские, протоиерей Николай (Зиньков) – настоятель храма Святого апостола Андрея Первозванного. Вместе с ними мы опустили с Царской пристани венки, и они поплыли в сторону Дарданелл, куда 90 лет назад ушла эскадра Врангеля. Вместе с ними я прошла по крестному пути своего прадеда. Вместе установили мы в городе Керчи Поклонный крест в память жертв Красного террора.
Моя глубокая благодарность губернатору Вологодской губернии Владимиру Евгеньевичу Позгалеву. Не мне одной помог он найти документы и установить могилы родных в крае, который служил для многих горьким пристанищем.
Искренне признательна я сотрудникам музеев в городе Нежине, Тотьме, в Днепропетровске, работникам Нежинского архива, университета и местной газеты, руководителю дома-музея Булгакова в Киеве.
Неоценимую помощь оказала мне в работе над книгой Ирина Кравченко. Моя молодая помощница разделяла со мной тяготы путешествий, писала под мою диктовку и искала ошибки, молилась со мной в керченских храмах, спорила, выбирала и сканировала фотографии, записывала показания родственников; в конце шестой главы родила девочку, запомнила корректорские знаки и научилась писать почти не хуже меня.
Мне трудно определить жанр этой книги. Документально-художественный роман, в котором реконструируется история рода.
Я посвящаю его своей маме.
Елена Зелинская
На реках Вавилонских, тамо седохом и
плакахом, внегда помянути нам Сиона.
На веркиих посреде его окесихом органы
наша. Яко тамо вопросиша ны пленшии
нас о словесех песней и ведшии нас о пении:
воспойте нам от песней Сионских.
Како воспоем песнь Господню на земли
чуждей? Аще закуду теке, Иерусалиме,
заквена куди десница моя. Прильпни
язык мой гортани моему, аще не помяну
тебе, аще не предложу Иерусалима, яко
в начале веселия моего. Помяни, Господи,
сыны Едомския, в день Иерусалимль
глаголющия: истощайте, истощайте до
оснований его.
Пролог
Река Лужа, 12 октября 1812
– Славно поработали, – белозубый казак спрыгнул с коня, сняв шапку, отбросил со лба чуб и обвел усталым взглядом черные лица черниговцев, – вишь, как рылы-то позамарали. Ни дать, ни взять, арапы какие-то.
– Никакие не арапы, – усмехнулся невысокий офицер, блеснув светлыми, глубоко посаженными глазами, – я как был есаул Василий Магдебург, так им и остался!
Догоравшие обломки строений, обваливаясь, освещали вспышками округу; среди облаков, багровых в отблесках пожарища, появился месяц. В зыбком свете глядели казаки на разрушения, оставленные многочасовым боем. Ветер засыпал пеплом и сажей карабины, сабли, пики; малиновый верх круглых шапок стал черным; и малиновые шаровары тоже, и барашковые околыши. Только кушаки не изменили цвета: им по высочайше утвержденным правилам черными изначально положено быть. А лица-то, лица!
Стих грохот пушек, умолк треск ружейной пальбы, замерли неистовые вопли рукопашного боя. В Малоярославце, уездном городе Калужской губернии, наступила тишина. Только стоны раненых нарушали внезапно опустившееся безмолвие. С самого рассвета шло здесь кровавое сражение, восемь раз переходил город, почти полностью спаленный (из двухсот домов уцелело двадцать), из рук в руки – то к русским, то к французам.
«С обеих сторон густые колонны пехоты, встречаясь на улицах, поражали друг друга штыками. Артиллерия мчалась рысью по грудам тел; раненые, умирающие раздавливаемы были колесами или, не имея сил отползти, сгорали среди развалин. В пылу сражения бывают минуты, когда огнь воинский, воспламенив сердца, заглушает в них всякое другое чувство, особливо когда дело идет о независимости народной!» – вспоминал участник событий в своих мемуарах.
Погода стояла пасмурная, со слякотью и пронизывающим ветром; несмотря на глубокую осень, деревья еще зеленели – но только поутру: к сумеркам остались лишь голые черные ветви, листву снесли картечь и ядра.
Затишье охватило и площадь на восточной окраине города, перед Святыми воротами Черноостровской Николаевской обители, угнездившейся на правом берегу Лужи. При известии о подходе Наполеона братия – шестнадцать черноризцев во главе с игуменом Макарием – покинули монастырь. Белокаменная ограда со скругленными четырехугольными башенками по краям покрылась копотью, ворота – все в оспинах от картечи. Палили по ним нещадно и французы, и наши, особенно когда гренадеры 13-ой пехотной дивизии Бонапарта бросились в монастырь, а казаки Черниговского полка – следом, тесня противников и сбрасывая их в ров. Но – чудо! – нерукотворный образ Пресвятого Спаса в створе ворот остался цел и невредим.
Ночевать черниговцы устроились прямо у стен монастыря, кто как мог.
«На другой день, – пишет мемуарист, – 13 октября, ждали, что неприятель возобновит атаку. Удивление наше было чрезвычайно, когда мы узнали, что Наполеон решился отступить и направил свой путь на Смоленскую дорогу».
С покатого речного откоса, приподнявшись в стременах, смотрел есаул Магдебург, как таяли в рваном дыму уходящие колонны противника. За спиной у него курился изрытый ядрами Иванов луг.
Василий подобрал скользкие поводья, толкнул каблуком коня и, обернувшись к изумленным черниговцам, крикнул хрипло:
– Ну что, братцы, на Париж!
«Святой лик Спасителя на воротах с улыбкой добра и милости сиял утешительной надеждой».
Глава 1. Белый дом с зелеными ставнями
1
Река Остер
Спрыгнув с подножки поезда, мальчик в гимназической тужурке поднял воротник и двинулся по перрону. Моросил мелкий дождь. Сквозь мокрую пелену смутно угадывались: вокзал, большие, оштукатуренные буквы «Нежин» и керосиновый фонарь над дверьми, куда ныряли прибывшие бобруйским поездом пассажиры. На высоких козлах, укрывшись с головой попоной, спал извозчик. Дремала и лошаденка.
– До города довезете? – окликнул мальчик.
– Тридцать копеек, – пробурчал из-под укрытия сиплый голос. – Дешевле, барич, по вечернему делу никак нельзя.
Бросив вперед чемодан, мальчик проворно залез в пролетку и прикрыл ноги кожаным фартуком. Лошадь, с трудом вытаскивая копыта из липкой грязи, побрела по размякшей проселочной дороге. Когда добрались до постоялого двора, хозяева уже спали. Ворча и спотыкаясь, чумазый мальчишка-половой зажег стеариновую свечу и отвел постояльца в свободную комнату. Ложиться было неохота. Не отпускало возбуждение от первого в жизни самостоятельного путешествия. Да, по правде говоря, и простыни на кровати выглядели сомнительно. Миша подошел к окну. Над Нежином пылал закат. На белые оштукатуренные стены одноэтажных домиков падал розовый отсвет, вечерние сады сливались в единое густо-зеленое шелестящее море. Пять золотых куполов собора сверкали в уходящем солнце. Мальчик распахнул окно. Запах осенних листьев, зрелых яблок, влажной травы, мешаясь, охватил его. Закатный луч упал на плывущий над куполами крест, и на мгновение показалось, что он горит – малиновые, алые, пурпурные краски захватили, заиграли на золотой крестовине и слились вдруг в кровавый красный цвет.
Спал Миша плохо. Сомнения насчет простыней оправдались полностью: клопы. Утром вчерашний мальчишка объяснил постояльцу, как найти Лицей, и с неожиданным энтузиазмом вызвался проводить. Не будь провожатого, потонуть бы Мише в непросыхаемой луже, той самой, которую воспел в «Мертвых душах» читанный-перечитанный Гоголь. Чумазый Вергилий вовремя ухватил подопечного за рукав и благополучно доставил к речке. На узкой, недвижной ее поверхности, где, перемежаясь с зелеными бликами, быстро мелькали серебристые тени, уткнувшись носом в прибрежные кусты, стояла лодка. В ней, опершись на воткнутое в воду весло, ждал кого-то старик в накинутой на плечи серой хламиде.
На том берегу торжественно вставал сад, полный цветов, дорожек и надежд. Свесившись через перила, Мишин провожатый метко плюнул на поплавок, увернулся от рыбака, чуть было не схватившего его за вихор, и умчался, поддавая босыми ногами сухие листья.
А Миша остался стоять, приоткрыв от изумления рот, перед величественным зданием Нежинского Лицея.
«Пробежав по струнам,
Золотым певуном,
Не жалею ни груди,
Ни глотки:
И сияй, и светлей,
Наш родимый лицей,
Знаменитый лицей Безбородки».
Н. В. Гербель
Таких лицеев Российской Империи было только два: прославленный Царскосельский и Нежинский, основанный на капиталы, оставленные по завещанию канцлера Александра Андреевича Безбородко, екатерининского вельможи и черниговского уроженца.
Трехэтажное здание Нежинского Лицея, украшенное колоннадой из двенадцати колонн, которую лицеисты называли «белым лебедем», увенчивалось фронтоном с надписью «Lebore et zello» – «Трудом и усердием» – родовым девизом князей Безбородко. Учрежденное высочайшим рескриптом в 1820 году под именем Гимназии высших наук, в 1875 году учебное заведение преобразовалось в Историко-филологический институт, который готовил учителей классических языков, русского языка и истории. С того же года отменили розги и разрешили поступать не только дворянам, но и отпрыскам других сословий. По-настоящему прославился институт и вошел в русскую историю знаменитым своим учеником, русским гением Николаем Васильевичем Гоголем. Сюда, в Нежин, в 1821 году дорожная пролетка, разбрызгивая грязь, доставила тщедушного длинноносого мальчишку, укутанного в салопы и обвязанного платками. Он простужался, кашлял, писал жалобные и почтительные письма маменьке, прогуливал уроки, писал эпиграммы в гимназический журнал, наряжаясь в женские костюмы, играл и сам ставил спектакли на сцене актового зала и даже начал писать. Первую пьесу Гоголя «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан», увы, прочитали только его одноклассники. Уничтожил свое произведение будущий поджигатель второго тома бессмертной поэмы, наверное, из страха, что в сатирических образах преподаватели угадают себя: розги в то время еще не отменили. «Нежинская рукопись» – так, кстати, называется единственный сохранившийся оригинал «Тараса Бульбы», который был найден среди подарков графа Безбородко Лицею.
Давно убежал чумазый посыльный, а пятнадцатилетний Михаил Савич все стоял перед мраморными ступеньками, ведущими к белой колоннаде, вдыхал аромат сада, вслушивался в гомон деловито спешащих лицеистов, и душа его была полна предвкушением жизни. Наконец, он встрепенулся и двинулся, как было положено по инструкции, данной ему в Бобруйском казначействе, к письмоводителю Федору Даниловичу Проценко.
Тот принял нового лицеиста незамедлительно, рассказал о гимназических правилах и выдал стипендию вперед за три месяца – ни много ни мало, а пятьдесят рублей. Склонившись близоруко над ведомостью, мальчик расписался: Михаил Савич, 27 августа 1892 год. Сдвинув озабоченно кустистые брови, Федор Данилович поинтересовался:
– Надобно ли вам, сударь, помочь с размещением? Мы обычно рекомендуем гимназистам семьи, в коих контроль осуществляется и надзор за их поведением и учебой.
– Благодарю, Федор Данилович, но родители мои уже побеспокоились о моем проживании. При мне письмо к вдове знакомого отца моего по Бобруйску, майора Трофима Васильевича Магдебурга.
– Как же, как же, почтенное семейство, – закивал письмоводитель. – Дом их, кстати сказать, расположен недалеко от Лицея, на Преображенской улице. Опаздывать не будете на занятия. У них, я знаю, как раз комната освободилась, поскольку Григорий, сын покойного Трофима Васильевича, в этом году в Киевское юнкерское училище поступил.
2
Река Днепр
Подтянутый молодой человек в ладно сидящей солдатской шинели решительно поднимался вверх по парадной лестнице. В его уверенных движениях не было ни следа юношеской неуклюжести. Светлые, глубоко посаженные глаза с веселым любопытством оглядывали необычную для военного училища суматоху. Вверх-вниз сновали, перепрыгивая через две ступеньки и скатываясь с гимназической быстротой, юнкера выпускного курса. Дробно стучали каблуки и звякали шпоры. В сводчатых коридорах, залитых светом, в обилии проникающем сквозь решетчатые окна и бойницы, оживленно жестикулировали преподаватели. Громкими, возбужденными голосами обсуждали вакансии, поздравляли счастливчиков с удачным назначением. Артиллеристы и будущие инженеры, собравшись в кучки, звонко перебирали названия южных городов: Екатеринодар, Екатеринослав, Одесса. Подбоченясь, горделиво выпячивал грудь единственный из всех гвардеец. Кто-то, не разделяя общего веселья, уныло смотрел на бумагу с назначением в отчаянную сибирскую глушь.
Перекрывая разноголосицу, загремел голос дежурного юнкера: «Господам офицерам строиться на передней линейке».
Всем разговорам конец. На ходу поправляя гимнастерки, юнкера понеслись в необъятный актовый зал. Молодой человек в солдатской шинели, вздохнув, уселся на покатый подоконник: первокурсникам там делать нечего. В парадный строй ровнехонькой серой стеной встали юнкера, которые сегодня закончили двухгодичный курс. Из-за стеклянных створок слышен рокочущий бас начальника училища полковника Самохвалова:
– Поздравляю первый офицерский выпуск Киевского пехотного училища 1892 года с производством!
Двери актового зала распахнулись. Вновь произведенные офицеры счастливым напором ринулись вниз по лестнице, и, волной подхватив нисколько не сопротивляющегося первокурсника, скатились во двор училища. Кутерьма, кипенье, гвалт. Кто-то открывает шампанское, кто-то бежит ловить извозчика, чтобы немедленно ехать в город, кто-то кричит: «Виват!»
Вдруг из дверей казармы появилась необыкновенная процессия. Четверо юнкеров, наряженных в ризы из одеял, несли снятую с петель дверь, которая изображала собой гроб. На гробе том грудой лежали учебники. Впереди, успевший облечься в новенький мундир с золотыми полосками погон, шел невысокий коренастый подпоручик с широким и старательно серьезным лицом. Гроб сопровождал хор со свечками и кадилами, в которых дымился дешевый табак.
– Похороны науки! – с важным видом взвыл «батюшка» в накинутой на плечи простыне.
Шутовское шествие двигалось по двору, обрастая хохочущими «плакальщиками». На крышку «гроба» летели задачники, тетради, шпаргалки. Поручик с золотыми погонами метнул взгляд на первокурсника, которому явно были в новинку юнкерские шалости. Он остановился, подмигнул смеющимся глазом и крикнул: «Ты с нами, юнкер?» Широко отмахнув рукой, первокурсник хлопнул по снятой двери и отозвался с веселой готовностью:
– Точно так, господин поручик, с вами! До гробовой доски!
Тень мелькнула на лице поручика.
– Тебя как звать?
– Григорий Магдебург. А тебя?
– А я – Антон. Антон Деникин.
3
Река Остер
Коричневые платьица, черные фартучки с воланами, атласные ленты, – веселый вихрь, какой всегда подхватывает школьников и птиц, выпущенных на свободу, вылетел из дверей гимназии Кушакевич, рассыпался на парочки и смешался с уличной толчеей. Ученица первого класса Женечка Магдебург натянула на плечо клеенчатый ранец и спустилась по ступенькам. Сегодня ее никто не встречал. Она, как большая, пойдет домой одна.
Сначала по главной улице – денек выдался не по-осеннему солнечный, и Гоголевская, недавно замощенная булыжником, полна гуляющей публики. В скверике около памятника Гоголю сладко пахнет сдобными булками и кренделями, которыми торгуют прямо с лотков. У входа в лавку Москаленко благоухает огромная бочка со знаменитыми нежинскими огурцами. Женечка эту лавку хорошо знает. Здесь живет ее подружка и одноклассница Маша, дочкахозяина. Огурцы мама не покупает, солит сама, не хуже Москаленок, хотя и говорят, что они поставляют соленья в Петербург, к царскому столу. А покупает мама здесь колбасу, тонкую, сухую, которую изготавливает прямо во дворе старик-грек, и сладости. Женечка немного потолкалась у витрины москаленковской лавки, любуясь на россыпь городских конфет, которые ей доставались только по праздникам, и побежала дальше. Мимо Благовещенского монастыря, где толпятся у входа богомольцы с запыленными ногами и крестьяне с коричневыми лицами. Мимо длинных одноэтажных домиков, почти не видных за пышными фруктовыми садами. Мимо городского парка с золотыми акациями и пирамидальными тополями. Вот и любимая Женечкина Соборная площадь. Слева – белоснежный греческий храм. Классная дама говорила, что он похож на Акрополь. Справа – Николаевский казацкий Собор. Папа считал его своим и по большим праздникам, разглаживая тронутые проседью усы, торжественно опускал в ящик для пожертвований свернутую ассигнацию.
Пятиглавый, с вытянутыми вверх луковицами, с красивейшими одинаковыми фасадами, как это было принято во многих соборах, построенных в конце XVIII века в Малороссии русскими архитекторами, Николаевский храм являл собой великолепный образец украинского барокко. Поставленный на средства казаков, ими и поддерживался, был средоточием казацкой жизни.
Каждодневно же Магдебурги посещали близкий к дому Преображенский храм. Зеленый купол и кирпичные стены, увитые хмелем, служили Женечке главным ориентиром: не доходя до Собора, надо было повернуть направо, на Преображенскую улицу. Дом белел сквозь сбегающий к реке сад. Бахча, огород с огурчиками, смородиновые кусты и, конечно, травы, которые мама выращивала в изобилии, а потом варила в медной кастрюльке от всех хворей, и которыми выстилала днища дубовых бочонков под соленья. Резное крыльцо, пестрые тени на ступеньках, скамейка под зелеными ставнями.
Накинув на полные плечи пестрый платок, Мария Александровна стояла у калитки и терпеливо глядела на дорогу. Дочке пора бы появиться из гимназии. А вот и она!
Щурясь на нежное нежинское солнце, Мария Александровна смотрела, как заворачивает из-за угла и несется ей навстречу румяная девочка в коричневом платье и черном фартучке. Подбежала и запнулась в нерешительности. Рядом с мамой стоял незнакомый подросток с серыми внимательными глазами.
– Посмотри, Женечка, кто к нам приехал. Это Миша Савич, сын папиного старого друга из Бобруйска.
Мальчик залился краской и пробормотал:
– Очень рад.
4
Над столом в кабинете у Трофима Васильевича Магдебурга висел портрет его отца, есаула Черниговского полка Василия Магдебурга, изображенного самодеятельным художником с саблей в руках, в малиновых шароварах с лампасами и в черной курчавой шапке. Фамилию, столь необычную для черниговского казака, унаследовал Василий от своего прадеда, прибывшего в Запорожскую Сечь из немецкого города Магдебурга, название которого и закрепилось, как это велось у сечевиков, в его прозвище. Дед Василий, которого старшие сыновья Трофима помнили крепким седым стариком, участвовал в походах против шведов, брал далекую северную крепость Свеаборг, а в достопамятном 1812 году гнал француза по белорусской дороге, от Малоярославца до Березины.
Армейская служба была традиционной для Магдебургов. Как и братья, Трофим начал военную карьеру рядовым Карабинерского полка. До унтер-офицера дослужился в Вологодском пехотном. В Крымскую кампанию 4-ый резервный батальон, где Трофим служил фельдфебелем, отправили на Северный океан воевать против соединенных флотов Англии и Франции. Летом 1855 стояли при Сестрорецком оружейном заводе под начальством генерал-лейтенанта Мирошевича, командующего войсками, расположенными от Петербурга до Выборга. Несколько часов французские корабли Сестрорецк обстреливали, но куда им против казаков! – так и не решились высадить десант.
В 1863 вспыхнул Польский мятеж. Шайки поляков прятались по лесам, разоряли и грабили русские поселки, вешали тех, кто оставался верен Царю. Смоленский резервный полк, в котором служил Трофим Магдебург, был направлен в Западные губернии. Рота прапорщика Магдебурга настигла отряд одного из предводителей восстания, литовского магната Свенторжецкого, и весь поголовно, вместе с начальником, взяла в плен, отобрала оружие и немалую сумму денег. Летом полк был востребован в Минск, в уезде которого усилился мятеж. Там, в белорусских лесах, получил Трофим Васильевич первое ранение и сабельный шрам. В 1863 году Государь повелел все новообразованные полки сделать трехбатальонными и дал им новые названия. Полк, в котором служил Трофим Магдебург, стал 117-ым Ярославским.
Став командиром роты, Трофим Васильевич женился на дочери губернского секретаря Марии Александровне Васильковой. В Бобруйской крепости, которую называли самой полезной цитаделью Империи, родились у них трое сыновей – Владимир, Василий и Григорий.
12 апреля 1877 года Император Александр II издал манифест о войне с Турцией. Полк мобилизовался быстро и выступил с походом из Бобруйска в Киев.
15 июня 1877 года русские войска перешли реку Дунай по понтонному мосту, наведенному саперами у Зимницы, и вторглись на турецкую землю.
Пройдя кампанию от Зимницы до Константинополя, Трофим Васильевич Магдебург серьезно ранен не был, шрамы не считал, однако легкие надорвал и, вернувшись с полком из Турции, вышел в отставку. Осел не в Бобруйске, а в теплом и уютном Нежине, где купил дом на берегу реки Остер. На покое прожил еще десять лет. Старших сыновей, Василия и Владимира, отправил в военные училища – не было это даже поводом для раздумий. Григория, который больше других братьев тянулся к учебе, отдал в знаменитый Нежинский лицей. В Нежине родились у Трофима Васильевича и Марии Александровны младшие дети: Яков, Павел, Константин и дочка Женечка. Трофим Васильевич говаривал, что долг свой перед Отечеством он выполнил, родив шестерых сыновей, а дочка – это уже для него, Божий дар.
Отставной майор был немолод, но бодрость духа не терял. На боли в груди не жаловался, терпел, однако кашель выдавал угнездившуюся в легких болезнь. Мария Александровна лечила его собственноручно изготовленными декохтами, он, посмеиваясь, называл жену полковым лекарем, однако выпивал душистые отвары покорно. Расположившись у окна в кресле с потертыми бархатными подлокотниками, и зимой и летом крест-накрест повязанный жениным пуховым платком, Трофим Васильевич пыхтел трубкой и листал «Календарь Черниговской губернии». Вечерами Мария Александровна зажигала свечу и садилась за штопку, натянув на деревянный грибок детские носки. Трофим Васильевич подвигался ближе к огню, так, чтобы печным жаром прогревало спину, и рассказывал сыновьям бесконечные истории про Бову-Королевича, как называло Михаила Скобелева-второго все Русское войско. Мальчики, розовея в отсветах пламени, смотрели, как пишет круги вишневая трубка, как сплетается из теплого воздуха и жарких искр и гарцует на вычищенном жеребце Белый генерал. Пел самовар, а тысячи турецких аскеров походными колоннами окружали Плевну, лилось густое, как кровь, болгарское вино – гымза, и шли по Зеленым холмам в штыковые атаки румынские уланы, и ломали на Шипкинском перевале по-братски пшеничные галеты казаки и стрелки, и встречали победителей Осман-паши черноокие красавицы с иконами, хлебом и солью
Чай стыл в чашках.
– Папа, расскажи про шрам на щеке!
Трофим Васильевич спускает Женечку с рук. Подносит к усам изрядную рюмку с малиновой наливочкой и выпивает единым духом. Из бисерного, вышитого дочкой кисета отсыпает свежего табаку. Мальчики ерзают, поминутно вздыхают, хотя историю эту много раз от папы слышали. А Трофим Васильевич, как нарочно, внушительно откашливается, долго копаясь, достает из кармана домашнего сюртука кремень, стучит, сыпятся искры, и блестят сквозь пелену тумана снаряды из стальных орудий Осман-паши.
Река Осма
Общий штурм Плевны назначен был на 30 августа 1877 года. С утра шел сильный дождь, и стоял туман, такой непроницаемый, что в сотне шагов не было видно ни зги. За густой пеленой лежал маленький болгарский городок. Русская артиллерия прекращала огонь лишь на короткие промежутки. Пехота ждала трех часов дня, чтобы одновременно атаковать турок, взятых в широкое каре. Около полудня у турок поднялась отчаянная пальба. Начальник штаба 16-ой дивизии генерал-майор Гренквист решил, что началась атака, и двинул на Плевну передний Углицкий полк. Командир Ярославского полка, полковник Федор Хитрово, с утра получивший приказ идти следом для атаки за угличанами, повел на штурм и свои батальоны.
В тяжелом мокром тумане поднялся Ярославский полк; солдаты и офицеры, в отяжелевших от дождевой воды мундирах, шли под картечью и пулями, с трудом вынимая из вспаханного грунта облепленные грязью сапоги. Турки, увидев, что в атаку идут только два русских полка, подтянули к глиняным откосам редута резервы и залили русских пулями. Ярославцы бросились вперед бегом, но сразу стали задыхаться, потому как ноги вязли в грязи по колено. Не было никакого прикрытия, но они продолжали двигаться, непрерывно и неуклонно. Добравшись, наконец, до первого укрепления, полк залег и открыл стрельбу.
– Тщетно ждали мы подкрепления, – продолжал свой рассказ Трофим Васильевич, – никто не шел нам на помощь. Все ожидали назначенного часа, а полк все таял да таял.
Больше часа продержались ярославцы на открытой местности под адским огнем турок. Медленно стали уходить, унося раненых.
– Командир нашего батальона майор Соколов в заляпанном кровью и грязью мундире вел нас на штурм, не слезая с коня. Дважды был ранен. Солдаты просили его вернуться, сделать перевязку, но он не слушал их. Последние слова майора были: «Вперед, голубчики!», и новая пуля, пробившая голову, свалила его с коня. Увидев, что мои солдаты не в силах взобраться по размокшей земле на вал, я крикнул: «Рота, за мной!». Скользя и падая, побежал я по дну рва в тыл туркам. Синие куртки аскеров заполнили укрепление. Начался рукопашный бой…
В три часа загремели оркестры, взметнулись знамена, и русские полки двинулись на штурм редутов, которые после этих кровавых дней назовут скобелевскими. Но мои храбрецы уже этого не слышали. Они лежали, переколотые турецкими штыками. Сам я опомнился в лазарете с перевязанной головой. Санитар нашей роты Ефим Евстеев вынес меня под градом пуль на своих плечах.
На этом месте Мария Александровна обычно сокрушенно качала головой, крестилась и шептала: «Дай Бог ему здоровья».
– Ну что, казаки, – спросил Трофим Васильевич сыновей, – кто нашу полковую помнит?
Мальчики переглянулись: папа, рассказав историю про штурм Плевны, всегда вспоминал полковую песню. Вскочив проворно, они выстроились по росту и запели высокими и чистыми голосами:
Аты-баты, в прошлую войну,
Аты-баты, с турком воевали.
Мне за это дали
Сразу две медали,
Ротный получил всего одну.
Похоронив летом 1892 года отца, Григорий Магдебург записался вольноопределяющимся в 117-ый Ярославский полк, и через месяц был направлен на учебу в Киевское пехотное училище.
5
Река Березина
Появлению Миши Савича в кабинете у письмоводителя Нежинского лицея господина Проценки предшествовала длительная и дотошная переписка. К прошению о принятии сына, окончившего к тому времени три класса бобруйской прогимназии, на казенный кошт в прославленное учебное заведение и получении полного денежного обеспечения на обмундирование, питание, найм жилья, проезд и разные школьные надобности, Людви Федорович Савич должен был приложить немалое число документов. Прежде всего, требовалась копия записи из церковной книги о крещении мальчика, документ о явке к исполнению воинской повинности и увольнительное свидетельство от общества мещан города Бобруйска. Подробно описать следовало имущественное положение семьи, род занятий отца, состав и численность семейства, находящегося на его иждивении, и свидетельство о благонадежности.
Завернув документы в серую почтовую бумагу, Людвиг Федорович разгладил ладонью широкую бороду и облегченно вздохнул:
– Вроде ничего не упустили.
– Я уже беспокоиться начала, что не поспеем к сроку, – Варвара Александровна, суховатая дама с гладко зачесанными волосами, подала мужу склянку с сургучом и добавила, саркастически поджав губы. – Разве только до седьмого колена историю не потребовали описать.
– Да, матушка, на судьбу отца моего, Тадеуша Савича, столько выпало, что не то прошение, а роман авантюрный написать можно. Да и моя жизнь в справки не укладывается.
…Темный бор навис над горизонтом, как туча. Вокруг небольшой шляхтенской усадьбы рассыпались соломенные крыши селян. Узкая каменистая дорога ведет к замку, который возвышается над фольварком Лоск Ошмянского повета Виленской губернии. Золотые липы укрывают белокаменную церковку, построенную на месте старой, бревенчатой, сожженной французами при отступлении. На пепелище стоит и корчма, где жид Лейба Кац с пейсами до плеч записывает мелом на стене долги своих завсегдатаев.
Над крышей панского дома шелестят березы, вихрь кружит по двору опавшие листья. Сквозь оконце едва пробивается свет. Наморщив лоб, близоруко склонился над столом хозяин усадьбы, теребит задумчиво мягкую белокурую бородку. На шее у него повязан шелковый платок, сюртук тонкого зеленого сукна и с отворотами по последней моде расстегнут свободно. Обмакнув перо в чернильницу, он стряс каплю и вывел изящным почерком: «Второе октября 1830 года. Я, Тадеуш Савич, подтверждаю, что род мой идет от предка Семена Савича чрез десять поколений».
«Столетиями, – писал польский хронист Гаспар Несецкий, – известны были Савичи, из коих некоторые именуются Савич-Рычгорские, другие же Савич-Заблоцкие, и прочие: Иван Савич, муж воинственный; сын его Лаврентий был Троицким земским судьею; его сын Иван Александр был в военной службе в команде гетмана Сапеги; Фома Савич в 1648 г. избран был депутатом для заключения конвенции с королем Казимиром; Станислав в Минском воеводстве, Альберт (Войцех) в звании королевского камер-юнкера жительство имел в Виленском, а после в Ошмянском поветах. Дворянство подтверждено определеньем, учиненным 12 февраля 1802 года, о чем документов на гербовой бумаге им не выдано, затем что они по бедности купить таковой не могут».
В результате разделов Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией, окончательно утвердившись после разгрома Наполеона, граница, разделяющая католический и православный мир, сместилась к западу, а белорусские и литовские земли, включая Виленскую губернию, вошли в состав Российской империи.
Белорусская Шляхта осталась лично свободной, обладала правом голоса на местных сеймах, не платила налогов, но по состоятельности мало отличалась от крестьян. Шляхтич, однако, дорожил своими сословными привилегиями, и, если ему случалось по бедности самому удобрять поле, то рядом с вилами спесивый пан втыкал дедовскую саблю. Чтобы не быть по ревизии записанным в вольные хлебопашцы или мещане, или иное податное, другими словами, облагаемое налогами сословие, нужно было документально подтвердить свое благородное происхождение. Пересмотры дел продолжались годами и так называемый «шляхтенский разбор» растянулся на десятилетия.
Темнеет. Потрескивает фитиль догорающей свечи.
Отточенное гусиное перо, чернильница. Жбан с квасом. Книги в кожаных переплетах, отпечатанные в старинной, в XVI веке основанной за каменными стенами Лоскского замка, типографии. Самолично переплетенные паном Тадеушем рукописи, которые он держит подале от посторонних глаз. Свернутый в трубочку и перевязанный шнурком «Минский вариант» проекта Русской конституции, написанный декабристом Никитой Муравьевым. Устав «Демократического общества», тайной организации, членом коей со студенчества состоял Тадеуш Савич. Сверху выведено: «За нашу и вашу свободу!». Под этим лозунгом студенты Виленского университета добивались расширения польского восстания на земли бывшего великого княжества Литовского. Самая драгоценность – стихи на «полесском» языке двоюродного брата хозяина усадьбы, инсургента и поэта Франца Савича: «Там, близко Пиньска на широком полю». Как видно, кипение и возмущение умов в Польше достигло и фольварка Лоска.
Во дворе залаял пес. Пан Тадеуш обернулся с удивлением: в чем дело?
Дворовой человек стянул с головы шапку, поклонился и протянул сверток:
– Ваша милость, почту привезли из Вильны.
Хозяин сорвал с длинного узкого конверта печать, развернул сложенный вдвое шершавый листок и сразу узнал руку своего однокурсника по Виленскому университету. Письмо содержало известие об аресте Франца Савича. Изменившись в лице, Тадеуш несколько раз быстро прошел по комнате. Постоял, задумавшись, затем крепко стиснул зубы и замкнул на ключ дверь.
Он сгреб со стола конверты, деловые бумаги, рукописи и, помечая свой путь к печи белыми листками, ворохом бросил их у огня. Сверху кипы легло, как эпитафия, письмо Франца:
– Боже мой! Подумать страшно, что ждет его: каторга? Кавказ?
Тадеуш поднес к глазам и повторил строки, кои давно уже знал наизусть: «И с высоты виселицы, как с высоты трона, должен призвать: восстаньте, народы! Восстаньте во имя растоптанных прав человека!» В печи горели, потрескивая, сухие березовые дрова. Пан Тадеуш расшевелил кочергой угли и одну за другой стал бросать в огонь бумаги, отвернув от пышущего жара разом потускневшее лицо. Листы схватывались с краев огнем и темнели, и рассыпались коричневыми хлопьями.
Идея возрождения Речи Посполитой, которая постоянно возбуждала восстания в Польше, имела сторонников и среди русской полонизированной шляхты в Западной Белоруссии.
Результатом волнений 1830 года стали действия русских властей по деполонизации Западного края: перевод делопроизводства и обучения в учебных заведениях на русский язык, закрытие Виленского университета, аресты инсургентов и увольнения со службы шляхтичей, участвовавших в восстании. В конце концов, в 1839 году на Полоцком соборе была ликвидирована уния, а униаты переведены в православие. Как всегда, государственная машина разворачивалась тяжеловесно, не замечая деталей.
Дворянское достоинство Савичей подтвердили в 1847 году. Документы подоспели к похоронам. Пан Тадеуш и его жена Анна умерли от холеры, оставив малолетнего Людвига на попечении дяди. Егор Савич служил управляющим у помещика Алоизия Пржецишевского, в его имении Изряки, что под Полоцком.
6
1863 год ввел в исторический обиход понятия «белые» и «красные». «Белой гвардией» называли партию польских магнатов, которые последовательно стремились восстановить Польшу в границах Речи Посполитой 1772 года. «Красные» же подбивали на бунты крестьян и включали в свою программу решение аграрного вопроса. Не имея сил на открытые столкновения с русскими войсками, повстанцы действовали методами партизанской войны.
Усадьба пана Пржецишевского превратилась в гнездо восстания. Отправив жену с младшими детьми в Ниццу, пан Алоизий всей своей мятежной душой окунулся в дело «белой гвардии».
По улицам фольварка разъезжали телеги с вооруженными людьми, на вспененных лошадях мчались из Варшавы в Минск курьеры в вязаных конфедератках. В костелах распевали патриотические песни и оскорбительные куплеты, прятали оружие и прокламации, а католическое духовенство открыто призывало: «Лучше забыть обиду на панов и помнить, что главный враг – это москаль!» Магнаты вывозили за границу имущество из имений и выходили «до лясу», где составлялись вооруженные отряды для войны с «пшеклентыми москалями»: мелкая шляхта, чиновники, разночинцы, гимназисты, дворовая челядь. Смута охватила все шесть губерний Западного края. Горели православные церкви, целые деревни, населенные староверами, казенные присутствия. Повстанцы врывались в волостные управления, срывали портреты Александра II, рубили телеграфные столбы.
Сын хозяина имения Адам Пржецишевский, одетый с иголочки франт, и молодой управляющийЛюдвиг Савич, в бурке, расшитой ручками белолицей пани, крутились в центре событий. Под видом хозяйственных дел они обходили «рогатки», устроенные правительством, и отводили лошадей и коров в лес, который покрывал отряд литовского магната пана Свенторжецкого, как густая пуща.
Руководители «красного крыла» безуспешно пытались втянуть в бунт крестьян, которые по большей части были православными или униатами и польские интересы не разделяли. Несколько русских полков, в числе которых и был Смоленский резервный, в пару месяцев остановили восстание. Генерал-губернатор Муравьев действовал решительно и энергично. Населению запретили выходить в ночное время без фонарей, носить траур и провели земельную реформу. Западный край был замирен.
Пан Алоизий бежал во Францию и продолжил свою «подрывную» деятельность в парижских салонах. Имение Изряки сожгли, землю по новому закону передали крестьянам, а имущество конфисковали в казну. Адама Пржецишевского сослали в Олонецкую губернию за «прием у себя мятежников и помощь продовольствием». Людвиг Савич, управляющий сгоревшим имением, за «отвод лошади и коровы» по решению сначала Полоцкого, а затем Витебского суда был лишен дворянского достоинства и отправлен на военную службу в войска Сибири.
«ДЕЛО О ШЛЯХТИЧЕ САВИЧЕ»
«Правительствующий Сенат полагает: утвердить приговор Витебского Главного суда Первого департамента, с коим согласился и тамошний гражданский губернатор. Людвига Савича, лишив оного права именоваться шляхтичем и доказывать сие достоинство, отдать в солдаты; в случае же совершенной неспособности к военной службе, сослать в Сибирь на поселение. Дело сие слушано и решено в Гражданском Департаменте Государственного Совета. Список препровожден к господину управляющему Министерством Юстиции при отношении Государственной Канцелярии».
К военной службе Людвиг Савич оказался годен. Через пять лет он получил освобождение от полицейского надзора и свидетельство на свободное проживание.
Вернулся в Вильно. Старый друг и однокурсник отца по Виленскому университету помог устроиться в губернскую канцелярию, а потом рекомендовал на место управляющего имением в фольварке Панюшковичи Могилевской губернии. Там, окончательно остепенившись и приняв русское произношение отчества, и устроился Людвиг Федорович с женой Варварой Александровной и дочерью Сашенькой. В 1876 году у них родился сын Михаил. Репутация молодого Савича укрепилась, предложение управлять необъятным имением Плесы Бобруйского уезда пришло вовремя и упрочило положение семьи, в которой появились на свет еще двое детей: сын Александр и дочь Зиночка. Обоих крестили в деревне Телуша, в Свято-Николаевской церкви.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
А. С. Пушкин, «Клеветникам России»
…По согретой солнцем Преображенской улице в коричневом гимназическом платьице бежит дочка освободителя Плевны, внучка черниговского казака и героя 1812 года, бежит навстречу потомку польских инсургентов и своей судьбе…
7
Река Остер
В квадрате солнечного света лежал и пах душисто вынутый из печи хлеб. Миша поднял край белого, расшитого красными петухами рушника, отрезал, не жалея, пружинистый ломоть и вышел в сад.
Ветви грузно оседали под тяжестью гладких, почти восковых плодов. Мальчик потянул носом, вбирая в себя сладковатый яблоневый дух, и поднял руку. Яблоко скользнуло и наполнило ладонь.
– Вот сорванец! Опять без завтрака убежал! Выпей молочка, только свежее принесли, – окликнула его Мария Александровна.
Просторный дом, зимние стволы в белых, нарисованных известью носочках, сливовое варенье, выложенное Марией Александровной в фарфоровые розетки, – Миша прибился к семье Магдебургов. Привык к веселой насмешливости и немецкой педантичности старших сыновей покойного Трофима Васильевича, их командным голосам и витым аксельбантам, к неутомимой предприимчивости младших отпрысков и чернобровому, кареглазому, словно у гоголевской Оксаны, личику Жени.
– Реве та й стогне Днипр широкий», – запевали, собравшись за столом, братья Магдебурги, и Миша вступал неокрепшим юношеским тенором:
– Сердитый витер завыва.
Каникулы Михаил обычно проводил в Бобруйске, у родителей. В 1894 году он возвратился в Нежин в середине августа: семейство Савичей перебиралось в Гомель, где Людвиг Федорович устраивался основательно, на покой. Вернувшемуся неурочно Мише постелили в гостиной на диване: комната была занята подпоручиком Григорием Магдебургом, который прибыл навестить семью по дороге к месту службы. По окончании пехотно-юнкерского училища он был откомандирован в 133-й Симферопольский пехотный полк, расквартированный в Екатеринославе – столице Южной губернии.
Всем, кто сдавал комнаты лицеистам, положено было вести кондуит. На разграфленных листах Мария Александровна отмечала поведение, происшествия, время и причину отсутствия своего квартиранта, добросовестно фиксируя события мальчишеской жизни. Писала она, правда, лапидарно: гулял, пел, а чаще всего – читал. Учился Михаил с душой, однако не без обычных подростковых проказ: мелькают время от времени и замечания – то службу церковную пропустил без уважительной причины, а то – на уроке вертелся.
Программа Нежинского лицея, построенная по образцу Царскосельского, сильно превосходила все то, что Миша изучал в Бобруйске, особенно по части древних языков и античной литературы. Впрочем, с классическими дисциплинами лицеист Савич справлялся без особых усилий. Хуже обстояло дело с немецким: в Бобруйской прогимназии из новых языков проходили только французский. Пришлось Михаилу – о, майн Готт! – усиленно корпеть над плюсквамперфектами. Вертеться стало некогда.
На выпускном экзамене каждого посадили за отдельный столик, причем столики расставили на почтительном расстоянии друг от друга, чтобы исключить списывания и подсказки. Михаилу попалась «История тридцатилетней войны» Шиллера. Перевел легко. Пятерка. Не зря, видно, весну анахоретом просидел. По другим дисциплинам оценки тоже отличные. Одна только тройка затесалась в блестящий Мишин аттестат – по математике.
С тех пор так в семье и повелось: никто из нас по точным наукам выше среднего не поднимался.
В 1890 году Михаил Савич без вступительных экзаменов был зачислен в историко-филологический институт князя Безбородко.
8
Река Днепр
Скучная пыльная провинциальная жизнь: выпивка, карты и сплетни, может быть, и существовала где-нибудь, кроме романов Куприна, но только не в Екатеринославе – блестящей военной столице Южной губернии. Сюда, начиная с турецкой войны, сместился центр формирования русской армии для защиты южных границ, а также созданная знаменитым русским хирургом Пироговым главная госпитальная база.
Со времен Екатерининского путешествия по Крыму город рос и ширился вокруг величественного Потемкинского дворца. По-петербургски роскошные залы с хрустальными канделябрами, мраморные колонны, тайные подземные ходы и секретные комнаты будоражили воображение студентов разместившегося во дворце Горного института.
Экономический бум, захвативший южную столицу Империи, вознес ее до сравнений со столицей северной. Первая в России трамвайная линия с юркими зелеными трамваями, громада Брянских металлургических заводов, нависшая над Днепром, модные магазины, салоны в домах интеллигенции, роскошные гостиницы, где в зеркальных ресторанах пили крымское вино с императорских виноградников бельгийские концессионеры и малороссийские купцы из крепостных, – успех стоял в воздухе, крепкий, как запах дорогих сигар.
Екатерининский бульвар залит электрическим светом. По аллеям, обсаженным двойным рядом акаций и каштанов, гарцуют на холеных лошадях молодые офицеры Симферопольского и Феодосийского полков расквартированной в Екатеринославе 34-ой дивизии. Оставив казармы, расположенные на правом берегу Днепра, они выезжают вечером в город «развеяться». Выбор велик: Английский клуб, первый в России после петербургского, где выступают с концертами Шаляпин и Скрябин, Офицерское собрание – рулетка, карты, модное до лихорадки лото и выставки передвижников, Благородное собрание со своим драматическим театром. Летом – скачки, яхты, гуляния в пышных городских садах с фонтанами и оранжереями. Зимой – катки, ледяные горки, балы.
Скрипит под колесами снег, пятна фонарей сливаются в одну неровную полосу, светится серебряная мостовая Екатерининского бульвара. Редкий медленный снег ложится на электрические гирлянды, опутавшие белые ветви акаций, на елку у входа в отель «Бристоль», увешанную золочеными орехами, бубликами, лентами. Сверкают сквозь снежную завесу стрельчатые окна Английского клуба.
Коляска остановилась у подъезда. Швейцар в коричневой ливрее с золотыми галунами предупредительно распахнул настежь дубовую дверь. Легко соскочив на ковровую дорожку, невысокий щеголеватый офицер вошел в вестибюль.
Веселый запах мороза, духов и пудры. Стремительно летит с плеч заснеженный мех, брызжут с хрустальных подвесок разноцветные огни; огромное, во всю стену, зеркало наполняется кружевами, нежной белизной перьев и мельканием рук, быстро пробегающим понесуществующим складкам. Со второго этажа несутся бравурные звуки оркестра Симферопольского полка. Раскланиваясь и ловко лавируя между возбужденных музыкой и светом дам, офицер взбежал по широкой лестнице с мраморными перилами.
В бильярдной, низко склонившись над зеленым сукном, целил кий поручик Феодосийского полка Леонтий Ломаковский. Его соперник, капитан Люткевич, крутил в руке стек с золотым набалдашником в виде льва, и, закинув назад голову с коротким светлым ежиком, выпускал ровные круги дыма. По его спокойному и равнодушному виду невозможно было догадаться, что он проигрывает. Кий сухо щелкнул по шару. Ломаковский выпрямился, весело повел плечами и оглядел столпившихся вокруг стола военных торжествующим взглядом. Он казался бы надменным со своим тщательным офицерским пробором и крепкими решительными губами, если бы не румянец во всю щеку, насмешливые искорки в глазах и ловкие молодые движения.
– Григорий! – он приветственно качнул кием офицеру, который появился в дверях бильярдной, неся за собой праздничный будоражащий гул. – А я тебя жду! Пойдем в зал! Там уже танцуют!
У окна, быстро обмахиваясь веером, стояла немолодая крупная дама в пенсне. Подавшись вперед, она покровительственно шептала что-то девушке в белом гладком платье.
– Ма тант, – пропел Леонтий, подлетая к величественной даме, – позвольте представить вам моего сослуживца, поручика Магдебурга.
Григорий поклонился.
– Моя сестра Александра, – радостно засиял Леонтий.
– Все говорят, что она на меня похожа.
Каштановые волосы кружились вокруг слегка склоненной головы, внимательно и ясно смотрели – и правда, такие же, как у брата – чуть насмешливые глаза. Александра. Боже мой!
– Полонез! – закричал за спиной громкий фальцет, и маленькая рука в лайковой перчатке доверчиво легла в его ладонь.
9
Река Остер
Не любительница была Мария Александровна ходить по присутствиям, да и кто любитель?
Оказавшись в казенном учреждении, она робела, делалась жалкой и маленькой, теряя слова, путано – от Адама – рассказывала про свое вдовство, про протертые пальтишки и рукава до локтя, про мужнины медали и опустевшие комнаты. Глаза тут же оказывались на мокром месте, ничего не помогал извлеченный из ридикюля кружевной платок, а казенные лица расплывались и белесыми пятнами кружились вокруг нее в пугающем хороводе.
Старших сыновей Трофим Васильевич, Царствие ему Небесное, успел поднять. Все трое служили в чинах, хоть и небольших по молодости лет, но на хорошем счету. Жаль, конечно, что квартировали их полки в разных городах, но этим ни братьев Магдебургов, всю жизнь проездившим за отцом по военным гарнизонам, ни саму отставную майоршу не напугать.
Младших Марии Александровне пришлось растить уже одной. На небольшую пенсию, которую назначили после смерти отца семейства, прожить было можно, учитывая ловкость и сноровку, с которой она вела хозяйство, однако хорошее образование в ее скромные расчеты не укладывалось. Вместо Лицея, который блестяще закончил Гриша, или кадетских корпусов, где учились Василий и Владимир, пришлось отдать мальчиков в Народное училище. Курс в недавно открытом учебном заведении, которое оказалось серьезным сверх ожиданий, подходил к завершению, и пора было думать о высшем образовании. Не простит ее Трофим Васильевич, если не поставит она младших на военную стезю.
Повздыхав и поохав, Мария Александровна застегнула брошью воротник парадного шелкового платья, и, поручив семейство попечению Ларисы, жены старшего сына, специально вызванной по этому случаю из Новгород-Северского, отбыла в Чернигов – хлопотать.
Так горда и счастлива была Мария Александровна успехом своей черниговской поездки, так размечталась о новеньких юнкерских мундирах, которые сошьют для ее сыновей нежинские портные на «материальное пособие, назначенное военным ведомством» вдове ветерана трех кампаний, что не заметила сразу замешательство и даже робость на милом лице старшей невестки.
Заметив же, быстро и бдительно окинула взглядом всю компанию, высыпавшую на крыльцо встречать наемную карету, которая доставила мать семейства в родные пенаты: количество совпадает, руки-ноги на месте. У Павлика коленка расцарапана, Костю и Яшу пора стричь или, по крайней мере, расчесать, краснощекая Женечка наглажена и сверкает чистотой, а Боренька, первый внук – ах, не дожил Трофим Васильевич! – сынок Владимира и Ларисы, уверенно держится на крепеньких ножках, ухватив за юбку явно расстроенную чем-то мать.
– Лариса, дорогая, – Мария Александровна ласково отстранила облепивших ее детей, – что случилось?
Невестка всхлипнула и протянула измятый бланк телеграммы таким жалким и беспомощным жестом, что у человека покрепче, чем ее свекровь, сжалось бы сердце:
– Володю от должности отстранили.
Женитьба на Ларисе Дмитриевне, – неуместно заглядевшись на невестку, подумала Мария Александровна, – перевешивает всю Володину незадачливость. Предприимчивый и энергичный нрав, упорство и даже некоторая, прямо скажем, строптивость, которую сдерживать могла только твердая рука отца, постоянно толкали подростка на приключения. А ведь он всегда хотел, как лучше!
– Вот и дед такой же был, – говорил, бывало, Трофим Васильевич, латая разодранный в драке ранец, – горяч, на расправу скор! Под руку подвернешься – только вихры береги, – он задумчиво, словно припоминая, пригладил ладонью редкую седину. – А в бою удержу не знал! Лихой рубака!
Полагая военную службу единственно возможным жизненным путем для своего сына, Трофим Васильевич отправил Володю в Вольскую военную школу, служащую подготовительным заведением для юнкерских училищ. Это учебное заведение, расположенное в Саратовской губернии, известно было строгими правилами и жестким регулированием. Туда направляли тех воспитанников из военных гимназий и Пажеского корпуса, которые по разным причинам нуждались в особом воспитательном подходе. Доброе и сильное влияние педагогов, жесткий надзор сделали свое дело. Володя благополучно завершил четырехлетний курс и был зачислен в пехотный Бессарабский полк вольноопределяющимся второго разряда. Получив чин унтер-офицера, Владимир с увлечением готовился к экзаменам в юнкерское училище.
Зацепив за уши медные дужки очков, Трофим Васильевич читал вслух Володины письма, которые упорно называл реляциями, а Мария Александровна, присев рядом с рукодельем, клевала головой в такт знакомым строчкам. Идиллия, однако, продолжалась недолго.
Очередная «реляция» принесла сокрушительное известие: унтер-офицер Владимир Магдебург уволен из армии по причине болезни почек. Не сказать, для кого удар был сильнее: для отца, уже представляющего сына в офицерском мундире, или для сына, лишившегося карьеры, о которой мечтал с детства. Или для матери, к которой вернулся ее ребенок, больной, растерянный, незадачливый.
Кухня Марии Александровны напоминала одновременно и алхимическую лабораторию, и кладовую знахарки. Настырно пахла мята, с потолка свешивались веники всеисцеляющего зверобоя, на подоконнике сушилась ромашка. Мешочки с листьями смородины, со сморщенной брусникой и малиной теснились на деревянной полке вдоль стены, на печи тоненько дымился отвар. В шкафчиках копились пустые бутылки и баночки, ожидающие своего декохта или зелья. Тяжелее года, чем этот, она припомнить не могла. Муж кашлял все сильнее, боли в груди сделались нетерпимыми. К зиме слег окончательно.
Володя устроился служить в канцелярию. Ничего более несовместимого, чем он и делопроизводство, представить было нельзя. Вечерами притихшие родители слушали, как он меряет шагами комнату, словно отсчитывая про себя: ать-два, ать-два.
На похоронах Трофима Васильевича к вдове, окруженной понурыми ребятишками, подошел старый друг покойного, Антон Петрович Васильченко, нежинскиий полицмейстер:
– Пришли-ка, Мария Александровна, ко мне Володю. Пора ему возвращаться на государеву службу.
Фуражка из темно-зеленого сукна с козырьком, серосиние шаровары, вправленные в сапоги; на поясе – револьвер в кобуре из черной глянцевой кожи на трехцветном офицерском шнуре и шашка драгунского образца – полицейский надзиратель Владимир Магдебург начал службу в Нежине. Через год, уже с молодой женой, он был переведен в Новгород-Северск. Жизнь начала налаживаться. Больше всего жалел Владимир, что отец скончался, не увидев внука.
Мария Александровна выронила телеграмму. Серый листок, подхваченный легким речным ветерком, спланировал и лег на траву между двумя женщинами, как знак беды. А беда была, как всегда у Володи, комбинацией из его обычной незадачливости и усердного стремления.
В тот злополучный день он был вызван по тревоге, поднятой местным обывателем, в горячую точку Новгород-Северского – площадь перед казенной винной лавкой, расположенной недалеко от стен Спасского монастыря (откуда, кстати, вышел в большую политику Лжедмитрий). Причину тревоги угадал сразу: шум, крики и иные признаки бесчинства всему городу доносили о незаконном скопище. Послав караульного за помощью в соседний участок, Владимир ринулся разнимать вошедших в раж пьяных ломовиков. Красномордый детина, отлетевший в сторону от тяжелого толчка в плечо, быстро нагнулся к голенищу. Полицейский выхватил шашку. «Поранение посторонней личности», которое вмиг отрезвило буянов, повлекло судебное разбирательство и устранение подследственного от должности без сохранения содержания.
Владимир снова приехал в Нежин. Снова мерил шагами комнату с окном в сад, а мать и жена тревожно выгибали брови и вздыхали, прикладывая к тонкой бязи выкройки панталончиков. Лариса, придерживая рукой тяжелый живот – ну точно, двойня! – относила мужу поднос брусничным отваром и тихонько прикрывала дверь, словно оставляя там тяжелобольного.
Через год Киевская судебная палата полностью оправдала действия полицейского надзирателя города Новгород-Северского. Повеселевшая семья, укутав в бабушкин салоп новорожденного, отбыла на новое место службы отца в город Глухов.
10
Смущенную Марию Александровну в неизменном ее выходном шелковом платье усадили на почетное место между предводителем дворянства, действительным статским советником Троциной и полицмейстером Антоном Ивановичем Васильченко, у которого сын в этом году поступил в Нежинский Лицей. Супруга Троцины, Анастасия Федоровна, в натуральном бальном туалете рассеянно лорнировала портреты императоров и императриц в золоченых рамах, а особенный сегодняшний гость – Петр Федорович Кушакевич, родственник золотопромышленника и основателя женской гимназии, – благосклонно взирал на робеющих гимназисток в форменных платьях и белых передниках с воланами. Антон Иванович, раскланявшись с Марией Александровной, спросил с живым участием:
– Как Володя служит на новом месте? Начальство довольно?
– Слава Богу, Антон Иванович, вроде бы наладилось, – захлопотала Мария Александровна, – так вам благодарна, нет слов. Если бы не вы, не знаю, что бы с ним и стало.
– Рад слышать, Мария Александровна, за него рад и особенно за вас. Впрочем, всегда был уверен, что сын Трофима Васильевича службу знает.
Столетие Пушкина отмечали по всей стране с помпой. Музыкально-литературное собрание, которое привело в актовый зал Лицея городской бомонд, было устроено силами всей образованной нежинской молодежи.
Один за другим появлялись на сцене воспитанники и воспитанницы городских гимназий, лицеисты и студенты. Взволнованные и раскрасневшиеся, они читали стихи, пели романсы, представляли отрывки из пьес. Юный Чернявский-Дубинский сорвал аплодисменты гимназисток, продекламировав стихотворение собственного сочинения «В честь Пушкина».
Когда на сцене выстроился объединенный хор студентов и гимназистов под управлением преподавателя пения Добиаша, Антон Иванович нагнулся к уху соседки и спросил шепотом:
– Мария Александровна, а Женя ваша когда выступать будет? Уже все собрание сочинений, кажется, спели!
Мария Александровна поднесла к черепаховым очкам полицмейстера розовую программку и показала на последнюю строчку: «Борис Годунов. Сцена у фонтана. Читает Евгения Магдебург».
Вместе с другими певцами Миша Савич спустился со сцены и присел на свободное место.
Фонтана на сцене не было. Не было и Лжедмитрия. В круге света стояла кареглазая девушка, ничуть не растерянная, наоборот, уверенная и стремительная. Казалось, она остановилась на бегу и сейчас же помчится дальше. Пышные пепельные волосы, которые обычно заплетались в две тугие косички, а теперь поднимались вверх во взрослой замысловатой прическе и были увенчаны, как тиарой, высоким гребнем, открывали побелевшее лицо. Миша знал, что для «интересной бледности» Женя тайно от мамы пьет уксус, но забыл немедленно от охватившего его странного волнения, будто он видел перед собою не подружку, которую катал на санках по замерзшей речке, а незнакомое и загадочное существо.
Я требую, чтоб ты души своей
Мне тайные открыл теперь надежды…
Выбор стихов Миша не одобрял, фыркал и посмеивался, когда Женечка, вытянув губки в трубочку и встав перед зеркалом на цыпочки, изображала из себя надменную полячку.
– Я тебе от души советую, прочти лучше «В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал.».
– Сам про свой лицей учи, – обиженно отмахивалась Женечка и вечерами пришивала на польский костюм кружева, споротые с маминого выходного платья.
Чтоб об руку с тобой могла я смело
Пуститься в жизнь – не с детской слепотой,
Не как раба желаний легких мужа,
Наложница безмолвная твоя,
Но как тебя достойная супруга…
А. С. Пушкин, «Борис Годунов»
Загадочное существо вылетело из-за кулис и, подхватив юбку, запрыгало вокруг него на одной ножке:
– Миша! Я правда лучше всех читала?
11
Дипломную работу «Педагогические взгляды Платона» Михаил подготовил к маю и сдал образцово. Вскоре пришла разнарядка из ведомства народного просвещения.
По закону стипендиаты, окончившие Нежинский институт, обязаны были шесть лет отслужить преподавателями по назначению министерства. Скоро все разъедутся: Чижевский – в Керченский институт благородных девиц, Басаргин – в Витебскую гимназию, Суханов – в Елтомскую, Филиппов – в Аккерманскую. Савичу пришло назначение преподавателем русского языка и словесности в Кишиневскую первую женскую гимназию.
Первое важное дело в своей жизни он завершил. Другое жизненно важное решение крепло в нем.
– Ты, Мишенька, мне сразу по душе пришелся, – Мария Александровна улыбнулась, вспомнив подростка в гимназической тужурке с длинными, на вырост рукавами,– а за эти годы я тебя полюбила, как родного сына. Отвечу, не размышляя: я тебе дочь доверяю, и Трофим Васильевич был бы рад.
Она вытерла глаза, как всегда, когда вспоминала покойного мужа, и покачала головой:
– Не знаю, право, как она сама к этому отнесется: вчера только из гимназии, еще куклы на уме. Иди, Миша, поговори с ней. С Богом.
Лепестки метелью кружили на дорожке, сыпались на траву, на скамейку, на душистые пепельные волосы.
– Соглашайся, Женечка! Я тебя всю жизнь конфетами кормить буду!
18 июня 1901 года Михаил подал директору института по одинаковому для всех высших учебных заведений образцу прошение о разрешении вступить в брак.
«Господину ректору (или директору)___________
_____от________________ студента____ курса__
____________факультета (или отделения)_______
_____________________________имя и фамилия.
ПРОШЕНИЕ
Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство возбудить ходатайство о разрешении мне вступить в брак с (указать звание, имя, отчество и фамилию невесты).
При сем имею честь представить свидетельство о поведении и нравственных качествах моей невесты[1], а также заявление о неимении препятствий к вступлению в брак как со стороны моих родителей, так и родителей невесты».[2]
12
На заутрене в храме с увитыми хмелем кирпичными стенами звучал псалом «На реках Вавилонских»:
– Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя. Забудь меня десница моя, если я забуду тебя. – Михаил обернулся к невесте, улыбнулся, и она кивнула в ответ.
Они стоят перед алтарем, молодые, счастливые и полные надежд. Что слышат они в грозных библейских словах? Что пророчит им древний псалом? Что принесут им Вавилонские реки?
13
Во второй части метрических книг, хранящихся при Нежинской Преображенской церкви Черниговской епархии, под номером 16 за 1901 год значится: «1901 года июля 29 дня окончивший Нежинский историко-филологический институт князя Безбородко Михаил Людвигович Савич, православного исповедания, 24-х лет, вступил в первый брак с девицею, дочерью отставного майора, Евгенией Трофимовной Магдебург, православного исповедания, 18 лет.
Бракосочетание совершено причтом Преображенской церкви Нежина».
Подписи священника и диакона неразборчивы.
– Одного не пойму: зачем взрослому человеку нужно просить у директора разрешения на женитьбу? – спросил Саша Савич и быстрыми, веселыми глазами оглядел общество, как будто проверяя, какой эффект произведет на новых родственников смелость его суждений.
– Затем, – рассудительно произнес старший брат, – что во всем должен быть порядок. Батюшка моей супруги, – Михаил засиял улыбкой, а Женя, будто не сразу сообразив, что речь идет о ней, вскинула глаза так удивленно, что все невольно рассмеялись, – Трофим Васильевич рассказывал, что в свое время даже на ношение очков прошение подавали. Показывал: в формуляре, в графе, где чины и награды, записано: «Разрешено носить очки».
Хотя и польщена была Мария Александровна, что молодой зять так деликатно вспомнил ее покойного мужа, однако же споров не любила и тут же пригласила гостей к столу. Чай накрыли в саду.
Солнце садилось за дальними крышами и озаряло листву косыми лучами. Благодушно расстегнув сюртук, дремал в плетеном кресле Людвиг Федорович. Его утомили и ночь в дилижансе, курсирующем между Гомелем и Нежиным, и завтрак на скорую руку на неопрятном постоялом дворе, а по совести говоря, и само венчание, на котором надо было держать марку и не показывать сыну, как постарел и ослаб, похоронив жену, его отец. Время от времени старик вздрагивал, точно разбуженный ему одному слышным зовом, окидывал молодежь благосклонным взглядом и снова засыпал, склонив к плечу серебряную голову.
Павлик Магдебург, специально не снимавший мундир с золотыми эполетами, чтобы никто ни на секунду не упустил из вида, что перед ним – вновь произведенный подпоручик, ловкими, точными движениями выбирал из вазы самые яркие яблоки. Младшие братья с зелеными юнкерскими погонами на угловатых плечах пощипывали невидимые миру усы и наперебой развлекали Зину Савич историями из своей коротенькой биографии. Склонив вбок головку, увенчанную короной темно-золотых волос и юностью, сияющей на нежном белом лбу, – не напрасно билась на ее висках тонкой ниточкой голубая кровь благородных Савичей – Зиночка постукивала о траву черной туфелькой и насмешничала:
– А ведь скоро, господа юнкера, войн совсем не будет! Недавно Нобель, знаменитый шведский изобретатель, предложил новую взрывчатку, называется «баллистит». У нее такая сила ужасная, что придется от битв совсем отказаться, иначе все погибнет. Так сам изобретатель считает, я в «Новом времени» читала. Правда, Саша?
Ероша темный бобрик, Саша Савич бросился спорить с пунцовыми от возмущения юнкерами, а Александра Людвиговна, до которой доносились горячие восклицания про прогресс, семимильные шаги науки и женское образование, снисходительно удивлялась про себя, какие странные разговоры ведут нынешние барышни с молодыми людьми. Старшая сестра приехала на свадьбу с мужем. Капитан Флор Иванович Долинский слыл в полку бретером и большим любителем «разложить винток». Столько слухов, скандальных и романтических, ходило о его поединках, что Людвиг Федорович не сразу дал согласие на брак своей старшей дочери. И вовсе не увлечение Александры красавцем-гусаром смягчило отца, а намек Варвары Александровны на заметную – почти в двадцать лет – разницу в возрасте: остепенится капитан, пора уже.
Флор Иванович поднес папиросу к своим холеным усам и, оживившись, повернул к поручику Магдебургу сухощавое породистое лицо.
– А ведь я, Григорий Трофимович, с вашим батюшкой в Ярославском полку вместе служил. Он в турецкую кампанию был уже в чинах и воевал под началом героя Скобелева, а я тогда только начинал военную карьеру. Довелось принять участие во втором штурме Плевны ординарцем генерал-лейтенанта барона Криднера.
Придвинув графин, Григорий неторопливо наполнил граненые рюмки:
– Про вторую Плевну мы с братьями от батюшки много наслышаны, – он обернулся, подмигнул
Владимиру, и они, точно сговорившись, согласно запели:
Аты-баты, в прошлую войну,
Аты-баты, с турком воевали.
Общий разговор распался. Капитан Долинский, воодушевленный жадным вниманием сыновей своего сослуживца, рассказывал, как его, молодого портупей-юнкера, чуть не угораздило попасть в плен к самому Осман-паше, о канонаде на Шипкинском перевале, о шторме, который настиг корабль, на котором победители возвращались из Адрианополя в Одессу.
Лариса Дмитриевна, с трудом отцепив от отцовского кресла пятилетнего Женю Долинского, увела детей и племянников спать. Чуть позвякивая посудой, налила чай и присела, наконец, Мария Александровна, охваченная тихой счастливой усталостью.
Спустились сумерки. Михаил сходил в дом и принес из столовой керосиновую лампу с несгораемым фитилем. Темнота поглотила краски, и казалось, что силуэты его родных стали черно-белыми, как на дагерротипе. Огонек дрогнул, погас, и они исчезли…
Глава 2. «Голубые мечи»
1
Гранд Канал, Венеция
Облокотясь на теплый мраморный парапет, Женя следила, как свет играет на лакированных боках гондол. Жара, но с нежинской не сравнить! Непонятно и звонко пели гондольеры, тараторили хозяйки с черными платками на плечах, перебирая на лотках фрукты, – куда до нежинских! Ресторанные зазывалы хватали прохожих за рукав, быстро и гневно доказывая что-то на своем летучем языке. «Pesce», пешче, пескарь! – это рыба по-итальянски! – догадалась Женя и вздохнула: – Хорошо Мише – его латынь понимают даже продавцы устриц на рыбном рынке.
– Каналы, как громадные тропы,/ Манили в вечность; в переменах тени/ Казались дивны строгие столпы, – процитировал Михаил строчки модного поэта Брюсова из «Данте в Венеции», любуясь на арочные опоры моста.
– А что нам говорит по этому поводу Бедекер? – из кармана белого парусинового пиджака он извлек путеводитель и открыл на загнутой странице. – Бедекер говорит, что мост Риальто перестраивался четыре раза, но на нем всегда сохранялись торговые лавочки. Женечка, а не хотела бы ты узнать, что предлагают венецианские купцы? Может, выберешь сувенир в память о нашем свадебном путешествии?
Свет лился сквозь разноцветное муранское стекло, в изобилии заполняющее полки тесной лавчонки: бокалы, вазы, танцующие фигурки.
– Прего, сеньора! – хозяин засиял и засуетился так радостно, словно ее приход означал счастливый поворот в его доселе нескладной судьбе. Женечка вдела в ушки коралловые серьги, и, изогнув голову, поймала свое веселое отражение в мгновенно подставленном хозяином зеркальце. – Белла сеньора, беллиссимо!
– Выбрала? – спросил Михаил, который ждал ее у входа, перелистывая Бедекер.
– Си, сеньор, – она засмеялась и протянула ему перламутровую раковину в серебряном ободке с искусно вырезанным образом Божией Матери.
2
Река Бык
Проклятый город Кишинев,
Его язык бранить устанет.
А. С. Пушкин,
Михаил Людвигович шел на службу по Пушкинской улице и удивлялся несправедливости классика: самому ему импонировал сонный знойный город, широкие улицы, пустеющие в послеобеденную сиесту, сады, белые столики летних кафе и крытый черепицей домик с палисадом в кривом переулке возле Дворянского собрания, их первое семейное жилье. Молодой паре нравилось гулять в городском парке, пить лимонад в ресторане «Кампари», любоваться курчавой головой с бакенбардами на гранитном постаменте – и пожимать плечами: за что же Александр Сергеевич так не любил Кишинев?
К мраморным колоннам, украшающим вход в гимназию, одна за другой подкатывали коляски. Из них, подобрав юбки, выскакивали пышные, румяные бессарабки, которых привозили в модное учебное заведение из окрестных имений. Вверх по широкой лестнице, пыхтя под тяжестью корзинок с завтраками, спешила за ними прислуга. Поток форменных платьиц бурлил, распадался на ручейки, сливался в кружочки и островки. Завидев молодого преподавателя, барышни прекращали шушукаться и приседали в книксене, растянув пальчиками края голубых юбок. Сквозь благонравно опущенные ресницы блестели черные лукавые глазки. Михаил Людвигович, признаться, робел. Подстригся ежиком, отпустил усы и короткую чеховскую бородку. Подумав, добавил пенсне, – для пущей солидности.
Спас молодого преподавателя не камуфляж, а театр. В Кишинев с гастролями прибыл знаменитый трагик Лирский-Муратов, который отвлек на себя внимание восторженных гимназисток.
Пьеса, которую ставили в зале Благородного собрания, касалась близкого барышням предмета – «Отметка по поведению». Столичная знаменитость блистала в роли гимназиста, который получил двойку и с горя кончил жизнь самоубийством. Гимназистки, которые приходили на спектакль полными классами, бурно сострадали герою, рыдали и падали в обморок. Классные дамы негодовали, тщетно пытаясь пресечь непристойное поведение.
– Миша, – воскликнула Евгения Трофимовна, которая сама не так давно рассталась с гимназией, – я надеюсь, ты не очень строг со своими ученицами!
– В следующий раз, – сухо ответил Михаил, – пойдем в оперетту. Туда гимназисток не пускают.
В магазине Фельдштейна, расположенном около второго полицейского участка, Евгения Трофимовна купила инкрустированную шкатулку для писем.
Красной тесьмой перевязаны послания из Нежина. Крупными круглыми буквами, без запятых и с одной точкой в конце письма перечисляла мама домашние новости: и сколько насолила огурцов, и какие в это году удались арбузы, и как разрослась малина, которую еще при Трофиме Васильевиче сажали, и кто теперь все это будет есть?
Зеленой тесьмой обернуты письма из Екатеринослава. Григорий рапортует, словно перед строем. В июле 1902 произведен в штабс-капитаны. Дочь Сашенька уже разговаривает. Александра здорова.
Под синей лентой сложены конверты со штампом Вильно, куда перевели полк капитана Долинского. Второго декабря 1902 года, – извещал Флор Иванович, – Александра Людвиговна благополучно разрешилась сыном. Назвали, как принято в семье, Сашей.
Письмо от Александра Савича пришло не из Москвы, как ожидали, а из Петербурга. Окончив гимназию с золотой медалью и получив тем самым право поступать в любое высшее учебное заведение без экзаменов, младший брат Михаила подал прошение о зачислении его в Московский университет на историко-филологический факультет. И вот новость – поступил в Петербургский Политехнический институт. Михаил недоуменно перечитывал: «…по электромеханическому отделению. Жить буду в Сосновке, в общежитии».
– Саша – юноша талантливый, ему науки легко даются. Как бы его это с толку не сбило. Сдается мне, Женечка, – покачал головой Михаил, – его призвание все-таки лежит в области словесности.
На душистых розовых листках, исписанных изящным Зиночкиным подчерком, появилось и замелькало все чаще новое имя – Аркадий Нелюбов.
3
После третьего курса студентов Петербургского Лесного института отправляли в научную экспедицию: в леса Финляндского княжества, в поля Тверской губернии, в сибирскую тайгу.
Аркадию Нелюбову вместе с двумя его однокурсниками, Володей Никлевичем и Генрихом Грюнблатом указано было Носовичевское лесничество. В основном сосна, а также дуб, граб, клен, береза и ясень. Студенты поселились в местечке Носовичи на речке Ути, в шести верстах от станции Зебровичи Либаво-Роменской железной дороги, в домике у смотрителя. Руководитель экспедиции, заведующий кафедрой почвоведения, профессор Петр Самсонович Коссович, устроился в самом Гомеле, в гостинице «Золотой якорь», но лесничество инспектировал практически каждый день.
Большой, грузный, в простых сапогах и неизменном кепи, он, казалось, сам устали не ведал и другим не давал залеживаться. Кроме основной программы по изучению леса и почв Носовического участка, Петр Самсонович привлек студентов к собственным исследованиям; а занимался он тогда изучением азотного питания растений. Мало того, что дело новое, интересное, молодым людям было лестно и то, что результаты их, пусть скромных, но собственных изысканий планировалось опубликовать в «Журнале опытной агрономии», недавно основанном самим Коссовичем.
В выходной Аркадий Нелюбов дошагал до станции Зебровичи и в шатком вагончике отправился в Гомель. Он был наслышан о местной достопримечательности – дворце и парке князя Паскевича-Эриванского, хотел полюбоваться и бросить, как говориться, научный взгляд.
Заплатив 12 копеек за вход, Аркадий двинулся по тенистой аллее. У ажурного железного моста нагнал профессора Коссовича. Петр Самсонович встрече нелицемерно обрадовался:
– В воскресный день студента скорее на прогулке с барышней заметишь, чем на познавательной экскурсии! Шучу!
Они прогуливались по парку, мельком окидывая взглядом статуи и гроты и подолгу застревая у цветников и оранжерей. Петр Самсонович по преподавательской привычке не умолкал, а массивную трость использовал в качестве указки.
– Убедительный пример удачного паркостроения. Заметьте, как скомпонованы в общие группы различные породы деревьев: привычные для здешних мест клен, ясень и каштан, а рядом – веймутова сосна, пирамидальный дуб и даже маньчжурский орех, бархат амурский, гинкго-билоба. Кстати, обратите внимание на каменную бабу – подлинное скифское изваяние. А эта часовенка – усыпальница князей Паскевичей.
За разговором не заметили, как подошли к фонтану. У круглого мраморного бассейна стояла девушка. Словно нарочно подставляя под брызги белое нежное лицо, она смотрела, как сильная струя столбом поднималась вверх, разворачивалась пышным плюмажем и осыпалась, образуя сверкающую водяную завесу.
– Зинаида Людвиговна! – Коссович поклонился с грацией, довольно удивительной для его тяжеловесной фигуры. – Позвольте вам представить моего ученика, Аркадия Николаевича Нелюбова. Образцовый студент! Пани Савич,
– Пояснил он слегка опешившему от такой рекомендации Аркадию, – дочь Людвига Федоровича Савича, управляющего, которого я иногда консультирую. Помните, как-то упоминал? Прекрасное семейство!
Коссович вынул из жилетного кармана брегет, хлопнул крышкой и лукаво взглянул на Аркадия.
– Может, довольно на сегодня лекций?
Он сделал тростью неопределенно-прощальный жест и быстро зашагал по аллее. Зина с Аркадием остались вдвоем. Вскинув голову, девушка с любопытством наблюдала за неуклюжими стараниями столичного студента завязать разговор. Тот мялся, мучительно изобретая тему, беспрестанно одергивал и без того туго натянутый белый китель, сняв фуражку, взъерошил широкой ладонью густые волнистые волосы, снова надел и долго поправлял, выравнивая лакированный козырек. Наконец, он вынул из кожаных ножен охотничий нож с вороненой рукояткой в отчаянной попытке использовать оружие – гордость студентов Лесного института – как повод для беседы. Зиночка прикусила пухлую губку, чтобы не рассмеяться – еще порежется! – и сжалилась.
– А знаете, Аркадий Николаевич, что в парке есть смотровая площадка? Оттуда весь Гомель виден.
Они поднялись на третий ярус дворцовой башни. Не находись Аркадий в замешательстве, он бы оценил панораму, от которой при других, более спокойных обстоятельствах, захватывало дух. Над берегом нависал обрыв, весь покрытый садами; по нему карабкались вверх церкви и домики. Справа – белая громада собора во имя Петра и Павла. Слева – каштаны элегантного проспекта и Конный рынок, заваленный сеном, как поле после покоса, роскошные каменные дома и полуразвалившиеся хатки, парадные площади, скверы и тут же сырость и лужи с добродушными бурыми свиньями.
– Вон там, видите, – белая ручка потянулась вперед, открывая тонкое, детское запястье, – Миллионная улица. Здание с колоннами – это гимназия. Мне в ней еще год учиться. За ней – почта, казармы Абхазского полка, тюрьма. Кладбище, справа еврейское, а слева – христианское. Там город и кончается.
– А за городом речка Утя и местечко Носовичи, где мы изучаем флору и фауну, – завершил экскурс Аркадий и с его самого поразившей смелостью добавил: – Можно, я к вам буду приезжать вечерами после практики?
Золотая головка великодушно кивнула.
4
Река Бык
Из телеграммы генерал-губернатора Кишинева фон Раабена министру внутренних дел от 6 апреля 1903 года: «Погром начался разрушением всех еврейских лавок и квартир на Новом базаре и сопровождался грабежами. Далее беспорядок перешел в центральную часть города, где камнями выбиты многие окна, включительно до третьих этажей».
Толпа затопила сначала рынок и окраины, сплошь заселенные евреями, малосостоятельным людом и чернорабочими, затем расширилась и захватила весь город. Казалось, это туча саранчи снялась с места, и грозно гудя, кружит по обомлевшему Кишиневу, не находя пристанища и оставляя за собой обглоданные руины.
Впереди по горячим пыльным улицам бежали подростки и били стекла. Громилы, вооруженные ломами и дубинами, вырывали рамы и по битому стеклу лезли в лавки и питейные заведения, бесцеремонно хватая товары; ломились в дома. Зеваки охотно присоединялись к грабежу и хватали все, что хулиганы выкидывали из окон.
Глядя из-за ограды, укрывающей домик с палисадом, Михаил Людвигович с ужасом узнавал среди бесчинствующих погромщиков знакомые лица: чиновников, студентов, мещан, – словом, тех, кого в Кишиневе считали представителями высшего общества.
Из дома напротив выскочила тетка в расстегнутом халате. В ее руке трясся уполовник с манной кашей. Зачерпнув ладонью жидкое варево, она начертила на воротах огромный белый крест.
– Варфоломеевская ночь! – ахнул Михаил.
– Миша, прошу тебя, зайди в дом! – закричала из окна Женя. Она пыталась закрыть изнутри ставню, та не поддавалась неловким рукам молодой женщины. – Надо запереть двери на засов!
Магазин Фельдштейна, где Женя купила шкатулку, теперь представлял собой голый остов. Через зияющие окна и провал двери с выломанным косяком видны были ободранные стены и загаженный пол, – не спасло, что стоял прямо против окон второго полицейского участка.
За калиткой послышался не стук даже, а робкое царапанье.
– Не открывай, Миша, – взмолилась Евгения Трофимовна.
– Не бойся, Женечка, погромщики так не стучат, – он приоткрыл калитку, и во двор рухнула скрюченная фигура Эфроима Цимбала, чья лавчонка ютилась в подвале соседнего дома. Благообразного и степенного торговца жестяным товаром узнать было невозможно: косо насунутая кацавейка облеплена пухом, и обычно-то сморщенное лицо с жиденькой бороденкой от страха сжалось, как сухое яблоко.
– Господин учитель, простите великодушно, боюсь в лавке оставаться. Вот-вот нагрянут! – затравленно озираясь, пробормотал еврей.
– Успокойтесь, Цимбал, – решительно сказал Михаил Людвигович. Он старался не глядеть на жену, которая стояла на пороге дома, закрыв ладонью дрожащий подбородок. Быстрыми шагами Михаил пересек двор, остановившись у водостока, снял крышку с огромной бочки и махнул рукой жестянщику:
– Залезайте! Здесь вас никто не найдет!
Только на следующий день, в половине пятого пополудни, исполняющий должность начальника Кишиневского военного гарнизона генерал-лейтенант Беман получил от губернатора письменное отношение за номером 3726 с распоряжением о прекращении беспорядков. Применять военную силу не пришлось: как только на улицы вышли вооруженные патрули, погромщики мгновенно исчезли из центра города.
Пух и перья кружили в теплом весеннем воздухе и садились на деревья, как снег. Михаил Людвигович брел по Пушкинской, переступая через баррикады сломанной мебели, осколки зеркал, изуродованные самовары и лампы, клочья белья. В бурой луже, – то ли выпущенное вино, то ли кровь, обломки кирпичей, известка, плавали обрывки бумаги.
Как жить дальше в этом городе? Как подавать руку соседям, встречаться на бульварах и болтать в театральных антрактах с теми, кого он своими глазами видел в этой безобразной, потерявшей человеческий облик толпе? Какая поразительная вялость власти, а главное, легкость, с которой слетела с обычных горожан христианская мораль!
«Проклятый город Кишинев»…
Материалы назначенного расследования свидетельствовали: «По собранным по участкам сведениям, более или менее повреждено 639 домов, в 296 выбиты стекла. Кроме того, повреждены 93 магазина, 318 лавок и 45 питейных заведений, а стекла выбиты в 116 лавках. Таким образом, всех поврежденных помещений 1507. Всех раненых 526. Убитых всего найдено 32. Кроме того, в больницах умерло 11 человек из раненых».
Убитых похоронили, закрыв черными покрывалами. Возобновили торговлю магазины и лавочки. Заколотили досками дверные проемы, вставили стекла. Губернатора фон Раабена отстранили от должности; торжественно встретили нового, князя Сергея Дмитриевича Урусова, слывшего либералом. Он ходил по городу без охраны, знакомился с местными жителями, посещал учебные заведения. Побывал, к восторгу гимназисток, и в Первой женской.
Душно пахла акация. Сидя в послеобеденный час у раскрытых окон, распаренные обывательницы с ленивым любопытством провожали глазами редкую фигуру прохожего, ели дульчецы и запивали холодной водой.
Век-волкодав показал зубы.
Михаил Людвигович подал рапорт в Министерство образования с просьбой перевести его из Кишинева в иную местность по личным причинам.
В начале августа поступило официальное письменное подтверждение: перемещен в город Бердянск Таврической губернии, преподавателем словесности и древних языков в мужской гимназии.
«Маленький порт и курорт у Азовского моря, – писал о Бердянске мемуарист, проведший здесь детские годы. – Днем – солнце, много солнца. Вечером – ласкающая теплынь. Кругом – сады».
Не скупилась на похвальные слова и газета «Крым»: «Жизнь в Бердянске значительно дешевле, чем на всех других курортах. Сам город, расположенный на берегу моря и утопающий в зелени, с образцовой распланировкой, хорошими мостовыми и тротуарами, производит чарующее впечатление. В центре города – роскошный сквер, где ежедневно играет оркестр военной музыки; два театра, два клуба; часто устраиваются танцевальные вечера, концерты и спектакли. На море роскошное катанье на лодках».
5
Река Большой Кемчук
За Уралом мелькнул серый каменный обелиск, поставленный у полотна дороги – граница Европы и Азии. Стоя часами у дрожащего окна, Зиночка смотрела, как тянутся мимо поезда бесконечные леса, изредка прерываемые темными деревеньками и редкими станциями. Челябинск, Томск, Красноярск. В Ачинске пересадка. Поезд, набрав скорость, умчался назад, в Петербург, в так и не случившуюся нарядную столичную жизнь. Аркадий грузил саквояжи и картонки со шляпами, хлопотал, боком пробираясь по узкому коридору, нес кулек станционных пирожков, выпирающих сквозь промасленную бумагу, шумно объяснялся с проводниками, заказывал чай, а Зиночка куталась в мех и никак не решалась переступить порог купе, словно именно это был последний шаг, отрывающий ее от юных надежд. Сыпля искрами, маленький паровозик дотащил их до станции Покровка. В станционной гостинице, как, со смелым допущением, можно было назвать большую нечистую избу, смыли угольную пыль. До места назначения им предстояло добираться по Сибирскому тракту на санях. «Как декабристка», – подумала про себя Зиночка, но вслух не произнесла ни слова. Не только мужу, себе не признавалась она, что совсем не так представляла свое свадебное путешествие.
Проехав пятнадцать верст по накатанной дороге, они остановились. Аркадий выпрыгнул из саней и подошел к замерзшей реке. На другом берегу, высоком, обледенелом, лежало село, где им предстояло начинать самостоятельную жизнь.
– Ты знаешь, Зиночка, – закричал Аркадий жене, – говорят, летом от берега до берега здесь бывает сажен пятьдесят. Можно плавать на лодках и даже небольших судах. Но лед сойдет только в мае.
Зиночка уткнула нос в муфточку, чтобы приглушить всхлип.
Приехав в октябре 1903 года в Петербург, Зина столкнулась с обстоятельством, о котором до сих пор не подозревала. Отец ее жениха, Николай Алексеевич Нелюбов, статский советник, заведующий Математическим отделением Первого Российского общества страхования, пребывал с сыном в натянутых отношениях. С детства он определил младшего отпрыска в неудачники. Не оправдывал Аркадий родительских надежд: не давалась ему математика. Словно наперекор отцу, тянуло мальчика к естественным наукам. Вечерами, спрятавшись со свечкой от взрослых, он поглощал Брема, летом собирал гербарии и накалывал булавочками бабочек-капустниц, которых ловил желтым марлевым сачком в отцовском парке, – вместо того, чтобы решать задачки. Бестолочь, – посчитал отец и принял суровые меры.
Приют принца Ольденбургского был основан «почившим в Бозе принцем Петром Григорьевичем с целью воспитания и образования детей обоего пола, преимущественно – сирот». У многих воспитанников приюта, однако, были родители: «дворяне, чиновники и даже принадлежащие к высшему кругу общества, которые отправляют в Приют своих детей единственно потому, что последние, вследствие дурного надзора, воспитания и других неблагоприятных условий, вышли неудачниками». Однако даже опытные преподаватели почтенного учебного заведения интерес к математике у мальчика пробудить не смогли. Аркадий поступил в Лесной институт. Отец отказал в поддержке. Упорство у обоих Нелюбовых было закоренелое, наследственное.
Все годы учебы Аркадий прожил в общежитии, хотя, по институтским правилам, студентам «министр Государственных имуществ дозволяет жить у родственников».
Брачным выбором сына Николай Алексеевич тоже оказался весьма недоволен: прочил ему иную жену, не гомельскую мещанку. Заявление о неимении препятствий к вступлению Аркадия Нелюбова в брак подписал, не поднимая на сына глаз. Появившись в церкви на венчание, Нелюбов-старший постоял у входа, и, не представившись новым родственникам, уехал. Свадьбу, довольно скромную, своим присутствием не почтил.
От села Большой Кемчук Ачинского округа Енисейской губернии, куда Аркадия назначили помощником лесничего, до участковой лечебницы – 70 верст. До волостного правления – 54 версты.
Вечерами Аркадий сидел за подготовкой «рассуждения». Научную работу необходимо было представить для получения звания перворазрядного лесовода, с которым можно претендовать на перевод в теплые края. Нелюбова как раз ничего из Енисейской губернии не гнало, но не мог он не видеть, что Зиночкиного великодушия надолго не хватит. Ее натянутый тон только беременностью не объяснить, да, по правде говоря, мыслимо ли красавицу с белым лбом шляхтенки запереть в Богом забытом сибирском селе?
Из подготовительных записей А. Н. Нелюбова к рассуждению «Материалы по изучению климата и природы Ачинского округа в долине реки Кемчук Большой».
Общая часть.
Округ занимает срединное положение внутри Сибири. Значительная часть района не освоена человеком и занята лесами. Полезных ископаемых до сих пор не найдено, только в долинах вытекающих из Большого Кемчука речек обнаруживаются признаки золота.
Главные и второстепенные древесные породы.
На равнине – пихта с примесью ели, кедра и лиственницы.
На холмах – примесь сосны.
В горной тайге – то же самое, но чаще встречается кедр. Иногда – чистые кедровые насаждения.
Лиственные леса – осина и береза с примесью ольхи и ивы.
В подлеске находим рябину и черемуху; из кустарников – черную и красную смородину, таволгу, жимолость, боярышник, шиповник. Много клюквы, малины, земляники, брусники, черники и костяники.
Фенологический дневник (март 1903 – июль 1904 года).
Проталины на склонах гор, обращенных к югу, – 9 марта.
Прилет галок – 11 марта.
Прилет скворцов – 19 марта.
Первый дождь – 19 марта.
Затоковали тетерева – 20 марта.
Прилет гусей, журавлей и чаек – 13 апреля.
Зацвели подснежники – 20 апреля.
Заквакали лягушки – 26 апреля.
Зацвела верба на низменных местах, зазеленели береза и лиственница – 27 апреля.
Зацвела береза – 29 апреля.
Зацвели лютики – 30 апреля.
Вскрылся Большой Кемчук – 2 мая.
Закуковала кукушка – 10 мая.
Затоковали бекасы – 11 мая.
Зазеленела черемуха – 12 мая.
Поспела малина – 15 июля.
Поспела земляника – 20 июля».
Осторожно прикрыв за собой дверь – чтобы не скрипнула, Аркадий на цыпочках зашел в комнату. Следя расчетливо за движением своих крупных, неуклюжих рук, он опустил на стол лукошко со спелыми ягодами. Главное, не обеспокоить Зиночку, которая забылась в кресле, склонив золотую головку к плечу и не отнимая руки с края деревянной люльки. Малыш тоже спал, выпростав на одеяльце крепкие широкие ладошки.
6
«Личное дело студента Политехнического института Александра Савича за 1902–1903 годы». В начале второго семестра он подает прошение об освобождении от платы за обучение.
«Мой отец служит на частной службе и получает 40 рублей жалованья. При нем живет дочь. Кроме того, он вынужден помогать другим членам семьи. За первый семестр, как и за пользование общежитием, я платил из денег, заработанных уроками еще во время моего учения в гимназии. Отец мне совершенно не может выслать денег».
Ходатайство удовлетворено не было.
Тогда последовало прошение иного рода: об отчислении из Политехнического. Его украшает разрешающая резолюция и подпись директора института князя Гагарина.
Прошение о выдаче удостоверения о благонадежности для поступления в императорский Университет было получено. К «Личному делу» приобщен лекционный билет университета, который одновременно служил и пропуском в университет, и зачеткой.
О форме Александр мог не заботиться. Формально она была, как водится, высочайше утверждена, даже двух видов. Парадная: мундир с золотым шитьем, треуголкой и шпагой. Повседневная: тужурка черного цвета с синим кантом и петлицами, пуговицы золотые с двуглавым орлом. Однако ношение форменной одежды в университете (в отличие от Политехнического или Лесного института) не считалось обязательным. Так что вполне можно было всего лишь спороть со старой политехнической формы «вензелевые изображения начальных букв Министерства финансов» и нашить синий кант. Петербургский университет той поры был заведением довольно либеральным.
7
Азовское море
Отзвуки Русско-японской войны докатывались до Бердянска не только с газетных страниц: по Азовскому морю, согласно «Временным правилам по охранению некоторых
Российских портов в военное время», стал курсировать крейсер.
Бердянцы по вечерам специально выходили на набережную посмотреть.
Первенца окрестили Борисом. Михаил Людвигович, поспешив поделиться радостью с родными, отправил семь телеграмм: в Нежин, в Гомель, в Глухов, в село Большой Кемчук, в Екатеринослав, в Вильно и в Петербург.
Шкатулка, оставшаяся у Евгении Трофимовны, как печальная память о Кишиневском погроме, наполнялась письмами.
Григорий извещал, что вплоть до окончания войны приказом Военного министра все отпуска отменены, так что навестить сестру и посмотреть на племянника пока не удастся. С военной точностью сообщал, что получил капитанские погоны и назначен начальником школы прапорщиков.
Лариса Владимировна подробно и с удовольствием расписывала, как с товарками по Дамскому комитету устраивала благотворительный музыкально-вокально-литературный вечер в Глуховском общественном собрании в пользу русских воинов на Дальнем Востоке. Владимир помог получить разрешение на собрание, перевезти рояль из местного театра, стулья. Успех полный! Стульев, кстати, не хватило. Боренька вместе с другими мальчиками читал патриотические стишки. Всего прихода в пользу воинов за вычетом расходов на чай и лимонад для детей поступило 304 руб. 71 коп.
Зинино послание по унылости напоминало научные отчеты ее мужа. Климат тяжелый, неустойчивый. Лето дождливое, нежаркое, короткое. Средняя температура с конца мая по октябрь 15,8 градуса по Цельсию. Для Николки нехорошо, то и дело простужается. Аркадий куксится, «Рассуждение» свое совсем забросил.
– Это кто же из них куксится? – думала Евгения Трофимовна, укладывая письмо в шкатулку.
Телеграммы редко приносят добрые вести. Михаил Людвигович принял у курьера пакет с пометкой «срочно» и нехотя вскрыл. Так и есть. Флор Иванович Долинский 54-х лет от роду скоропостижно скончался. Александра Людвиговна осталась одна с двумя детьми: шестилетним Женей и двухлетним Сашей. Пенсия по утере кормильца скромная, хотя и вышел Флор Иванович в отставку подполковником, получив орден Святого Владимира 4-ой степени с бантом за 25 лет выслуги.
– Как я вовремя дополнительные уроки взял, – заметил Михаил Людвигович. – Сестре без помощи детей не поднять.
8
– Газеты стало страшно в руки брать! Кругом беспорядки! – Евгения Трофимовна беспокоилась за братьев, чьи полки были разбросаны по всей стране. – Володя, пожалуй, в самом безопасном месте, в своем глухом Глухове, и то, – чем черт не шутит…
…А черт уже начал шутить вовсю.
О том, как события, вошедшие в историю под названием «Первой русской революции», затронули уездный городишко, оставил свидетельство Петр Ягудин, член социал-демократической организации «Искра». Осев в Глухове в начале 1905 года, он решил «всецело отдаться организационной работе». Ягудин устроился в столярную мастерскую Крикунова и первым делом «организовал своих товарищей-столяров. Оформился маленький кружок, и мы стали заниматься чтением брошюр революционного характера. Работа шла дружно, успешно, и в марте мы объявили забастовку у моего хозяина Крикунова». Столяры требовали уменьшения рабочего дня (он доходил до 16 часов) и увеличения заработной платы, которая «для среднего подмастерья-столяра равнялась всего 6 руб. в месяц на хозяйских харчах».
Хозяин был тверд и не уступал. Вечером члены кружка, намотав на кирпичи бумажки с требованиями, по команде бросили их во все окна Крикунова. Попало и в висячие лампы, и в людей. «Звон разбитых стекол, – пишет Ягудин в воспоминаниях «На Черниговщине», – вызвал в доме панику, истерики женщин и крики детей. Явилась полиция, но никто не был схвачен. Улик никаких против нас не было, ибо мы писали, как в прокламациях, печатными буквами».
Улики, видимо, все-таки обнаружились. На третий день забастовки Ягудин прогуливался с двумя приятелями-единомышленниками в скверике в центре города. «Вдруг из боковых калиток сквера появляются полицейский надзиратель и городовой, берут меня под руки и говорят, что я арестован, и ведут меня в полицию, а моих спутников даже не тронули, до того неопытна была тогдашняя полиция. Для них я был первым нарушителем их политического покоя».
С Ягудина взяли подписку о выезде из города в 12-часовой срок и отпустили – к несказанному его удивлению: «Я был уверен, что меня станут хотя бы обыскивать. Но они были в этом деле неопытны, – повторяет мемуарист, – и не знали, видимо, с чего начать».
Не исключено, что полицейским надзирателем, с которым пришлось столкнуться в Глухове Петру Ягудину, был Владимир Трофимович Магдебург. Кроме него, полицейских чинов в городе было еще двое: Иосиф Константинович Рыбальский-Бутевич и Николай Николаевич Кульшов. Добавим к этому, что именно Магдебургу объявлена была 28 марта 1905 года «благодарность губернского начальства за энергию и распорядительность с занесением в формулярный список».
В Нежине взорвали полицейский участок, а черносотенцы разгромили еврейскую больницу.
«Даже в безбородковском институте, в таком, казалось бы, солидном учреждении, и то, – писала дочери Мария Александровна, – совсем учебу бросили и бастуют».
«В Гомеле неспокойно, – сообщал Людвиг Федорович, – 14 октября было совершено покушение на полицмейстера Чешко, 29 октября – на полицейского исправника Еленского и пристава Каменского, да еще какие-то злоумышленники разграбили ночью усыпальницу в парке князя Паскевича, но тут, очевидно, политической подоплеки нет – унесли иконы с драгоценными окладами, украшенными бриллиантами».
9
Паровоз замедлял ход. На подножке, крепко держась за поручень, стоял Саша Савич и отчаянно махал рукой. Белый чесучовый костюм, длиннополый пиджак «пальмерстон», шевровые туфли, щегольской галстук «на машинке», чтобы самому узел не завязывать, – франт! Не дожидаясь остановки, он спрыгнул на перрон. Быстро скинул саквояжи и, чуть склонившись, протянул руку молодой даме. Милое, улыбающееся лицо с ямочками, белые пальчики придерживают широкую шляпу с фиалками, пышный буф и нежные кружева на воротнике-стоечке.
– Позвольте представить, – радостно закричал Саша, – Александра Николаевна Савич.
– Шурочка! Дорогая, – засмеявшись, Михаил с Женей кинулись обнимать Александра и молодую невестку, которую любили и знали еще по Гомелю.
10
Река Сожа
Семейство Пржевалинских было многочисленным и шумным. Молодые Савичи подружились с детьми генерала – друга и соседа Людвига Федоровича – еще гимназистами. Зиночка с Шурочкой, забравшись с ногами в гамак, секретничали, ели вишни и зачитывались модными романами. Братья Пржевалинские, Костя с Колей, как и Миша с Сашей, слетались на летние каникулы в родовое гомельское гнездо. Всей компанией купались в Соже, гуляли по Румянцевскому бульвару, стреляли в тире, пили сельтерскую. В жаркие дни обедали на веранде усадьбы Пржевалинских, а вечерами в саду у Савичей пили чай с пирогами, которые изумительно пекла Варвара Александровна. Генерал, страстный любитель лошадей, держал конюшню. Шурочке он подарил дамское седло, а младшей дочери Верочке – пони. Костя Пржевалинский, юнкер-кавалерист, демонстрировал барышням чудеса выездки. Нарядившись в белорусские рубахи и картузы, ездили на деревенских телегах косить, и были так молоды, что и не уставали от этого нисколько; пили холодное молоко из бидонов, играли в чехарду, а вернувшись в усадьбу, танцевали и пели любимые Мишины малороссийские песни. Шурочка подбирала мелодию на рояле, а Саша Савич переворачивал ноты.
– Помнишь, Шурочка?
– Конечно, Сашенька.
11
Азовское море
Столик в «Бристоле» с видом на лиман заказали заранее. Легкий бриз с моря смягчает жару, официанты с салфетками через локоть расставляют дышащую паром стерлядь, в серебряных икорницах отливает перламутром черная каспийская икра.
– Расскажи, Саша, как жилось тебе в столице? Надо думать, икрой осетровой не питался?
– Случалось и икрой. А было это так. Перебивался я в Петербурге, как многие студенты, репетиторством. Иногда по три урока в день добыть случалось. Но концы с концами все равно не сводились. Не как у Раскольникова, конечно, а как, скажем, у Разумихина. Пальтецо дрянное, как говорится, на рыбьем меху. Бежишь иногда по Фонтанке какого-нибудь олуха репетировать, нос в воротник спрятал, картуз на уши натянул, а у Аничкого моста – живорыбный садок. Да вы, пожалуй, и не знаете, что это такое. Чисто петербургское явление: большая деревянная баржа с надстройками, а в них торговые помещения, складские и жилые, для приказчиков и рабочих. Стоят такие баржи и зимой, и летом всегда на одном месте, на приколе. Из кирпичной трубы валит дым. По сходням спускаешься в торговый зал. У входа застыли, как колонны, две замороженные белуги, аршина в два, а то и больше. В центре зала расставлены чаны с живой рыбой, а вокруг них на рогожах лежит навалом мороженая. В бочонках – икра всевозможных сортов. Подходишь к приказчику, подаешь ему кусок булки, просишь мазнуть паюсной – на пробу. Нет, солоновата. А если зернистой? Эта горьковата. Попробуем ястычной. Нет, уважаемый, сегодня брать не будем. Вот так и обедали. Вкусно и сытно.
– Помнишь, Шурочка?
– Конечно, Сашенька!
Александр подвинул поближе икорницу, щедро намазал булку черным блестящим перламутром и продолжил:
– В хорошие времена снимал на пару с приятелем конурку с пансионом: завтрак, обед, вечером – чай. Но тут уж дешевле, чем в двадцать рублей, не обойтись. По большей части обитал в общежитии. Кипяток – сколько влезет, булочник заходит с дешевым товаром, колбасник. Ну, университетская столовая, конечно, выручала. Обед без мяса – восемь копеек, с мясом – двенадцать. Стакан чаю – копейка, бутылка пива – девять копеек.
– К чему в студенческой столовой пиво? – удивился Михаил Савич.
– Так уж повелось, – ответил Александр. – Петербургский университет – вольница, не то, что гимназия или твой Нежинский бастион. Некоторые любители дешевого пива проводили в столовой больше времени, чем на лекциях.
– Но не ты?
– Но не я.
«СВИДЕТЕЛЬСТВО. Предъявитель сего Александр Людвигович Савич принят был в число студентов Императорского Санкт-Петербургского Университета в августе 1903 г. и зачислен на Историко-Филологический Факультет, на котором слушал курсы: по Греческому и Латинскому языкам, Греческой и Римской истории, Философии, Сравнительному Языковедению, Санскритскому языку, Русскому языку и Словесности, Славянской Философии, Истории Западно-Европейских Литератур, Всеобщей истории, Средней и Новой Русской истории, участвовал в установленных учебным планом практических занятиях, подвергался испытанию из Французского языка и, по выполнении всех условий, требуемых правилами о зачете полугодий, имеет восемь зачтенных полугодий».
Дамы пили кофе маленькими глотками, перекатывая, как гладкие морские камешки, семейные новости. Братья поднялись из-за стола и вышли на балкон. Вечерело.
– Я не только приискал, – перешел к главной теме Александр, – но и получил место в коммерческом училище Глаголевой. Первое, кстати, в России учебное заведение, где совместно обучаются мальчики и девочки.
– Еще неизвестно, хорошо ли это, – с сомнением обронил Михаил.
– Вот и ретрограды из Министерства народного просвещения сомневаются. Сопротивляются свежим веяниям. Потому-то и возникают коммерческие училища.
– В ваших коммерческих училищах даже древних языков не преподают!
– А зачем они нужны современному человеку?
– Дисциплинируют ум и развивают память. Латынь лежит в основе всех европейских языков. Жаль, что ты этого не понимаешь.
– Ладно, сдаюсь, – прервал его младший брат.
Он задумчиво поглядел на чистенькую набережную, на неправдоподобно голубое море, на теплую дорожку, которая бежала от предзакатного солнца прямо к их балкону, и нерешительно сказал:
– Послушай, Миша, может, и тебе подумать о переезде в столицу? Здесь, конечно, место райское, но представляю, какой у вас в гимназии все рутиной поросло! Ну, ну, не сердись, – он замахал руками, заметив, что брат нахмурился. – Я только хотел сказать, что в Петербурге сейчас такой взлет педагогической мысли! Я тебе брошюрку про наше училище привез. Посмотри на досуге, вдруг заинтересуешься.
12
Растревожив рассказами о столичной жизни семейство старшего брата, Александр Савич с молодой женой отбыли в Петербург. Словно специально им на смену, в Бердянск приехали Нелюбовы.
Сестру Михаил Людвигович не видел со своей свадьбы, но по письмам ее давно чуял неладное, и потому невеселый Зиночкин рассказ не удивил его, а только опечалил.
– Не складывается, Миша, у меня жизнь. Про Кемчук этот даже вспоминать не хочется. Думала, переедем в Бессарабию, оттаем, и что-то между нами по-другому сложится.
– Вот вы где! – из-за дюн появился Аркадий, ведя за руку маленького Николку, чье румяное личико было до смешного похоже на отцовское, да так, что невозможно было понять, то ли мальчик кажется излишне взрослым, то ли излишне по-детски выглядит добродушное лицо отца.
– Как, Аркадий, на новом месте служится? Как Кишинев? Я сбежал оттуда после погрома, – спросил зятя Михаил Людвигович.
– Мы не в столице живем, а в Бельцах, – Аркадий нехотя выпустил живую, как рыбка, детскую ручку. – Я очень рад, что мы выбрались из Сибири. Зиночке там уж очень надоело. Хотя, признаюсь, устроить все это было непросто. Помог профессор Коссович. Я написал ему и, представь себе, он сразу же откликнулся. Оказывается, его брат служит начальником Управления имениями заграничных духовных установлений Бессарабской губернии. Владения обширные, почти двести тысяч десятин, много лесов. Им, на мою удачу, понадобился ученый лесовод. Вот так мы и оказались в Бельцах.
Нелюбов оживился. Нелюдимость, которая расстроила Михаила при первой встрече, куда-то исчезла. Он присел на скамейку рядом с женой, грузноватый для своих лет, и оперся широкими ладонями о колени:
– Льстит, конечно, и возможность работать с самим профессором. Когда Коссович приезжал в Бельцы, меня откомандировали к нему в экспедицию. Проехали всю Бессарабию в тарантасе.
Аркадий быстро и горячо рассказывал о морфологии почв, о рельефе, об обильном урожае фруктов, который случился в этом году в Бессарабии. В особо, как ему казалось, интересных местах он наклонялся и заглядывал собеседнику в лицо, словно ища одобрения. Зинаида чертила зонтиком какие-то линии на влажном песке, и всем, кроме ее мужа, было очевидно, как противна вся эта морфология молодой красивой женщине с темно-золотой короной на нежно-белым лбом.
13
27 января 1906 года у Евгении Трофимовны и Михаила Людвиговича Савича родилась дочь Тамара.
Последние месяцы беременности Шурочка переносила тяжело и просилась к маме, в Гомель. Да и Саше казалось спокойнее и надежнее, чтобы первые роды жена перенесла в родном гнезде.
Однако в любимом Гомеле Шурочка долго не засиделась. В Петербурге в кругу Сашиных друзей-педагогов она прониклась новыми идеями об образовании. Владимир Александрович Герд и его жена Юлия, с которой Шурочка особенно сошлась, часто и горячо критиковали реакционеров из Министерства просвещения, обсуждали передовые рабоче-вечерние школы, перспективы совместного обучения.
– Необходимо заставить мальчиков, а позднее взрослых молодых людей уважать девочек, как равных, а в девочках пробудить общечеловеческие интересы, – доказывал Владимир Александрович, сидя в небольшой квартирке Савичей на Васильевском острове. Юлия Герд, которая сама закончила Бестужевские женские курсы и вместе с мужем преподавала русский и историю в гимназии Стоюниной, увлекла подругу своим примером и даже проводила ее, когда та, уже ожидавшая ребенка, отправилась подавать документы в группу русской истории.
Однако к началу учебного года Александра Николаевна не попала: и оставить маленького Игорька на попечение мамы побоялась, и везти малыша в промозглый Петербург не рискнула. К следующему году она решилась. Устроив мужа и сына в теплом Гомеле, Шурочка поехала в Петербург получать образование.
«Дорогой Сашенька, не беспокойся, что не написала. Два дня бегала, искала комнату. Сняла без мебели на Вас. Остр.
Сейчас бегу в склад за вещами. Хоть бы глазочком взглянуть на тебя. Крепенько целую».
«Сейчас вернулась с экзамена, наконец, решилась пойти, получила «весьма». Завтра же засаживаюсь за другой. Скорей бы Рождество! Крепко всех целую. Мамочка».
Стопка открыток с виньетками, пасторальными младенцами и нравоучительными надписями.
Белокурый ангелочек строит из кубиков башенку: «Наш Мирошка строит себе понемножку, живет в добре, ест на серебре». Мальчишка в кепи поднимается на воздушном шаре: «Смелость города берет». Малыш в княжеской шапочке гусиным пером выводит буковки: «Хоть не складно, да ладно! Пиши, знай, кому надо разберут!». «Открытые письма» летели в Гомель Могилевской губернии из Санкт-Петербурга, из Гомеля в Санкт-Петербург. Игорь Савич, Горюнька, как называла его мама, еще неграмотный адресат этих посланий, сбережет открытки все до одной, и его правнуки будут перечитывать, с трудом разбирая полустертые строчки:
«Горюньке Савичу. Мамочка скоро, скоро приедет. Попроси папочку взять тебя на вокзал. Крепенько целую. Твоя мамочка. Осталось 2 дня 15 часов». Проведя лето в Гомеле, молодая семья возвратилась в Петербург.
14
Путешествие с маленькими детьми – дело нелегкое. К тому моменту, когда Михаил Людвигович принял решение переселяться в столицу и со всеми, что называется, чадами и домочадцами двинулся с места, Бореньке исполнилось семь лет, а Томочке не было и трех. Горшки, пеленки, угольная сажа, которая налетает детям в глаза, книжки с картинками, пролитый чай, капризы, – в общем, Евгения Трофимовна совсем запыхалась. С заметным облегчением смотрела она, прильнув к окну в узком вагонном коридоре, как близятся башенки Николаевского вокзала и медленно наплывает перрон.
– Миша, смотри! – воскликнула она. Раздвигая толпу встречающих с ловкостью столичного жителя и зорко высматривая нужный вагон, навстречу бердянскому поезду спешил ее брат. Павел всегда больше других сыновей Трофима Васильевича был похож на отца. До боли узнаваемы были в нем наследственные черты: и в голубоглазом бледном лице с густыми усами, и в кряжистой фигуре с широкими плечами, на которых сверкали золотые эполеты.
– Специально ведь пришел встречать в парадном мундире, – улыбнулась про себя сестра, – чтобы никто не упустил из виду, что он раньше старших братьев произведен в полковники.
– На первых порах расквартируем вас на даче, – определил Павел Трофимович. – Летом Лора с детьми живут в Саблино постоянно, а я приезжаю туда только на выходные.
Дача Магдебургов располагалась на берегу реки Тосно. Старый парк графа Кейзерлинга и шумный водопад служили для всего семейства местом для прогулок. Старшие дети дружно исследовали пещеры – главную достопримечательность парка, а младших Евгения Трофимовна и Лора, которые сдружились так же быстро, как их сыновья, степенно катали по прохладным аллеям. По воскресеньям, когда из города приезжали Павел и Михаил, купались в речке, а вечерами смотрели в Саблинском летнем театре модные пьесы.
К осени Михаил Людвигович подыскал подходящее жилье. Квартира уютная и недорогая, а главное – в двух шагах от училища: Петроградская сторона, Гатчинская улица, дом 27/29, квартира 38.
К этому времени вернулся из Гомеля Александр, и оба брата стали работать вместе в частной гимназии Штемберга. Александр Савич нисколько не преувеличивал, когда рассказывал еще в Бердянске старшему брату о расцвете педагогических наук. Интерес и внимание к образованию в стране, и особенно в столице, были так велики, что все новшества и изменения, происходящие в педагогике, широко обсуждались и находили немедленно отражение на страницах газет.
Газета «Петербургский листок» посвятила специальную корреспонденцию заграничной экскурсии гимназии Штемберга: «Пять недель путешествия по Западной Европе, видимо, нисколько не утомили молодежь, которая вернулась на родину бодрой и жизнерадостной.
Роскошная панорама всего виденного должна оставить неизгладимый след в душе каждого. Пребывание в Берлине, Рейнский водопад, бирюзовые озера Швейцарии, величественный Сен-Готтард, так много говорящий русской народной гордости, Милан, Флоренция, всемирная выставка искусства в Риме, дивное путешествие по Адриатическому морю в Черногорию, теплый, дружественный прием в ее столице, городе Цетинье…»
В Черногории Михаилу Людвиговичу Савичу вручили орден Независимости: «30.06.1911. Его Величеством Королем Черногорским пожалован орденом Князя Даниила Первого». Номер – 1426. Надпись на наградном листе: «Божией милостью Мы, Никола Первый, Король и Государь Черногории. Господину Михаилу Савичу, преп. гимназии и надвор. советнику. За особые услуги черногорскому народу и Нам нашли Мы возможным наградить Вас Орденом четвертой степени князя Данила I, учрежденным в честь независимости Черногории». Подпись министра иностранных дел.
…Осталось загадкой и для правнуков, и для исследователей, какие события повлекли за собой награждение королевским орденом. Кроме документов до нас донеслось эхо события – награда была предметом особенной семейной гордости, она лежала в бархатной коробочке, ее показывали друзьям. Орден изымут во время обыска в 1935 году…
Темой для репортажа в «Петербургском листке» 28 ноября 1911 года становится благотворительный бал в гимназии Штемберга, устроенный в пользу недостаточных учеников: «Концертное отделение было недолгим, и уже в начале двенадцатого раздались звуки вальса. Пустились в пляс даже малыши первых классов с дамами соответствующего возраста и, отважно ныряя в толпу, ежеминутно рискуя быть задавленными, выплывали где-нибудь на другом конце залы мокрые, растрепанные, красные от натуги, но довольные и собою, и своими дамами.
В устроенных для сувениров и цветов киосках любезно торговали княгиня Кутнина (открытый туалет цвета морской волны), m-me Петриченко (в роскошном бальном туалете), m-lle Захарова (розовый бальный туалет) и m-me Рудовская (бальный белый туалет).
Среди присутствующих: директор Г.К. Штемберг с супругой (черный туалет), генерал-майор Петриченко с супругой (черный туалет) и дочерью (светло-голубой бальный туалет), г. Шустров с супругой (светлый бальный туалет), г. Смирнов с супругой (роскошный бальный туалет), г. Пеппке с супругой (розовый туалет), г. Комаровский с супругой (синий бархатный туалет), m-lle Васильева (роскошный серый туалет, отделанный кружевами и золотыми кисточками), преподаватель словесности и латинского языка Михаил Савич…»
О туалете Михаила Людвиговича в заметке ничего не сказано, но как именно он был одет, нетрудно установить по «Инструкции для служащих по ведомству народного просвещения»: «Для лиц, занимающих должности VII класса, парадную и праздничную форму составляют: открытый двубортный застегнутый на четыре пуговицы темно-синий сюртук с отложным воротником, темно-синие брюки без галуна и цветного канта, белый жилет. Ордена и знаки отличия по положению. Ношение белого галстука при двубортном сюртуке не допускается ни в каком случае».
В 1912 году, – сообщают газетные объявления, – «гимназия и реальное училище Штемберга переехали в новый, специально выстроенный по проекту архитектора С. А. Данини, дом по адресу Звенигородская ул. № 10. Для наглядности преподавания здесь устроен школьный научный кинематограф».
Это было первое в России учебное заведение, которое ввело кинопоказы в программу классных занятий и открыло двери своего «синема» для учащихся других школ. Отбоя от желающих не было – ведь приказом попечителя учебного округа посещение гимназистами и реалистами коммерческих кинематографов было строго запрещено.
15
Столичный ритм захватывает Михаила Савича. Он работает в Коммерческом училище 4-го товарищества преподавателей, у Штемберга на Звенигородской, в Ларинской гимназии на 6-ой линии и в гимназии Е. И. Песковской на Среднем проспекте Васильевского острова.
В этом сером угловом доме между Средним проспектом и Шестой линией еще в 1780-х располагалась съестная лавка, а в середине XIX века – винный погреб. На рубеже XIX и XX столетий его сменили чайный магазин, сливочная лавка и магазин фруктов. С ними соседствовали колбасная, мясная, зеленая и мелочная лавки, суровский и белошвейный магазины, мастерская белья и магазин дамских шляп, посудная и свечная лавки. Весной 1943 года большая фугасная бомба разрушила центральную часть фасада. Столовая, которая работала во время блокады, существует и сегодня. Торговые помещения угловой части занимает кондитерский магазин «Белочка».
«Белочка» – это любимые мамины конфеты. Не надо ломать голову над тем, что подарить ей – смело иди и покупай коробку с быстроглазым зверьком на ветке, тем более что и ходить далеко не надо: мимо этого угла я каждый день шла от метро до Первой линии, в Университет и обратно. Окна столовой, куда мы часто забегали с однокурсниками, украшали витражи с петухами. Я приехала сфотографировать здание, куда мой прадед приходил каждый день, чтобы учить гимназистов русской словесности, и на вывеске «Пирогофф» над входом в кафе увидела красный гребешок. Мне упаковали в картонный пакет пирог с брусникой. Дойти до угла, купить коробку «Белочки» – теперь можно и в аэропорт…
Осенью 1913 года в черной тужурке, стянутой лакированным ремнем с блестящей пряжкой, на которой выбит номер гимназии (четверка), в синей фуражке с белым кантом и посеребренным гербом из скрещенных листьев лавра с той же цифрой посередине, отправился девятилетний Борис Савич в школу. За спиной – новенький сверкающий ранец. Потом-то, дело известное, будет носить его под мышкой: ремни оборвутся, кожа потреплется – ведь у гимназистов ранцы не только для книг и тетрадок, но и для катания по крутым ступеням лестницы. Уселся на ранец и с ветерком вниз, в шинельную!
16
– Поздравляю, Саша, – прямо с порога радостно закричал приятелю Владимир Герд, – педагогический совет одобрил твою кандидатуру! Гордись! В Выборгском училище случайных людей не бывает! По протекции тем более не возьмут. Не хуже, чем в царской охранке, изучали твои документы, хотя тебя сам Петр Андреевич Герман рекомендовал.
Наступал малоизвестный ныне период бурного учительского движения. Педагогические общества, учительские съезды, конференции преподавателей физики и химии – то, что сейчас кажется рутинным и очевидным, в те годы было наполнено реальным поиском новых форм.
«Образование в том виде, в каком оно предусмотрено Министерством народного просвещения, не отвечает потребностям модернизации общества», – признавал министр финансов С. Ю. Витте. Университетская профессура осознавала потребность в средней школе нового типа, которая могла бы готовить учеников для поступления в высшую. Требовалось преодолеть многоступенчатость школы, дать ей автономность и самоуправление, ввести совместное обучение, усилить преподавание естественных и точных наук.
Выборгское коммерческое училище, совет которого утвердил кандидатуру нового преподавателя Александра Савича, было школой нового типа. Стать «коммерческим» решил сам педагогический коллектив, чтобы тем самым оказаться под началом Министерства торговли и промышленности, предоставляющего своим учебным заведениям больше свободы, чем «ретрограды от просвещения». Возглавил училище знаменитый педагог Петр Андреевич Герман.
Выпускником новой школы станет сын экономиста и политика Глеб Струве. Достигнув весьма почтенного возраста, он, знаменитый литературовед, профессор Калифорнийского университета, вспоминал: «Большую роль в моей жизни сыграла школа – в частности, в развитии литературных (а отчасти и художественных) интересов и увлечений. Моя мать была сторонницей всего «передового», потому и отдали меня в Выборгское коммерческое училище».
Никаких оценок: «Для воспитания в учащихся серьезности и сознательного отношения к занятиям формальные побуждения к учению – переводные экзамены и оценка успехов отметками – отменяются». Разумеется, внимание к мелочам: «Училище просит родителей снабдить детей по возможности удобной, легко снимающейся обувью, чтобы избежать траты времени на переодевание при пользовании площадкой для игр и гимнастики». Само собой, стремление к разносторонности: «В целях эстетического развития учащихся раз в три недели устраиваются литературно-музыкальные утра».
«В училище работал преподавателем литературы старших классов А. Л. Савич», – пишет Вера Романовна Лейкина-Свирская. «Вера Лейкина, – рекомендует ее Струве, – впоследствии стяжавшая себе некоторую известность в советской науке, была моей коллегой по редакции «Школьной газеты»»; позже она стала известным историком и источниковедом.
Из ее мемуаров мы узнаем, что Александр Савич был горячим сторонником реформы языка, отменяющей букву ять, десятеричное i, ижицу с фитой и в окончании слов мужского рода – твердый знак. «Запомнился он всем как скромнейший человек, – продолжает Лейкина-Свирская. – Александр Людвигович увлекательно и разносторонне дополнял разговор о произведении и писателе наблюдениями над реальной жизнью. Учебниками по истории литературы пользовался мало, поощрял работу над рефератами. Разбор этих сочинений в классе был настоящим праздником».
Слова Лейкиной-Свирской подхватывает Елена Александровна Павлова, выпускница 1914 года: «Долго я буду помнить своего самого любимого учителя Александра Людвиговича Савича. Уроки Савича я всегда посещала с особым удовольствием и интересом. Он настолько увлекал всех нас, что мы жалели, что звенит звонок и урок надо заканчивать».
17
Центробежная сила родства стягивала их всех в близкий круг. Новую квартиру Александр выбрал поближе к семье старшего брата, причем удалось найти прямо на Гатчинской, буквально через пару домов.
Павел Трофимович Магдебург, как свидетельствует справочник «Весь Петербург» за тот год, также перебрался на Петроградскую сторону – Колпинская, дом 8, и часто вечерами заходил к сестре на чай. Случалось, скучал полковник, слушая педагогические перепалки, которые вели братья Савичи.
– Мы с Германом водили жен посмотреть модную «босоножку» – Айседору Дункан, – принимая у Евгении Трофимовны чашечку из сервиза «Голубые мечи», сказал Александр, – Петр Андреевич так увлекся, что в училище теперь введены занятия пластикой. А наши дамы-преподавательницы ставят музыкальный спектакль.
– Босыми будут танцевать по классу? Подходящее занятие.
– Знаем-знаем твой скептицизм.
– Не строй из меня ретрограда. Женщина-мать должна быть образованна. Но женщина-преподавательница, прости, Шурочка. Видишь ли, мужчина выходит на кафедру к слушателям, встав из-за письменного стола. А женщина? От пеленок, от корыта.
– Михаил, я добросовестно к урокам готовлюсь и предмет свой знаю хорошо, – запальчиво возмутилась Шурочка. – А с Игорьком няня сидит!
– Непозволительно мало для учителя хорошо знать свой предмет. Он должен быть самостоятельным в своих суждениях. Не обижайся, Шурочка, я знаю, что ты при желании нас легко заменишь, но беда-то в том, что мы с Сашей тебя в твоем самом главном деле заменить никак не сможем, – он улыбнулся и слегка покосился на заметно располневшую талию невестки.
– На Путиловском заводе жена одного фабричного инженера открыла прямо у себя в квартире детский сад и начальную школу, – Александр поспешил перевести разговор на другую тему. – Сейчас собирают средства среди служащих завода, чтобы открыть училище. Герда приглашают взять на себя руководство. Он и меня зовет на начальные классы.
– И что ты думаешь?
– Согласился уже. Пока, правда, беру сверхштатно несколько уроков. Но мне крайне интересно. Герд собирается набирать детей рабочих Путиловского завода.
…Это легче сказать – набирать детей рабочих. Кому из них заводская зарплата позволяла отправить мальчишку в училище? В Ларинской гимназии, где учились, как известно, «купеческие» дети и стоимость обучения считалась довольно приемлемой, и то приходилось собирать на стипендии деньги и даже куртки на благотворительных танцевальных вечерах. Герд убедил руководство завода помочь школе и помещением для занятий, и полноценной годичной субсидией. Недействующую деревянную церквушку выделили под театр.
Традиционно об обучении девочек из фабричной среды никто и не помышлял, их уделом было либо домашнее хозяйство, либо работа по найму в прислугах или на той же фабрике. Введенное Гердом совместное обучение вырывало их из замкнутого круга между корытом и ткацким станком. Пожалуй, труднее всего было преодолеть многоступенчатость в образовании – Путиловское училище стало первым опытом слияния начальных классов и старших, прообразом «восьмилетки». Современная система образования, по существу, базируется на достижениях педагогической науки и опытах выдающихся педагогов «новых передовых школ»: Владимира Герда, Петра Германа, Александра Савича, Виктора Сороки-Росинского и многих других.
Горячо увлеченный социал-демократическими идеями, впоследствии член фракции меньшевиков РСДРП, Владимир Герд был активистом учительского движения, одним из создателей Учительского союза…
Евгения Трофимовна в спор не вступала. Она достоверно знала, что идея женского образования в их семье не приветствуется. Муж был категорически против ее желания поступить на акушерские курсы. Не помогла в дискуссии и история однокашника Михаила Людвиговича, Павла Королева, чей развод стал в Нежине притчей во языцех. По окончанию института Павел Яковлевич получил назначение в Житомир, куда поехал с молодой женой Марией, дочерью известного торговца соленьями Москаленко, поставщика знаменитых нежинских огурцов. Мария Николаевна, хорошая, кстати, знакомая Евгении Трофимовны, с которой она училась вместе в гимназии Кушакевич, оставив мужа, уехала в Киев учиться на высших женских курсах. Сынишку, четырехлетнего Сережу Королева, бросила на руки родителям. Так старики и воспитывали его, пока дочь снова не вышла замуж. Водили на полеты Уточкина смотреть.
Впрочем, Тамару Савич сверх гимназической программы учили французскому и музыке. К музыке относились особенно серьезно, успехи девочка делала необыкновенные, и учитель поговаривал, что ее пора показывать в консерваторию.
Был Михаил Людвигович пунктуален и строг, в суждениях категоричен. Вся семья знала, когда у него заканчивается последний урок, сколько потребуется времени, чтобы дойти от гимназии до дома – шел он всегда пешком, для моциона. Когда в передней коротко и звучно звенел звонок, жена и дети чинно сидели в столовой у накрытого стола, из-под начищенных приборов топорщились крахмальные салфетки, а горничная отворяла дверь.
…Когда мы жили на Климове, Тамара Михайловна, высокомерно пренебрегая коммунальным убожеством, из всех потерь и осколков, уцелевших после конфискаций и эвакуаций, пыталась удержать и воссоздать ритуал, который был принят в доме отца. Дети сидели за столом, не смея перебивать старших, около приборов лежали вышитые салфетки, суп из кастрюли с облупленной эмалью переливали в фарфоровую супницу…
…В коммунальных квартирах долго доживали растерявшие своих мужчин по баталиям века питерские старушки. Неуверенными шагами они брели по длинным, как трамваи, коридорам в ботиках с галошами и в маленьких фетровых шляпках. В комнатушках, отрезанных от барских квартир, заставленных мебелью красного дерева с подвязанными ножками, под высокими картинами в тяжелых бронзовых рамах, они серебряными щипчиками клали в японские чашки сахар из хрустальных сахарниц и размешивали, придерживая фарфор белыми птичьими лапками. Кружевные вязаные шали, желтые полуслепые фотографии, книжные полки, уходящие в потолок, и низенькие складные лесенки к ним. Даже не «осколки разбитого вдребезги» – истертые в пыль крошки; мучительные потуги что-то удержать – подшивки журналов «Столица и усадьба», правильная петербургская речь, прямые спины.
Мы протискивались мимо шкафчика, в котором плотно прижимались друг к другу томики «Тысяча и одна ночь» и чашки с таинственным названием «Голубые мечи», мимо резного буфета с вырванными при обыске замками. Полкомнаты занимал рояль. Под ним на раскладушке спал мой младший брат.
Когда мы перебрались в Москву и привезли в новую квартиру «икеевскую» мебель, Аня, расставляя керамические кружки, взмолилась: «Мама, только ради Бога, не везите из Петербурга картины. Я этой нищеты больше видеть не могу»…
19 апреля 1913 года у Александра Савича родилась дочь Галина. Единственная женщина в «мужской» породе Александра Людвиговича, она станет военным врачом; всю войну, от Москвы до Манчжурии, будет оперировать в санитарном поезде. Так и не выйдет замуж.
Боря Савич, выпускник первого класса, принес похвальную грамоту – богатую, с репродукциями, посвященными 300-летию дома Романовых: портреты Михаила Федоровича, Александра Павловича, Николая Александровича, Александры Федоровны и царевича Алексея, все в золотых округлых рамках.
18
– Тома, Томочка, Боря! – позвала детей Евгения Трофимовна. – Бегите скорее, посмотрите, что вам дядя Володя прислал.
Маленькие ручки проворно развязывают узелки на крученой бечевке, разворачивают коричневую бумагу, разнимают серые комки ваты и извлекают из коробки – о, чудо! – резную деревянную лошадку с взаправдашней тележкой и две куклы-закрутки. Такие игрушки делают только в Тотьме: невеста в клетчатом платье, туго повязанная платком и жених в красной шелковой рубахе, подпоясанной желтым шнурком, в черной шапке – оба с белыми тряпочными личиками.
– Ой-ой-ой, – верещит Тамара, – мама, можно я их завтра в гимназию возьму?
Владимира Магдебурга перевели из Глухова в Тотемский уезд Вологодской губернии становым приставом.
– Вот бы собраться и съездить к Володе! – размечталась Евгения Трофимовна, любуясь подарками: берестяной шкатулкой и зеркальцем с расписной ручкой, – племянников даже ни разу не видела.
– Съездим, – рассеянно пообещал Михаил Людвигович.
…Он вспомнит свое обещание, вспомнит, глядя из крохотного мутного оконца на студеную дорогу – всего несколько верст – ведущую в Тотемский уезд. Как непреодолимы они будут, как невозможны.
Во второй половине 18 века двадцать экспедиций на Аляску снарядили на свои средства тотемские купцы – и это ни много, ни мало, а пятая часть всех экспедиций в Русскую Америку. Один из галиотов, совершающих плавание на Аляску, так и назывался: «Тотьма». Два других, известных современному читателю по опере, поставленной в прославленном «Ленкоме», носили имена «Юнона» и «Авось». Капитаном на «Юноне» шел выдающийся русский мореход Иван Кусков, уроженец Тотьмы.
В 1789 году вместе со своей командой, состоящей из восьмидесяти алеутов и двадцати русских мореходов, (среди которых и был капитан Рязанов, вошедший в русскую литературу трогательным романом с дочкой калифорнийского губернатора), Кусков достиг берегов Америки, а в 1812 году вблизи Сан-Франциско основал крепость. Форт Росс – самое знаменитое русское поселение в Калифорнии и поныне охраняется как памятник истории, а в России нет человека, у которого не захолонит сердце, когда он слышит сорванный голос Николая Караченцова: «Я тебя никогда не забуду, ты меня никогда не увидишь». Иван Кусков похоронен в Тотьме на территории Спасо-Суморина монастыря.
Разбогатели тотемские купцы, да и сам город после того, как на берегу реки Ковды в XV веке были найдены соляные источники. Русские цари наделяли северные монастыри правом беспошлинного производства соли и торговли ею. Иоанн IV Васильевич особой грамотой «пожаловал старца Феодосия Суморина, инока Спасо-Прилукского монастыря, освободил ему церковь воздвигнути Преображения Господа Бога и строити на Тотьме меж речками Ковды и Песьи Денги».
Преподобный Феодосий основал Спасо-Суморинскую обитель, наладил монастырское хозяйство: мельницы, амбары, кирпичные печи, четыре соляные варницы с одиннадцатью трубами, торговые лавки в городе, речные суда для перевозки соли. Закрепилось за поселением название Соль Тотемская.
Оживленный торговый путь вел из реки Сухоны по Северной Двине к Белому морю. По нему московское государство посылало корабли, груженые пушниной, медом, пенькой и льном, в заморские страны.
Поморы, жители русского Севера, не знавшие ни татарского ига, ни крепостничества, ни чиновьего засилья, говорили на своем диалекте, цокая и напирая на букву «о»; охотились на зверя – черную лисицу, медведя и волка; строили в хвойных лесах шестистенные избы с цветными наличниками; ловили в быстрых реках мелкий жемчуг для своих красавиц; на крутых берегах Сухоны возводили голубые храмы, – тотемское барокко – которые парили в ледяном тумане над замерзшей рекой; вырезали из сосны игрушечных лошадок и прятали в дремучих чащах раскольничьи скиты.
Навел на них порядок Великий государь Петр Алексеевич. «То не город, то тьма», – говаривал он, однако со свойственной ему пытливостью изучал работу соляных варниц, собственноручно поднимая бадьи с рассолом; ссылал в соляной уезд опальных бояр, воеводой же назначил отца первой жены – Федора Лопухина и пил чай в походном шатре на розовом береговом граните.
Полицейские в северных волостях появились сразу после земельных реформ Царя-Освободителя. Тогда была основана уездная полиция во главе с исправником и полицейские станы, каждый из которых объединял по 5–6 волостей. После постройки железной дороги из Петербурга в Вологду на каждой станции, даже таких небольших, как Кадуй, Уйта и Сеуч, появились служащие железнодорожной охраны.
Пристав третьего стана Тотемского уезда коллежский асессор Владимир Магдебург прибыл к месту службы с женой и тремя сыновьями в середине февраля 1914 года и поселился в казенной квартире.
«На становом приставе лежат дела исполнительные, следственные, судебно-полицейские и хозяйственно-распорядительные. Он – местный исполнитель предписаний уездного полицейского управления и непосредственный блюститель общественной безопасности, спокойствия и порядка в стане».
Погляди-ка, мать, в окошко —
С посиделок сын идет:
Весь побитый он немножко,
А из морды кровь идет!
Эту и следующие частушки мы извлекли из сборника, вышедшего из печати в 1914 году и посвященного народному творчеству Вологодской губернии.
Я гуляю, как мазурик,
И умру, как сукин сын,
Похоронят как собаку,
Девки скажут: «Леший с ним!»
Как сказали бы в наши дни, обстановка в молодежной среде была криминогенной. Подтверждение тому можно найти в незаурядном документе, хранящимся в Тотемском краеведческом музее – дневнике крестьянина А. А. Замораева. Это несколько толстых переплетенных тетрадей, в которые он из года в год чуть ли не каждый день спокойно и рассудительно записывал внятным и даже красивым почерком, почти не делая ошибок, свои впечатления.
«22 февраля, четверг. Память праведного Никифора. Народа у обедни много. Потом игрище у Петрухи, но дрянь. Ребята все хулиганы, одни матюки только и есть».
«15 марта. Был по делу о перерасходе средств бывшим старшиной Кокшаровым в правлении у станового».
«Кокшаров согласился уплатить добровольно 41 руб. Потом ездили в город. На ярмарке купили диван – 1 р. 35 коп., полотна 5 аршин – 75 коп., гороху полпуда – 60 коп. и кой-какой мелочи. Ходили в кинематограф. Очень хорошо!»
«20 апреля. С 13 по 19 все время провел на свадьбе. Дурацкая мода такие свадьбы, одно разорение. Денег издержали уйму, а после свадьбы скотину кормить нечем».
«16 мая. В Голодайке нашли какого-то мертвеца. Говорят, что умер там еще осенью».
«20 и 21 мая. Небывалое здесь явление – летело много саранчи».
«29 мая. Дождев все нет и нет. Ходу ничему нет, ни траве, ни яровым, везде черно, все иссохло».
Чем дальше, тем тревожнее становится тон автора дневника: «9 и 10 июня. Оба дня жары, ночи же очень холодные. Кажется, приходит черный год. Оводу много. Днем нельзя работать. Леса горят».
«28 июня. Убили австрийского наследника Фердинанда с женой, в городе Сараево».
«19 июля. Как громом ударило вестью о мобилизации всего запаса сил. Предвидится война с коварной Австрией. В разгар самого сенокоса увели с пожней всех солдат: Серова, Кутова, Макарова. Эти сено косили близко от нас».
Ухожу я во солдаты.
Куда милую девать?
Попрошу я станового:
– Разреши с собою взять!
«25 июля. Верно, большая выйдет война. Кажется, вся Европа сошла с ума, все лезут друг на друга».
26 июля в Петербурге, в Зимнем дворце, собрались члены Государственной думы и Государственного совета. Обращаясь к ним, император Николай Александрович сказал:
«Германия, а затем Австрия коварно объявили России войну.
Тот огромный подъем патриотических чувств, который, как ураган, пронесся по всей земле Нашей, служит ручательством в том, что Наша великая Матушка-Россия доведет ниспосланную Господом Богом войну до победного конца. В этом же единодушном народном порыве любви и готовности на любые жертвы, вплоть до жизни, Я черпаю возможность поддержать свои силы и спокойно и бодро взирать на будущее.
Я уверен, что вы все, каждый на своем месте, поможете Мне перенести ниспосланные испытания и что все, начиная с Меня, исполнят свой долг до конца. В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение царя с его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага!
Велик Бог Земли Русской!»
Глава 3. Золотопогонники
1
Река Нева, август 1914
Угнездившись чесучевыми костюмами на кожаных трамвайных сидениях, два интеллигента, разнящиеся самым пустяком: толстый в круглых очках, а тонкий – в пенсе на длинном крючковатом носе, печалились о судьбах родины.
– Я, милостивый государь, никак не могу в толк взять – немцы, цивилизованная, культурная нация.
– Шпионы! Господа, у нас в трамвае шпионы, – завизжала дама с соседнего кресла и вцепилась в чесучевый воротник.
– Вожатый! Остановите вагон!
– Хватайте их!
– В участок!
Пассажиры повскакивали со своих мест. Растопырив, как при ловле курицы, руки, они двинулись к болтунам и навалились на них дружной толпой.
– Не мните пиджак, господа, – отмахиваясь тростью, верещал столп культуры.
Объятые национальным подъемом, пассажиры отконвоировали «шпионов» в ближайший участок для установления личности. Дамы всю дорогу патриотично тыкали «задержанных» зонтиками.
Михаил Людвигович с Евгенией Трофимовной, проехав в опустевшем вагоне еще остановку, сошли у Манежной.
Над Исаакиевской площадью подымался клуб дыма, искры сверкали в нем, будто над собором пускали фейерверк. С набережной, с Малой Морской, из-под арки Сената сбегался разношерстый люд. Рядом с Савичами придержал лошадь извозчик.
– Будем ехать, барин?
– А что там за шум?
Мужичок почесал кнутом спину и кивнул равнодушно:
– Свержение статуев.
– Поехали домой, Женечка, – поморщился Михаил Людвигович. – Мы это представление уже в Кишиневе видели.
Евгения Трофимовна, урожденная Магдебург, покрепче ухватила мужа за локоть.
Гигантские бронзовые статуи тевтонов, удерживающих коней, долго сопротивлялись ударам топоров и кольев. Скульптуры раскачивались и, наконец, рухнули на площадь, распавшись на копыта, хвосты, головы. Голого тевтона с отбитым носом поволокли к Мойке с криками «долой швабов!». Эскадрон конных жандармов гарцевал на тротуаре перед входом в германское посольство, не делая попытки остановить возбужденную толпу, которая прорвалась уже на первый этаж. Веером летели из окон бумаги, хрустальная посуда, стулья.
Из пылающей парадной залы вынесли портреты Николая II и Александры Федоровны и с пением гимна направились в сторону Австрийского посольства.
Заглянув в Публичную библиотеку – эта дурная привычка еще отзовется в его судьбе – Михаил Людвигович взял полистать новый толковый словарь французского языка. После «pognon – звонкая монета, металлические деньги, обычно высокого достоинства» и перед «poids – тяжесть, большой отягчающий груз» повисло знакомое слово: «pogrom». Пометка – rus.
Разгромили редакцию газеты «St. Peterburger Zeitung». Побили стекла в кафе Рейтера на углу Невского и Садовой. Не пропустили и другие немецкие кофейни. Заведения с «неправильными» вывесками срочно поменяли названия. Знаменитая на весь город «Вена» превратилась в «Ресторан общества официантов».
18 августа появился высочайший указ о переименовании Санкт-Петербурга. Всеобщий восторг.
– «Чуждая кличка спала, как чешуя, с российской столицы, и возник перед нами исконно русский славянский город – Петроград», – прочитал Михаил Людвигович вслух за завтраком. – Послушай, Женечка, что пишет Борис Садовский, известный, кстати, поэт и критик. «Петербург (особенно Санкт-Петербург!) не укладывается в стих и не имеет никакой рифмы. Иное дело – Петроград».
Михаил Людвигович сложил газету и задумчиво помешал ложечкой сахар в чашке:
– То-то теперь рифмовать примутся. А ведь немцы здесь ни при чем! Петр Великий назвал столицу на голландский манер – Санкт-Петербурхъ, и если уж переводить, то по-русски наш город должен называться Святопетровск.
Газеты 1914 года полны проектами топонимических новаций. Возвратить Шлиссельбургу старинное новгородское название Орешек, даровать Ораниенбауму народное имя Рамбов, а Ревель пусть зовется, как когда-то, Колывань…
2
В июне 134-ый Феодосийский полк вышел из Екатеринослава. До первых выстрелов у реки Збруч, по которой проходила государственная граница, оставался месяц. Император Всероссийский Николай II Александрович, всеми силами старавшийся остановить грядущую европейскую бойню, был вынужден ввести «предмобилизационное положение», а 8 июля подписать указ о всеобщей мобилизации. Офицеры возвращались из отпусков в свои части, войска стягивались из лагерей на стоянки – к 24 июля армия стояла по всему фронту развертывания.
Границы от Балтийского моря до Румынии ощетинились русскими штыками. Эта подвижная, колючая дуга будет упруго сгибаться внутрь, и, пружинясь, выбрасывать пришельцев, выпячиваться и отступать; ни разу не разорвется. Не сдвинется таинственная, налитая царской волей, офицерским долгом и солдатской верой, линия – и через три года растворится, словно стертая резинкой с контурной карты, исчезнет вместе с Империей.
…Ставка прибыла в Барановичи; два фронта – Северо-Западный и Юго-Западный – заняли свои позиции.
Командующим 8-ой армией, куда входил 134-ый Феодосийский полк, был назначен Алексей Алексеевич Брусилов, генерал от кавалерии, отличившийся при взятии крепостей в последнюю Турецкую кампанию, военный педагог, обучавший будущего маршала Маннергейма. Генерал Брусилов освободит Галицию, выиграет Карпатскую битву, будучи назначен главкомом Юго-Западного фронта, развернет отступление, вытащит армию из ковельских болот; после позора самсоновского поражения восстановит славу русского оружия, отобьет Балканы, Литву, Буковину; к 1917 году Русская Армия будет стоять в 50 верстах от Вены. Прорвав позиционный фронт одновременным наступлением всех армий, Брусилов вырвет из немецкой пасти победу, которая будет уже никому не нужна…
Российское законодательство, начиная с милютинского устава 1874 года, фактически избавило образованные классы от долга защищать Отечество. Патриотический подъем первых дней войны осел в кабинетах загородных ресторанов пеной шампанского и исполнением гимна стоя. Впрочем, не будем сбрасывать со счетов и щедрые посылки кисетов с табаком для «окопных героев».
Феномен Большой войны, как называли Первую мировую современники, заключался в том, что правительству никак не удавалось вызвать «атмосферу 1812 года». Эх, не были потомки Рюрика эффективными менеджерами! Пустил бы Император немцев, ладно до Волги – хотя бы до Москвы, позволил бы обложить Санкт-Петербург (а! – уже Петроград) блокадой, сжечь белорусские деревни – и народная война (что там 1812, даже 1943!) – была бы обеспечена. Может, и скипетр бы удержал. Увы, Император и Русская Армия берегли не власть, а страну, защищая русскую территорию и мирных жителей. А мирные жители обворовывали свою армию, по три раза перепродавая одни и те же партии сапог, сшитые для солдат, которые стояли цепью по пояс в карпатском снегу.
3
Королева Мария Английская говорила, потеряв континентальные владения, что после смерти найдут начертанным на её сердце слово «Кале». На скольких русских сердцах высечена карта Галиции?
Река Стрыпа, 8 августа 1914
Розовый рассвет расточил туман над холмами, откатил его по пологим скатам в лощины, в болотистую пойму Стрыпы. Генерал от инфантерии, граф Федор Артурович Келлер отчетливо различил белый георгиевский крест на груди есаула, несущегося к нему впереди казачьего разъезда. Спешит офицер-разведчик, хлещет коня нагайкой, но, опережая его, оповещают о подходе австрийских войск орудийные выстрелы со стороны деревни Ярославице…
Генерал Келлер отдает приказания:
– Первому Оренбургскому казачьему полку – немедленно атаковать наступающие цепи австрийской пехоты!
– Восьмому Донскому артиллерийскому дивизиону – поддержать атаку оренбургцев!
– Главным силам дивизии – спешно подтягиваться!
Вершину за вершиной румянит ползущее из-за хребта солнце. Длинная колонна 10-ой дивизии вздрогнула, как будто по ней пропустили электрический ток: полки начали выстраивать фронт и галопом выходить на одну линию. Грозно и торжественно сверкают в утренних лучах генеральские эполеты, движутся Драгунский и Уланский полки, летят рысью гусары-ингерманландцы.
Трубят «к бою».
«Голосом» дает генерал команду ротмистру Барбовичу: «Атакуй с левого фланга!», и серые ингерманландские всадники наклоняют пики.
Зашевелилась, перестраиваясь, и дотоле неподвижная австрийская линия. Черная полоса строя, прорезанная красной линией чакчир, с волной белых султанов и голубых развевающихся ментиков, сомкнутая и выровненная, появилась на гребне.
Медный полуденный диск очертил светом черный силуэт всадника, замершего на вершине холма. Слился генерал Келлер с конем, камнем и солнцем, ища взглядом, нащупывая и уже чувствуя невидимую никому иному линию, грань, место, где войска сойдутся, схлестнутся и ударятся друг о друга.
Волны «ура!» прокатились по всему фронту и смешались в глухом, протяжном, тяжелом ударе двух столкнувшихся армий. Первая шеренга австрийского строя на мгновенье замерла и как бы поднялась в воздух, нанизанная на русские пики. Раскатами барабанной дроби посыпались шашечные и сабельные удары, серые защитные рубашки кавалеристов просачивались между австрийскими голубыми ментиками. Всадник рубил, колол всадника, слышались лязг железа, револьверные выстрелы, трескотня пулеметов.
К командиру дивизии, запыхавшись, на взмыленном коне подлетает вахмистр Архипов:
– Ваше сиятельство! Рублю, рублю этих с. по голове, но никак не могу разрубить ихние шапки!
– Бей их в морду и по шее, – советует граф Келлер.
Всадник осаживает коня, взмахивает шашкой и снова тонет в клокочущей лавине.
Как рой пчел, как взбудораженный муравейник, жужжит и кружится бой.
Удар второй австрийской линии, затем третьей – свежих шести эскадронов по расстроенной, поредевшей уже массе серых гимнастерок настолько силен, что она колеблется широкими волнами, зигзагами поддается и отходит, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее.
Стройная колонна австрийского эскадрона безудержно гонит отступающие русские полки.
«Штаб и конвой – в атаку!» – Генерал Келлер бросает в бой единственные силы, которые остались в его распоряжении.
С места понеслись они во фланг проходившему уже мимо эскадрону. Начальник конвоя выхватил из кобуры револьвер, прицелился и выстрелил. Несшийся впереди австрийского эскадрона командир замертво свалился с лошади. Австрияки дрогнули и, рассыпавшись, стали уходить с поля боя.
Вокруг уральских штандартов собирал генерал Бегельдеев казачьи полки на усталых, в пене, конях. Гусары ротмистра Барбовича гнали неприятеля к болотистым берегам Стрыпы. Австрийцы бежали, оставляя завязших по колено, запутавшихся в тине лошадей.
Желтая мгла спустилась и закрыла, как занавес, поле самой большой конной битвы за всю Мировую войну. Темная серебряная тень медленно наползала на солнечный круг, пока не заслонила его полностью.
Ах, никогда не приносило удачи русскому войску солнечное затмение!
В бою – в руце Божьей. Все были верны.
Ты помнишь начало Великой войны?
И труд, и тревога – и радость, и свет
Тех конных атак и крылатых побед.
Врезаемся в гущу, проходим насквозь!
Но солнце над битвой во мглу облеклось.
Так было когда-то – и так при конце:
Черное солнце в горящем венце.
4
Галицийскими кампаниями назовут потом в учебниках истории растянувшиеся от Вислы до румынской границы, от августа до ноября сражения четырех русских армий Юго-Западного фронта против четырех Австро-Венгерских. По старым представлениям – целая война: два миллиона человек.
Река Гнилая Липа
В ночь на 15 августа Брусилов, снявшись с биваков, повел Восьмую армию форсированным маршем в львовском направлении, и она встала фронтом от Рогатина до Галича.
Здесь, у Рогатина, близ местечка Янчин, 7-ой корпус Брусиловской армии под командованием генерала Экка принял свой первый бой.
Он вошел в военную науку как «бой генералов», в историю Мировой войны – как блестящее поражение, которое 34-ая дивизия нанесла войскам генерала Бем Ермоли, в летопись Симферопольского и Феодосийского полков – как первая победа; в личной биографии офицеров 17 августа стало началом долгого пути от Янчина до черноморской волны.
Как мог выглядеть Янчин? Аккуратненький австрийский фольварк. Кирпичные, вырезанные с не нашей опрятностью домики. Крепко-накрепко закрытые ставни. Лучи солнца падают отвесно на красные черепичные крыши. Серое марево пыли, взбитое солдатскими сапогами, подымается чуть ли не до шпиля маленькой кирхи. От болотистой речной поймы с бесконечными гатями тянет гнилью. На том краю залитой полуденным зноем равнины у кромки леса уже видны чужие мундиры.
Бой генералов. Командиры 34-ой дивизии пойдут в атаку впереди полков, увлекая за собой солдат.
Тихо-тихо; замерли люди в военных формах, словно прислушиваясь, словно ища в себе – силы, уверенность, правду? – в последние минуты перед тем как поднять оружие. Стоят перед выровненными рядами офицеры в летних защитных фуражках и легких кителях. Запоют серебряные трубы, и они сделают первый шаг по невидимой еще дороге, по которой шесть лет идти им впереди своих полков. Штурмовать Карпаты. Через хаос и развал 1918 года привести феодосийцев и симферопольцев из Румынии в Екатеринославские казармы. Сквозь метель и петлюровские банды совершить знаменитый Зимний поход на Дон. Принять последний бой на Перекопе. Сберечь, сохранить Армию на Голом Поле у вод Дарданелл.
Их предадут солдаты, бросит Ставка, кинут союзники, от них отречется Император, но они не изменят присяге, долгу, Отечеству. Если не нашлось бы этих людей, как находится всегда хотя бы один праведник, без которого не стоит село на Руси, каким бы мы умылись позором.
Нещадно жжет августовское солнце 1914 года. Стоят перед дивизией командир корпуса генерал Экк, начальник дивизии генерал Баташев, командир Симферопольского полка генерал Кортацци, командир Феодосийского полка полковник Кусонский, командир 2-го батальона полковник Люткевич, командир 4-го батальона подполковник Магдебург.
5
В ходе упорных боев Третья Армия генерала Рузовского 20 августа берет Львов, 22 августа 8-ая Армия генерала Брусилова занимает хорошо укрепленную крепость Галич. Юго-Западный фронт переходит в наступление и к 13 сентября завершает победную битву за Восточную Галицию. Австрийцы оставляют на полях сражений почти половину армии.
Русская Армия отстояла Червонную Русь и вышла к Карпатам.
Фактически наступлением в Галиции были сорваны планы немецкого командования на молниеносную и победоносную войну.
Река Сан, осень 1914
Поезд прибыл на станцию поздно вечером и встал на запасной путь. Австрийцев вытеснили три недели назад, но не выветрился запах гари, осевший на закопченных дымом стенах вокзала, на обугленных оконных рамах, забитых досками. На платформе, у сооруженных из кольев и полотна палаток, случайные пассажиры: священник, несколько офицеров, чиновники – торгуют у крикливых баб баранки, пряники, пирожки с капустой. За столиком у самовара, прислонив к стулу костыли, пьет чай дама в солдатской форме и папахе.
Рота Феодосийского полка выстроилась вдоль состава. Унтер-офицер Москаленко, немолодой крепкий малоросс с короткой седоватой бородой и казацкими усами, командует:
– Мыться по отделениям в порядке номеров! Остальным – вольно. Михалыч, размести роту на станции и организуй чай. Я прохожу с первой группой – офицер должен идти впереди взвода, и с шашкой, и с шайкой.
В предбаннике солдаты стаскивают залепленные ошметками глины сапоги, раздеваются. Одежда и белье так запачканы, что кажутся просмоленными.
– И откуда у вас столько грязи и земли? – подшучивает банщик.
– Ты полежи с наше на брюхе в трясине. Пристроился тут шайки стеречь, – огрызается молодой солдат.
– Две недели по болотам таскались, – добавляет другой, постарше.
– Что вы с ним завязались? – Москаленко высовывается из двери; оттуда пышет жаром и березовым банным духом. – Заходи, получай мочалки.
Солдаты радостной гурьбой вваливают в банное отделение, расхватывают куски мыла, окатывают друг друга горячей водой, ожесточенно трут спины.
– Ложись, братцы, на лавки, кого веником обойти?
Распаренные, с красными, довольными лицами переходят в бельевую, натягивают чистое исподнее. И только черный ободок въевшейся под ногти окопной грязи мелькает на белом полотне.
– Следующая станция – парикмахерская! – Щелкает ножницами цирюльник с рыжими закрученными усами.
Разомлевший, растаявший, Москаленко степенно хлебал из блюдечка горячий чай, закусывая московскими конфетами, и неторопливо вел с комендантом поезда уважительный разговор.
– Грязное белье, стало быть, выкидываете?
– Поезд, – веско отвечал комендант, теребя реденькую бородку, – работает по полному циклу.
Поступает к нам окопник грязный, заросший, а на свет Божий выходит чистый, опрятный, словно новобранец. К вагону-бане прицеплен вагон-прачечная. Пойдемте, Геннадий Борисович, покажу нашу гордость – немецкие стиральные машины: сами моют, выжимают и даже сушат.
– Склад белья, – комендант указал на полки с аккуратными белыми стопками, – а здесь – он приоткрыл дверцу большого металлического шкафа, – дезинсекционная камера. В ней мы уничтожаем друзей Вильгельма.
– Кого-кого? – удивился Геннадий Борисович.
– Насекомых. Бич армии, разносчик сыпняка, а значит – друг Вильгельма. В это отверстие закладывают шинели, одежду. Вша больше шестидесяти-семидесяти градусов не выносит, при восьмидесяти – скрипит, а при девяноста – дохнет.
– Самого бы Вильгельма в эту дырку запихать! – брякнул Москаленко, и офицеры рассмеялись.
С началом Первой мировой вспомнили про банно-прачечные дезинфекционные поезда, которые были изобретены и введены в практику во время русско-японской войны.
Шефство над постройкой взяла на себя императрица Александра Федоровна. Ее инициатива получила полное одобрение и искреннюю поддержку армии. Генерал Брусилов вспоминал, как во время встречи с Александрой Федоровной она поинтересовалась, довольны ли на фронте ее поездами. «Я ей по совести ответил, что эти поезда приносят громадную пользу», – признавался генерал.
6
Река Нева
«В ответ на циркулярное отношение Учебного Отдела Министерства Торговли и промышленности от 24 октября 1914 года за № 9897 имею честь сообщить, что из служащих вверенного мне учебного заведения призван на войну Александр Людвигович Савич.
Жена прапорщика, Александра Николаевна Савич, получает за даваемые ею взамен мужа 10 уроков 750 рублей, остальные 10 уроков переданы другому преподавателю русского языка. Кроме того, Путиловское Общество Содействия Коммерческому Образованию уплачивает семье призванного вспомоществление в размере 92 рубл. 25 коп. в месяц».
…Началось хождение по мукам женщин нашей семьи. Сколько впереди окошечек, к которым они будут приникать, наводя справки о своих мужчинах, заполняя строчки анкет, передавая посылки, письма, плача, упрашивая, в 1915, в 1918, в 1921, в 1935, в 1942, в 1961, получая документы о реабилитации. Они будут стоять в очередях на узких лестницах, перед ними будут захлопывать двери, на них будут рявкать: «Вам сообщат.»; небрежно швырять записки, написанные на клочках оберточной бумаги, возвращать не принятые передачи. И не будет Императора, чтобы остановить хамов: «До сведения моего дошло, что некоторые воинские начальники позволяют обращаться грубо с женами и родственниками г.г. офицеров и прапорщиков, находящихся на театре военных действий, при наведении ими справок. Приказываю, чтобы впредь подобное не повторялось, и чтобы все чины военного ведомства оказывали бы семействам г.г. офицеров и прапорщиков, находящихся на театре военных действий, полное внимание во всем и обращались бы вежливо».
Семейство господина прапорщика Савича, а точнее, Шурочка с маленьким Игорьком чуть не каждый день приходили к дому № 1 на Караванной улице, где в Особом отделении для наведения справок о военнослужащих в марте 1915 года и сообщили им, что Александр Людвигович ранен в бою вблизи Залещиков, неподалеку от Тернополя.
Газета «Новое время», раздел «Вести с фронтов»: «В районе Залещиков в бою в ночь на 27 марта австрийцы после жестокого обстрела наших укреплений тяжелыми орудиями, перебив огнем почти всех защитников одного из них, стремительно ворвались в него. Но почти тотчас были выбиты контратакой подошедшей роты. Немногочисленные защитники укрепления, оказавшиеся невредимыми, остались в строю; раненые переданы в санитарный поезд».
7
Река Днестр, март 1915
Санитарные поезда старались подгонять как можно ближе к боевым позициям. Залещики в этом отношении – место удобное: узловая станция, через которую проходит стратегическая железная дорога Брест-Одесса.
На горизонте вспыхивал беловато-красный огонь, как будто каждую минуту всходило и тут же садилось солнце; небо загоралось, освещая пространство; вверх серебряными нитями взмывали ракеты; взрывы, грохот пушек заглушали свист локомотива. Поезд остановился. Врачи и фельдшеры по приставным лестницам сбежали с вагонных подножек к краю покореженного леса: воронки, упавшие друг на друга деревья, разорванные снарядами стволы. Из темноты, из черного оцепенения навстречу им со всех сторон двинулись огоньки, точно светлячки – это санитары с фонариками несли раненых к поезду.
Александр в окровавленной шинели, со вспоротым осколком рукавом, бессильно опустился у костра, где, прислонившись друг к другу, полулежали солдаты с перевязанными руками и головами.
– Вы сильно ранены? – склонилась над ним фельдшерица.
– Ничего, сестрица. Потерплю.
Она быстро подняла край рубахи. Бинты, которые неловко опоясывали спину и бедро, промокли от крови.
– Носилки!
Состав из 20 вагонов двинулся в сторону Петрограда. Посреди каждой теплушки – печь. Вдоль стен в три этажа установлено по двенадцать пружинных коек. Тяжелораненые лежат на них прямо на носилках; кислый запах карболки, гниющих ран и йодоформа. Врач обходит койки, сестрица светит ему свечкой, бледные капли стеарина капают на подрагивающие пальцы. Поправляют повязки, впрыскивают камфару, морфий.
В небе вспыхнул гигантский столб красного света – горят Залещики.
– Сестричка, мы отступаем?
– Нет, братец, нет, – утешает ласковый голосок. – Смотри, сколько вас, тяжелораненых – семь теплушек прицепили к нашему составу, и все полны. А при отступлении до поезда только те добираются, кто сам ходить может, тяжелых с поля боя не вынести.
Александр закрыл глаза и представил себе леса, поля, дороги, по которым валяются солдаты без помощи и без ухода.
На остановке в поезд подсадили раненых австрийцев, в изодранных осколками синих шинелях и выгоревших кепи с оловянными кокардами и буквами «F» и «I» – инициалами Франца-Иосифа.
В перевязочной собрались «ходячие». Сестры милосердия осторожно накладывают повязки, шутят, чтобы отвлечь солдат от болезненных процедур. Солдаты терпеливо и дружелюбно отшучиваются.
– Ну, а теперь пусть враги идут на перевязку, – говорит сестра.
– Какие они враги, ведь они без оружия, – с упреком возражают солдаты.
Раненые обступили смущенных, испуганных, тяжело покалеченных австрийцев:
– Александр Людвигович, а расспроси, откуда они!
– А жены у них есть?
– Дети?
– Пусть расскажет, жена плакала, когда провожала?
– Та-ак, и матерь у него есть, и трое ребятишек, и плакала жена, – все как у нас, – с умилением говорит солдат.
– А как же иначе, – соглашается другой. – Не по своей ведь охоте, их тоже начальство на фронт послало.
Солдаты угощают австрийцев табаком, крутят им папиросы. Австриец мнется и, склонившись к Александру Людвиговичу, шепчет еле слышно:
– Нас, наверное, в Сибирь отправят? Там же холодно, мы все умрем.
Александр смеется:
– Мы, русские, живем в Сибири, и вот, смотри, здоровые, крепкие и вас бьем.
Через девять дней поезд прибыл в Петроград. 46 военно-санитарных поездов было сформировано еще в период мобилизации. К середине 1915 года на русском фронте курсировало около 300 подвижных составов. Патронировала их формирование и работу Императрица. Вместе со старшими Великими княжнами Александра Федоровна прошла курс сестер милосердия военного времени. Они поступили рядовыми хирургическими сестрами в лазарет при Дворцовом госпитале. Стоя за хирургом, Государыня подавала стерилизованные инструменты, вату и бинты, уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренозные раны, научилась быстро менять застилку постели, не беспокоя больных, и делать перевязки посложнее.
В сентябре 1914 года было учреждено Управление верховного начальника санитарной и эвакуационной части во главе с членом Государственного совета генерал-адъютантом принцем Ольденбургским. В начале войны в стране стал ощущаться недостаток в медикаментах и хирургическом инструментарии, большая часть которых обычно ввозилась из-за границы, в том числе из Германии и Австро-Венгрии. По приказу Ольденбургского Петроградский завод военно-врачебных заготовлений стал работать в три смены, Институт экспериментальной медицины обеспечил бесперебойный выпуск вакцин и сывороток, Земский союз приступил к строительству фабрик для изготовления лекарств из местного сырья, запустив в Керчи, например, йодный завод. Все эти меры помогли стабилизировать ситуацию с медицинским снабжением действующей армии и лечебных заведений тыла страны.
8
Северо-Западный фронт, река Бзура, июнь 1915
Водянистая слизистая жидкость постепенно заполняет все легкие, и происходит удушение, вследствие чего люди умирают в течение одного или двух дней. Те, кому «посчастливилось» выжить, превращаются в слепых калек с сожженными легкими.
Профессор Фриц Хабер был удостоен в 1918 году звания лауреата Нобелевской премии по химии за синтез (десятью годами ранее) жидкого аммиака из азота и водорода на осмиевом катализаторе. Во время Первой мировой войны руководил химической службой немецких войск и первым начал использовать удушающие газы – смесь фосгена с хлором.
Саперная рота 24-го Сибирского стрелкового полка разместилась в землянках у города Сохачев Варшавской губернии и приступила к занятиям. На большом ровном лугу, с шанцевым инструментом в руках, стрелки тут же, на земле, добросовестно старались выполнить все, что объяснял руководитель учебной команды. Начали с простого стрелкового окопа для стрельбы лежа, а затем, в порядке постепенности докопались, в прямом смысле этого слова, и до укрепления профиля полной, выше роста человече ского.
Стрелкам, большинство из которых провели не один бой, не надо было объяснять значение саперного дела, они на собственной шкуре убедились, что без работы лопатой немыслимо при губительном огне ни наступать, ни обороняться. Бережно чертили в тетрадках планы окопов, обстоятельно изучали «Полевые фортификационные постройки и применение их к местности».
Дымится полевая кухня, несется к свежевырытым окопам домашний аромат щей.
– Ребята, налетай! – зовет артельщик.
Вытирая ладони о шаровары, саперы собираются вокруг котлов, подставляют бойкому кашевару котелки, торбы, кружки. Оголодавшие, усталые, едят скоро, без разговоров, слышно только, как гремят ложки. Опорожнив по второму котелку густой гречневой каши, стрелки прилегли на шинелях, на истоптанную, всю в бурых комьях земли, траву, закурили. Кто-то сразу и захрапел, посвистывая носом. Кашевар, помешивая черпаком жирные щи, выкликает:
– Кому плеснуть? Неси котелки, инвалидная команда!
Пожилой плотный сапер Кузьма Егоров, стряхнув кашу с седоватых усов, басовито отозвался:
– А чего это ты нас в инвалиды записал?
– Я не в обиду, братцы. Все знают, что в саперной команде половина раненых да контуженных.
Залез Кузьма в карман замаранных влажной землей шаровар, достал кисет, высыпал в ковшичек ладони махорку; небыстро свернул цигарку из газетного, прибереженного в другом уже кармане обрывка и прикурил от спички, которую протянул ему сосед.
– Правда твоя, кашевар, потрепал немец сибирские полки под Боржимовом. Страшное было дело. Как чумных сурков, травили нас газом. Я, браток, не первую войну воюю, но такого не видал. Зеленые лица с вытекшими глазами, черные распухшие языки. – Кузьма закашлялся.
Первая немецкая газовая атака была применена у города Боржимова 10 мая 1915 года против 5-го Сибирского корпуса 2-ой армии (на Западном фронте немцы использовали газы в конце апреля под Ипром). Газы выпустил 3-ий германский резервный корпус генерала фон Безелера. Было отравлено смертельно 10000 человек, 14-ая Сибирская дивизия погибла почти целиком…
– На рассвете сидел я в сторожевом окопе. Вдруг слышу: со стороны германского расположения взрывы. Смотрю – перед их окопами пламя, а над ним поднимается желтовато-зеленоватый дым. Поначалу любопытство даже разобрало. А как ветер подул в нашу сторону, чуем запах смрадный, и все сильнее, сильнее. Офицеры принялись костры запаливать, думали, что дым будет подымать газ вверх, но ничего не помогало. Ужас, паника охватила всех. Солдаты из окопов карабкаются, хрипят, задыхаются в кровавой пене. Винтовки побросали, бежим, падаем, а облако плывет вслед за нами, накрывает батареи, укрепления, лошадей. Добежал я, уж не помню как, до сарая, где был перевязочный пункт, и упал, и корчился, и траву руками рвал. Врачи за голову хватались: нет у них от этой отравы лекарств! Прямо у лазаретов стрелки, кто доползал, и умирали, раздирая ногтями шею. Но и это еще не все, братцы. Наутро приказали занять оставленные окопы. Я пошел с санитарами, чтобы подобрать, если кто живой остался. Какой там живой. – Кузьма оглядел саперов, которые, бросив ложки, слушали его угрюмо. – В окопах вповалку лежали мертвые тела – мы глазам своим не верили, – искалеченные, с раздробленными черепами, распоротыми животами. Наш унтер, Пирог по фамилии, нашел одного стрелка в сознании, и тот успел сказать, что германские солдаты забрались в окоп и надругались над ранеными. И как надругались! карманы всем повыворотили, обувь сняли, патроны в глаза забивали, в грудь. Зверь такого не сделает! Земляк мой, с Хабаровска, лежал со спущенной верхней одеждой и бельем, и штык загнан между ягодиц и там оставлен.
ИЗ ПРИКАЗА № 32 ОТ 16 ОКТЯБРЯ 1914 Г.
ПО 2-ОЙ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
Выбрасыватели огня или жидкости, выделяющей газы. Эти способы будут предоставлены в распоряжение отдельных частей армии главнокомандующим по мере надобности. В то же время части получат осведомленных лиц весьма необходимых для обращения с этими приборами…
Приборы эти, выбрасывающие моментально воспламеняющуюся жидкость, похожи на огнетушители. Огненные волны применимы на расстоянии 20 метров. Действие их моментально и смертельно, они отбрасывают врага на большое расстояние в силу распространяющегося жара. Желательно выбрасывать пламя короткими вспышками, чтобы иметь возможность сразить одной дозой содержимого несколько объектов. Выбрасыватели огня будут преимущественно употребляемы при сражениях на улицах и в домах, и будут храниться готовыми к применению в таких местах, откуда начнется атака…
От командного блиндажа быстрыми шагами двигается невысокий худощавый поручик с жесткими, чуть запавшими глазами.
– Поели? Бегом на склад! Сапоги, шаровары, гимнастерки новые подвезли. Через час выдвигаемся: приказано вырыть окопы фронтом к 23-му Сибирскому стрелковому, ввиду того, что неприятель большое желание имеет прорваться через их позиции. – Офицер криво усмехнулся и добавил: «У каптенармуса получите респираторы и очки-противогазы. Под фольварком Козловискупи пускают удушливый газ».
При мысли о противогазах поручик машинально потянул носом и поймал запах кухни. Он проворно нагнулся и приподнял крышку котла: – Наваристые у тебя, брат, щи! Плесни-ка и мне черпачок.
Слово «отступление» уже носилось в воздухе. Вторая армия оставляла Царство Польское. Через два дня саперная команда забрала свои вещи и инструменты, сдала в обоз котлы и двинулась в штаб корпуса. У деревни Кожушки натолкнулись на арьергард Сибирского полка, и дальше шли уже вместе, выбираясь из «польского мешка». Сибиряки отстреливались, а саперная команда устраивала на дорогах завалы, затрудняя немцам продвижение. Деревья сносили быстро, однако слишком толстые стволы приходилось «брать» взрывными устройствами. Две бомбы, привязанные к дереву, буквально бросали его на дорогу.
Переправившись через Бзуру, стрелки зажигают за собой мост, но огонь гаснет, снесенный ветром. Поручик с двумя подрывниками возвращается, деревянные перекладины снова горят, но они не уходят, ждут, пока не взорвутся все заряды, пока не затрещит, рассыплется искрами и рухнет в тихую Бзуру огненный шар.
Пятый Сибирский корпус занял Варшавские позиции. Несколько рядов скрытого и видимого проволочного заграждения, словно развешенные для просушки морские сети, накрывали мощные блиндажи и укрытия от газов. Поручик спрыгнул в окоп, ловко пощелкал лопаткой по козырьку, заглянул в бойницу, обследовал пулеметные гнезда; проволоку трогать не стал, осмотрел только, покивал одобрительно и, высунув наружу голову в съехавшей на затылок фуражке, махнул, наконец, рукой: – Заходим, стрелки, отсюда нас немец не выкурит!
Командир саперной роты, поручик, который раздает солдатам респираторы, руководит взрывными работами и валит деревья, загораживая дорогу неприятелю – не кто иной, как Борис Владимирович Магдебург, сын станового пристава Тотьменского уезда Владимира Трофимовича, племянник Григория Трофимовича, который, упомянем к случаю, тоже понюхает желтого удушливого газа, штурмуя Карпаты.
…По всему театру боевых действий воюют два поколения Магдебургов: дети Трофима – Василий, Константин, Яков, Павел, Григорий, его внуки, про старшего из которых, Бориса, написал в своих воспоминаниях однополчанин, стрелок 24-ой Сибирской роты, и записки эти обрываются на Варшавских позициях.
9
Река Нева, октябрь 1915
Из кухни новой квартиры на Канонерке виден был двор-колодец, узкий, гулкий, унизанный изнутри рядами мутных окон, за которыми внимательный наблюдатель мог различить горшки, кастрюли, бледные пятна женских лиц. Если стоять у самой арки, перекрытой воротами с кованым узором, задрав голову и придерживая рукой картуз – или шляпку, – то кажется, что этих окон и этих лиц так много, и что они обступают тебя, кружатся над тобой, как морок. Газовый рожок бросал конус зеленоватого света, выхватывая из сизых петербургских сумерек двери черного хода, каменные ступеньки и мощенный булыжником двор. Ни деревца, ни куста. Только пятна грязновато-желтого мха по краю гранитного цоколя и малокровные росточки, пробившиеся у подножия дома. Над мансардой шестого этажа, над скошенной жестяной крышей парит шпиль многоярусной колокольни Покровской церкви.
Шурочка вынула из холодной кладовки бутылку шампанского, которую хранила еще с лучших, до запрета на продажу алкоголя, времен и берегла для особого случая. Вот и дождалась – мужа выписали из госпиталя. Прихрамывает, опирается – и как элегантно! – на трость с набалдашником из слоновой кости, невредимый, веселый, родной. Шурочка суетится, вместе с кудлатой Марфушей расставляет на кружевной – сама вязала! – скатерти нехитрые угощения. Никаких особых разносолов достать не удалось: перебои с продуктами в Петрограде начались еще с зимы, даже хлеб не каждый день купишь без долгих очередей – «хвостов», как окрестили их питерские остроумцы. К нечастой теперь семейной встрече что-то наскребли по сусекам, что-то выменяли, что-то выстояли. Апельсины и виноград из Елисеевского – Саше поправляться надо – принесли Женя с Мишей. Пирожные и печенье к чаю – Шурочке ломать голову нужды нет: Александра Людвиговна – известная мастерица, и меренги печет, и шарлотки, и мазурки с изюмом и миндалем – пальчики оближешь.
Александра Людвиговна Долинская вместе с младшим сыном Сашей уже месяц как поселилась у брата Михаила, на Гатчинской.
10
Северо-Западный фронт, река Вилья, август 1915
Начальство пресекало слухи, что город скоро сдадут. Так уж у нас повелось, однако – чем увереннее начальство отрицает, тем шире ползут тревожные разговоры.
Один за другим закрывались в Вильно банки, казенные учреждения, телеграф. Частным лицам билеты на вокзале не выдавали. Те, у кого были деньги, нанимали подводы и ехали до ближайшей станции, верстах в 60–70 от города, там билеты можно было купить свободно.
Александре Людвиговне, вдове полковника Долинского, удалось в эвакуационном пункте достать пропуска на выезд для себя и сына.
Извозчик с трудом пробирался по улицам, усеянным соломенной трухой, наталкиваясь на обозы, груженные мебелью, покрытые брезентом двуколки с флагом Красного Креста, подолгу замирал на перекрестках, пропуская отряды солдат, двигающиеся к линии фронта. Коляска то резко останавливалась, то снова срывалась с места, и Саша брякался затылком об обитую подранной кожей стенку. У Соборной площади стали намертво: толпа народа окружила церковь, с которой через пролом, пробитый в стене, снимали колокол. Александра Людвиговна всхлипнула и перекрестилась: Матка Бозка Ченстоховска, да что же это делается! Повернули на соседнюю улицу, там грузили на подводы обмотанный мешками и веревками памятник Муравьеву. Ухватившись за узел с зимним пальто и валенками, Саша изо всех сил вытягивал шею, чтобы из-за широкой спины извозчика видеть, как мечется, бежит куда-то, прячется перепуганный город. Самому-то ему совсем не было страшно: они едут в Петербург, там живет его старший брат Женя! Женя Долинский – моряк, он плавает на большом корабле с красивыми белыми парусами, у него есть настоящий кортик, и он никому не даст Сашу в обиду!
– Саша, не отставай, не отставай! – кричала Александра Людвиговна, протискиваясь сквозь вокзальное коловращение, и мальчик бежал за ней, неуклюже волоча узел и не выпуская ни на секунду из виду мамино пальто, сбившийся платок и старые дерматиновые чемоданы в ее тонких руках. На дальней, тускло освещенной платформе нашли свой состав, зажатый между военными и санитарными поездами. Трое суток в забитых беженцами товарных вагонах ждали отправки. Саша спал на верхних нарах, в щели между деревянной вагонной стенкой и маминой спиной, вдыхая шерстяной запах пальто.
– Чего только за это время ни насмотрелись! – рассказывала Александра Людвиговна притихшим родственникам. – Утром в нашем вагоне умер годовалый ребенок. Отец от состава отойти боится, отправить могут в любую минуту, а у него в вагоне еще двое детей остались. Так и бродил по платформе с трупиком на руках, пока жандарм не сжалился и не унес его сынишку.
Она заплакала. Шурочка обняла невестку за плечи и долго шептала ей на ухо, успокаивая, поглаживая все реже и реже вздрагивающую спину. Саша вздохнул. Он жалел маму, но к слезам ее привык.
После смерти мужа Александра Людвиговна сильно сдала. Стала убирать прежде поднятые в замысловатой прическе волосы в простой узел и не покупала красивых шелковых платьев, – да и не на что было: денег, несмотря на дядимишины переводы, вечно не хватало, и Саша по утрам, до уроков, натянув на уши гимназическую фуражку с серебряным гербом и стараясь не попадаться на глаза одноклассникам, разносил по кривым виленским улочкам почту. Мама пересчитывала рублишки, которые сын с достоинством выкладывал перед ней каждую пятницу, вытаскивала из бисерного ридикюля кружевной платочек и прижимала к покрасневшим глазам.
Здесь, в Петрограде, ободренный небывалым в его жизни присутствием мужчин – дядя Миша и дядя Саша, незнакомые прежде дядья Пржевалинские, ровесник его Боренька Савич, а главное, брат Женя с золотыми якорьками на плечах – мальчик считал, что все невзгоды остались позади, и немного досадовал на маму, которая никак не могла успокоиться.
Евгения Трофимовна все подкладывала взъерошенному ребенку куски пирога, словно стараясь накормить его впрок.
Ах, если бы она могла накормить его впрок, если б могла.
11
Сашу Долинского определили в Путиловское училище, в класс, где ни дядя, ни тетя уроков не вели.
– Дурно, если ребенок обучается у педагогов-родственников, – сказал дядя Саша, подняв вверх указательный палец, весомо и внушительно, этим же пальцем прищемил вдруг Сашин нос и рассмеялся, – трудно сохранить объективность.
Боря Савич принес из гимназии очередной похвальный лист. Грамота поскромнее, чем довоенная, и размером поменьше. Ни портретов, ни репродукций. В середине, как обычно: «Награждается.», а справа надпись «Всё для войны, всё для победы».
12
Пройдя за 14 дней 20 верст беспрерывным штурмом, геройские корпуса 3-ей и 8-ой армии 30 марта 1915 года победно спустились с Карпат. Встали на территории Венгрии, на древней земле Карпатской Руси.
Потери неприятеля были огромны – 400 тысяч человек, но и наш урон, 200 тысяч человек, был ощутим. Сознавая недостаточность сил и большие потери, штаб Юго-Западного фронта отдал директиву 3-ей и 8-ой армиям прекратить наступление и прочно укрепиться на западных склонах Карпат.
Германское командование, понимая, что его союзник – Австро-Венгрия – находится в критическом положении, снимает с французского фронта 11-ую армию генерала фон Макензена и перебрасывает в Карпаты, которые, по расчетам Кайзера, должны были стать могилой Русской Армии. Россия же, предполагают немцы, лишившись вооруженной силы, вынуждена будет заключить мир любой ценой. Ключом к осуществлению этих планов было овладение Лесистыми Карпатами.
Наши войска выдержали основной удар германо-австрийцев, понеся потери и отказавшись от завоеванных земель. В июне 1915 года немцы овладели Львовом и Перемышлем, и Русские войска оставили Галицию. При отступлении 1915 года, которое называли тогда великим отходом, были потеряны подготовленные кадры Русской Армии. «С этого времени регулярный характер войск был утрачен, и наша армия стала все больше и больше походить на плохо обученное милиционное войско», – писал генерал Брусилов в своих воспоминаниях.
22 августа 1915 года Ставка переводится из Барановичей в Могилев. Император принимает на себя предводительствование всеми сухопутными и морскими вооруженными силами.
К середине сентября удается остановить немецкое наступление вглубь страны.
Я ранен, товарищ, шинель расстегни.
Ты крест, что жена повязала, сними,
И, если не ляжешь со мною ты рядом,
Смотри, повидайся с детьми.
Скажи им: отец на далеких Карпатах
Засеял немало земли —
И севом богатым в Карпатскую землю
Солдатские кости легли.
А. С. Пушкин,
Река Горынь, октябрь 1915 года
Всхолмленная местность между реками Иква и Горынь служила с конца лета местом действия 34-ой дивизии; водораздел этот, на склоне хвойного леса Верещак, прочно закрывал от австрийских полков правый фланг русского Юго-Западного фронта.
Австрийцы укрепились между деревнями Лопушно и Волица, выкопав три линии сплошных окопов, обмотанных проволочными заграждениями. Верещак с трех сторон окружали десять рядов колючей проволоки.
Сломать, разбить эти линии обороны можно было только длительной артиллерийской подготовкой, но и на короткую, с тем, чтобы разрушить проволоку и окопы хотя бы в районе прорыва, не было достаточного числа тяжелых орудий. «О систематической борьбе с артиллерией противника тогда не было и речи», – писал впоследствии командир 34-ой дивизии генерал Гутор. Между полуднем и сумерками 20 октября удалось разрушить только один австрийский блиндаж.
Корявы стволы реденькой рощи осеннего буро-грязного цвета, несет сыростью с болотистых берегов Горыни. Темнеет. По ожившему в сумерках полю тянутся раненые, повозки, обозы, автомобили с притушенными фарами, походные кухни с горячей пищей. Подмораживает.
Подполковник Магдебург спрыгнул в окоп – обжитой земляной город с улицами и переулками, навесами и противоштурмовыми лестницами, – и привычно окунулся в смешанный запах заношенных шинелей, крепкой махорки, испарений грязных человеческих тел. Спотыкаясь о спящих, осторожно пробрался к себе, отодвинув доски, зашел в командный пункт. Огонек свечки, покосившейся в заплывшей воском консервной банке, не освещал ничего, кроме безусого лица прапорщика Соловьева, пары земляных постелей и перевернутого ящика. Соловьева назначили ротным на опустевшее вчера место. Скрючившись на обрубке дерева и задрав свои долговязые колени чуть ли не до ушей, он добросовестно ставил галочки против фамилий уцелевших после боя солдат только что принятой роты.
– Ложился бы ты, что ли, – пробормотал Григорий, скинул сапоги, и, пристроив вместо подушки свой превосходный английский бинокль, рухнул на кровать.
Едва серый свет разжижил ночную тьму, денщик, поеживаясь от сырого, застоявшегося воздуха и ловко лавируя по темному узкому коридору окопа, принес мутный чай в жестяной кружке и сухари. Григорий Трофимович вынул из полевой сумки, разбухшей от бумаг, конверт с полученным накануне жалованием и письмо:
– Сбегай, Федя, в деревню, на почту, отправь Александре Семеновне.
В предрассветном сумраке прорисовывается колючая кромка леса. По полю стелется густой слой тумана и порохового дыма, белеют побитые осколками березовые столбики. Солдаты одеваются молча и сосредоточенно, избегая шума и лязга. Собираются вокруг батальонного командира младшие офицеры, раскладывают на ящике карту местности и освещают ее фонариками, закрывая электрический свет фуражками.
Подполковник Магдебург повесил на шею бинокль, затянул покрепче ремни и зарядил револьвер.
Атака началась дружным ударом подразделений 134-го и 135-го полков. Феодосийцы стремительно бросились на штурм леса Верещак, преодолевая проволочные заграждения. Обстрел со стороны австрийцев, вначале редкий, убыстрялся, все чаще и чаще понеслись снаряды, и, наконец, начался ураганный огонь. Огромные столбы дыма и пыли рядами вздымались к небу и образовывали почти непрерывную завесу. Нельзя было отличить отдельные разрывы – стоял непрерывный стон.
У штаба дивизии на окраине деревни Иваньи – суета: дым, смрад, свист, гул телефона. Мечутся ординарцы, пылят мотоциклетки. Командующий 34-ой дивизией генерал Гутор и командир 134-го Феодосийского полка полковник Люткевич в полевые бинокли просматривают местность, лежащую перед ними, от круглых очертаний леса Верещак до укрепленных окопов русских полков.
Английским джентльменом смотрелся полковник Люткевич в своем щегольском френче на черноусом фоне потомственных казаков. Всегда выбрит, жесткие рыжеватые волосы стрижены коротким ежиком, узкое длинное лицо, лиловые мешки под бледно-голубыми глазами и stif upper lip – абсолютная невозмутимость при любых обстоятельствах.
В дверь вбежал запыхавшийся ординарец:
– Ваше превосходительство, разрешите!
– Что у тебя?
– Срочное сообщение от главнокомандующего.
Генерал, не поворачивая головы, нетерпеливо протянул руку за пакетом, рванул сургуч и вынул бумагу. Внезапно глаза его под набухшими веками налились кровью, он сорвал фуражку, обнаружив всклокоченные седые волосы, и издал странный звук, не то всхлип, не то рык.
– Что с вами, генерал?
– Читайте сами, – Гутор протянул полковнику голубоватый лист.
В секретном распоряжении сообщалось, что запас снарядов в России кончился, работа артиллерийских заводов не может удовлетворить потребности армии. Предписывалось сократить до minimum’a артиллерийский огонь, так, чтобы в среднем каждая батарея производила не более одного выстрела в сутки.
– Одного выстрела?! – вспыхнул Люткевич. – Да мы и так с весны в полку расходуем не более, чем по двести снарядов за бой.
– Воевать впредь придется без артиллерии.
– Даже винтовок не хватает. На перевязочном пункте премии даем, если солдат с винтовкой добрался; за каждую трофейную чуть не рублем награждаем… Восемь лет про войну болтали, а оружие не заготовили.
– Не немец Россию погубит, – злобно погрозил кулаком генерал то ли австрийцам, то ли невидимой из Полесья, даже при помощи бинокля, Ставке, – а «он», наш солдат, нам этого не простит!
Левофланговый батальон подполковника Магдебурга, несмотря на слабую поддержку родной батареи, двигается вперед. Из штаба в Иваньи видно, как масса черных точек высыпала из австрийских окопов и потянулась в сторону русских – пленные. Батальон ворвался в первую линию укреплений противника.
Слышно, как в телефонной палатке гневно кричит в трубку унтер-офицер, связист, бывший преподаватель физики в женской гимназии:
– Слушаю, слушаю! Ваше высокоблагородие! Командир батальона Магдебург на проводе.
Люткевич нетерпеливо выхватил трубку.
– Докладываю. Первая линия неприятеля захвачена, – сквозь хрипы прорвался к командиру полка голос Григория Трофимовича.
– Продолжайте наступление!
– Я жду артиллерийскую подготовку!
– Подполковник, артиллерии не будет. Гаубицы направили в сторону деревни Волица, в поддержку симферопольцам.
– Михаил, – несколько секунд Люткевич слышал только треск в трубке, – там полкилометра отрытой местности. Ты приказываешь мне вести людей по чистому полю на пушки?
…Может быть и хорошо, что разговаривали старые боевые друзья по телефону. Может быть и хорошо, что не видел Григорий, как осунулось и вмиг постарело лицо полкового командира, как судорогой свело невозмутимый рот и жилистая рука сжала комок голубоватой бумаги, так, что казалось, из него сейчас, как в сказке из камня, брызнет вода – или кровь.
– Григорий, ты должен взять этот чертов Верещак.
Снаряды рвались совсем близко, защищая вторую линию обороны австрийцев; комья земли, гари и мелких осколков сыпалась прямо в окопы. Григорий хмуро оглядел только что захваченные, устланные соломой австрийские укрепления. Солдаты крутили цигарки, кто-то перетягивал бинтом поцарапанную проволокой руку, кто-то жевал сухарь. Лица были бледны, утомлены и озлоблены. Ротный Соловьев в расстегнутом кителе дремал, вытянув ноги почти до другой стены окопа.
Григорий расстегнул кобуру, легко взбежал вверх, глотнул холодный, с горьковатым привкусом гари воздух и крикнул:
– Батальон! Слушать мою команду.
Из крупповских прицелов, спрятанных в кустарниках на склоне леса, была смутно видна фигура офицера, еще минуту одинокая. Повернувшись к ним лицом, он побежал, не оглядываясь, не слыша, но – чувствуя всей своей тренированной волей, как, уцепившись за край, карабкаются из окопа солдаты и, выстраиваясь на ходу в нестройную жидкую цепь, топают за ним.
К 13 часам левофланговый батальон вышел на западную опушку леса Верещак, опрокинув штыками контратаку подразделений 41-го Имперского полка.
13
Раздвигая стеком густой навес хвойных ветвей, низко опустившихся над пешеходной тропкой, едва различимой при свете луны, Михаил Григорьевич Люткевич шел на огонек, мелькавший среди деревьев. На опушке леса, на сухом мягком мху сидели солдаты. Над костром на штыке качался закопченный котелок с чаем. Люткевич шагнул в их сторону и остановился. Перед ним на земле сомкнулась шеренга мертвецов, аккуратно выложенных в ряд, один к одному, и лунный свет падал на отрешенные, заострившиеся лица. С левого фланга, впереди своей роты лежал прапорщик Соловьев с развороченной грудью, далеко выставив длинные ноги.
У входа в австрийский блиндаж, прислонившись к высокой сосне с обгорелым стволом, мертвым сном спал часовой. Полковник Люткевич постоял с минуту, покачиваясь на носках, постучал парнишке по плечу стеком и, нагнувшись, нырнул в блиндаж, не обернувшись на встрепенувшееся бледное лицо ничего со сна не понимающего, измученного солдата.
На столе, врытом в землю, горела керосиновая лампа с отбитым наполовину стеклом. Денщик торопливо убирал остатки ужина.
– Садись, – Григорий Трофимович хлопнул рукой по обрубку дерева, – венской мебели не подвезли.
Люткевич сел, заложив ногу на ногу, и достал из кармана походную флягу. – Федька! Неси стаканы!
Григорий, непривычно ссутулившись, подтянул сползшую с плеча шинель и поднял воспаленные глаза:
– Виски?
Михаил молча налил полный стакан и подтолкнул к другому краю стола:
– Нет. Трофейная. До утра беспокоиться нечего, немец по ночам спит.
Люткевич выпил залпом, вяло поморщился и негромко сказал:
– Конница вернулась ни с чем. Гутор отправил шестой Заамурский гнать австрияков вдоль Горыни, но они даже до ближайшей деревни не доскакали – не смогли пройти сквозь проволочные заграждения тыловой линии. А саперов с ними послать не догадались.
Григорий машинально потер ломившее от усталости плечо:
– Мы сегодня взяли Волицу и лес Верещак. Прорвали их расположение на пять километров. Резервов у австрийцев нет. Если бы полку дали артиллерию, мы бы очистили всю линию Иквы к утру. Но поскольку ни черта нам не дадут, и ты это знаешь лучше меня, можно предположить, что мы застрянем на этой опушке недели на две. Пока не положим весь личный состав.
– По моим предположениям, атаковать они начнут завтра на рассвете, – сказал Люткевич. – Вызови младших офицеров.
Григорий взял флягу, покрутил в руках, словно рассматривая изящное червление, неторопливо отвинтил крышку и сделал долгий глоток. Аккуратно закрыл серебряное горлышко, прихлопнул для верности ладонью и засунул фляжку в нагрудный карман оцепеневшего полковника.
– Сейчас, – сказал он тихо. – Вызову. С того света.
14
Усердно клюя пером в походную чернильницу, Тимофей Сиволап, подслеповатый полковой писарь в съехавших на самый кончик носа роговых очках, вывел кружевным почерком:
«Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Императоръ Николай Александровичъ Самодержецъ Всероссийскiй, Государь Всемилостивейшшiй
Просит Подполковникъ 134 пехотнаго Феодосiйскаго полка Григорий Трофимовичъ Магдебургъ Будучи по происхожденiю совершенно русским и не желая носить фамилiю, напоминающую немецкую нацiю, всеподданнейше прошу: Къ сему Дабы повелено было мою настоящую фамилiю изменить на фамилiю Маградовъ. Действующая армия».
Григорий Трофимович принял у Сиволапа перо и неохотно подписал: «Подполковникъ Магдебургъ руку приложилъ».
– Не нравится мне вся эта история, Михаил, – буркнул он, не глядя на командира полка, который, подвинув стул к окну, ближе к тающему дневному свету, быстро просматривал служебные бумаги.
– А кому нравится, Гриша? – Люткевич выругался. – Думаешь, кому-нибудь в полку нравится, что наших солдат посылают выселять немцев-колонистов? За последние три дня двадцать тысяч человек из Полесья депортировали! Брусилов утверждает, что эта команда из стариков, вдов, детей и калек портит нам телефонные провода. Даже если так, мы – офицеры, а не жандармы.
– Германца остановить не можем, вот и отыгрываемся на шпиономании, – пожал плечами Григорий.
– Нравится – не нравится, – проворчал Михаил Григорьевич, – ты, Григорий, год водишь батальон, а все еще подполковник. Орденов – рождественскую елку обвесить хватит, а представление на повышение дважды без ответа возвращалось. Брусилов нашему корпусному в лицо признался, что не может назначить его командующим армией ввиду немецкой фамилии и вероисповедания. Генерал Экк и вправду лютеранин, и изменить этого не может, но ты-то православный, тебе всего лишь нужно окончание у фамилии исправить на русский манер, как Петербургу.
– Да хватит меня уговаривать, я уже подписал. Только волокиты теперь будет.
…В дневнике барона Врангеля вклеена газетная вырезка: «Уничтожение котелков».
«В Москве было несколько случаев демонстративного уничтожения некоторыми москвичами своих собственных шляп-котелков, являющихся, по мнению протестантов, прототипом германской каски и немецкой выдумкой».
Отступление в Галиции и слухи о больших потерях породили новую волну антинемецкой кампании. Массовый характер приняли доносы; обитатели русских городов, торговцы, ремесленники, литераторы, уважаемые люди превратились внезапно в опасных врагов государства. Германофобия стала чуть ли не государственной политикой.
«Весной 1915 года, когда после блестящих побед в Галиции и на Карпатах российские армии вступили в период великого отступления, – вспоминал генерал Деникин, – русское общество волновалось и искало виновников, пятую колонну… По стране пронеслась волна злобы против своих немцев, большей частью давным-давно обруселых, сохранивших только свои немецкие фамилии. Во многих местах это вылилось в демонстрации, оскорбления лиц немецкого происхождения и погромы. Особенно серьезные беспорядки произошли в Москве, где, между прочим, толпа забросала камнями карету сестры Царицы, Великой Княгини Елизаветы Федоровны».
Во второй половине июня командующий армией Юго-Западного фронта Брусилов дал распоряжение взять из числа немцев-колонистов заложников, большей частью учителей и пасторов, посадить в тюрьму до конца войны из соотношения 1 заложник на 1000 человек. Также предписывалось реквизировать у населения все продовольствие. Первый раз в истории заложников брали из числа собственного населения (после октября 1917 этот уникальный пример распространился на всех коренных жителей).
Грабежи, реквизиции, доносы – население, которое уже умело кидать бомбы, начали приучать к тому, что, оказывается, можно законно конфисковать частное предприятие…
Волокиты, на радость исследователям, оказалось значительно больше, чем предполагал Григорий Трофимович. Пухлое дело под названием «Переписка Собственной Его Императорского Величества Канцелярии по принятию прошений о рассмотрении ходатайства подполковника Г.Т. Магдебурга о перемене фамилии 1915–1916» добросовестно сохранилось в военно-историческом архиве, спасибо ему.
Собственноручно написанное Григорием Трофимовичем прошение: мелкий, упорный почерк с завитком вверх в букве «д», который потом будем узнавать в сохранившихся письмах Евгении Трофимовны, в рецептах, которые записывала в свою кулинарную тетрадку ее дочь, моя бабушка… В верхнем правом углу дата – 24 октября 1915 года; место отправления – лес Верещак.
Перелистываем истончившиеся пожелтелые листы ходатайств, справок, приложений; мелькают торжественные, давно ушедшие из жизни слова: «всеподданнейше прошу», «имею честь уведомить», размашистые и нечитаемые подписи генералов, чьи имена составили честь русской воинской истории – командиры 134-го Феодосийского полка, генерал-майор Павел Михайлович Кусонский, полковник Михаил Григорьевич Люткевич, командир 7-го армейского корпуса, генерал от инфантерии Эдуард Владимирович Экк, начальник 34-ой пехотной дивизии генерал-лейтенант Алексей Евгеньевич Гутор.
Надвинув низко капюшон плащ-накидки, пишет, пристроив на планшет бланк с печатью полка, Михаил Григорьевич Люткевич заключение на рапорт:
«Подполковник Магдебург по своим личным качествам является типичным русским, со всеми его особенностями и горячей преданностью Родине, что вероятно объясняется слишком большим отдалением в прошлое того предка, который был последним немцем. Все родные и близкие подполковника Магдебурга русские и сама память о предках нерусских уже исчезла из рода Магдебург. Считаю весьма понятным и заслуживающим ходатайства желание подполковника Магдебурга о перемене его фамилии на русскую».
В мае 1916 года военный министр направляет ходатайство в Собственную его императорского Величества Канцелярию. Подполковнику Магдебургу остается приложить еще несколько документов – согласие жены и метрическую выписку.
Григорий Трофимович не сделал этого. Надоела ли ему волокита, остыл ли накал антинемецких страстей? Весной 1916 года 11-ая армия, в которую к тому времени был переведен Феодосийский полк, стала участником знаменитого наступления Русской Армии, которое вошло в историю как Брусиловский, или Луцкий, прорыв. Григорий Трофимович сохранил фамилию рода Магдебургов – рода, который несколько поколений, начиная с присоединения к Российской Империи Запорожской Сечи, пополнял офицерами Русскую Армию; фамилию, с которой черниговский казак Василий Магдебург со своим взводом гнал Наполеона от русского города Малоярославца, майор Трофим Магдебург брал Плевну и Шипкинский перевал; фамилию, с которой Григорий вел свой батальон на Луцк.
Звание полковника Григорий Трофимович Магдебург получил за боевые отличия 7 мая 1915 года.
15
Прапорщик Александр Савич получил предписание: направляется в Псков преподавателем в учебную команду нижних чинов.
– Совершенно нечего волноваться. Псков – не передовая, глубокий и безопасный тыл, – успокаивал своих дам Александр Людвигович.
Елена Александровна Павлова, ученица Александра Савича, писала в мемуарах о любимом педагоге: «Во время Первой мировой войны я была с ним в дружеской переписке. Все его письма ко мне из армии дышали глубокой верой в жизнь и большим оптимизмом. Из них я почерпнула много хороших жизненных советов, которые впоследствии мне очень пригодились. Эти письма я хранила долго, но во время Великой Отечественной войны, в мое отсутствие, мой отчим в Москве, полагая, что меня нет в живых, сжег, согреваясь, всю мою переписку».
Одно армейское письмо Александра Людвиговича сохранилось. Оно адресовано Петру Андреевичу Герману, другу, единомышленнику, директору Выборгского коммерческого училища.
«22 сентября 1916 г.
Дорогой Петр Андреевич!
Возвращаясь с занятий со своей учебной командой в грязный покинутый своими хозяевами домишко, получил посланное Вами приветствие от собравшихся на школьном празднике. Оно сразу отвлекло меня от не совсем приятной действительности, и перенесло мои мысли к хорошему прошлому. С самыми светлыми, лучшими чувствами вспоминаю я свою работу в Выборгском училище…
Петр Андреевич! Я уверен, что скоро окончится разрушительная работа и начнется снова созидательная, и можно будет вернуться к мирной деятельности. Без такой веры здесь жить было бы много труднее. Продолжая пока заниматься в своей учебной команде «словесностью», я буду вспоминать еще чаще, еще больше о той другой словесности, над которой когда-то работал вместе с учащимися Выборгского училища. Впрочем, мне еще остается вполне приятное утешение, что и здесь я близок к своей специальности: все же занятия с нижними чинами для подготовки из них начальников, будущих унтер-офицеров, тоже в некотором роде педагогическая работа.
Еще раз спасибо Вам и всей нашей школьной семье за память. Большое спасибо.
Глубокоуважающий Вас Ал. Савич».
16
Река Стоход, август 1916
Летом 1916 года срочно открыли Румынский фронт, куда, в составе 4-ой армии, был переброшен 7-ой корпус генерала Экка, вместе с которым уходили из Полесья симферопольцы и феодосийцы.
Нехолодным дождливым утром полковника Магдебурга вызвали в штаб полка. Люткевич ждал его на крыльце разбитого снарядом домика. Собственно, он не встречал своего батальонного – вышел проводить начальника дивизии после совещания о переброске полков в Румынию.
Автомобиль Гутора еще был виден у поворота дороги на Броды. Постукивая стеком по блестящему голенищу, Люткевич сбежал с крыльца; его и без того длинное лицо было вытянуто и угрюмо.
– У меня новости, Григорий. Полк перебрасывают в Марашешты.
– А в столицу по пути не заглянем? – усмехнулся Магдебург. – Отец любил вспоминать, как они в турецкую кампанию стояли в Бухаресте: фаэтоны на Каля Викторией, вино Старомонастырское, цыгане. Будешь фланировать, как Скобелев, в белом кителе, барышень в кондитерской Фраскатти шампанским поить.
– Шампанское нам Крупп в окопы поднесет, – отмахнулся Люткевич. – Пришло распоряжение из штаба армии – кадровых офицеров распределить преподавателями на ускоренные курсы военных училищ. В нашем полку осталось пятеро с военным образованием, сравнительно с другими – непозволительная роскошь. По всей армии в командном составе – прапорщики и вольноперы… – грустно заметил Михаил, вздохнул и перешел к делу. – Гутор при мне твой послужной список листал. У тебя преподавательского стажа не меньше, чем фронтового: обучал ратников, заведовал школой прапорщиков. Короче, посылают тебя командиром батальона в Чугуевское училище.
– Я как-то стоял в чугуевских лагерях, – задумчиво произнес Григорий. – Это совсем близко от Екатеринослава.
– А ты когда последний раз был дома?
– Тогда же, когда и ты. Последний раз видел Александру с детьми, когда они на платформе вслед нашим эшелонам белыми платочками махали. В июле 1914.
– У тебя час на сборы. Прощайся с полком.
С привычной сдержанностью они пожали друг другу руки, помолчали. Поколебавшись, Григорий неловко обнял Люткевича, повернулся и зашагал к полку.
17
134-ый Феодосийский полк, о котором в военной истории пишут, используя эпитеты «блестящая атака», «неотразимый натиск», «особо отличился», начал войну в составе 34-ой дивизии 7-го армейского корпуса 8-ой армии Юго-Западного фронта в августе 1914 года. Последней битвой 34-ой дивизии стало отражение немецкого наступления под Марашештами в июне 1917 года. В этот день его потери составили 65 % личного состава. Вся страна митинговала, а последние солдаты Империи обороняли берег реки Серет, задыхаясь в облаках фосгена. Семь составов поменял Феодосийский полк за три года войны. Первый, кадровый, как его называли тогда – Императорская пехота, погиб в кровавых боях от Хырова до Стрыя. Второй, в лютую стужу, не дождавшись от своих штабов теплой формы, по пояс в снегу штурмовал Карпатские перевалы в первую зимнюю кампанию. Третий состав полег в Полесье во время великого отхода 1915 года. Полностью новый четвертый состав был уничтожен во вторую зимнюю кампанию. Пятый положили в Ковельские болота в 1916 году. Шестой состав 34-ой дивизии четыре дня отражал четыре германские дивизии на Румынском фронте.
Известный военный историк Керсновский в заключительной главе своей книги писал о 7-ом корпусе старого ветерана, генерала Экка: «Их присутствие неизменно служило залогом верного успеха. Неудач эти дивизии не знали, в худшем случае – сводя бои вничью».
С развалом Русской Армии боевой путь 34-ой дивизии и ее полков не закончился, он продолжался в рядах Белого движения: Екатеринославский поход в 1918 году, защита Крыма под командованием Слащева в 1919, десант в Северной Таврии в 1920, служба в Галлиполи под командованием генерала Экка – в 1921 году.
18
Им оставалось жить пару месяцев: стране, монархии, Русской Армии, театру военных действий, классическим гимназиям, благотворительным комитетам, чистым парадным. Наступал январь 1917 года.
Тектонические пласты под Среднерусской возвышенностью пришли в движение, но мало кто слышал гул надвигающегося землетрясения.
9 февраля 1917 года статский советник Михаил Савич был освобожден от обязанностей присяжного заседателя по ходатайству директора Ларинской гимназии господина Мухина: «Г. Савич является организатором и руководителем ученического литературно-музыкального вечера, устраиваемого в гимназии учениками с благотворительною целью: пожертвования пойдут на подарки воинам в действующую армию. Присутствие г. Савича в гимназии в течение всего этого дня необходимо для успеха названного благотворительного дела».
Меньше чем через две недели на гимназической доске объявлений появилось распоряжение управляющего Петроградским учебным округом.
«26 февраля 1917 года.
Уведомляю г.г. начальников учебных заведений, что в понедельник, вторник и среду (27, 28 февраля и 1 марта) занятий в учебных заведениях не будет. В эти дни учащиеся должны находиться дома и никуда не выходить.
Управляющий округом А. Остроумов».
Земные пласты вздыбились и столкнулись. В Петербурге начались беспорядки, получившие в истории название Февральской революции.
Государь отрекся от престола. К власти пришло Временное правительство.
Горожане митинговали, готовились к выборам в Учредительное собрание, томились в бесконечных продуктовых хвостах. Не хватало топлива – не только для предприятий, но и для жилых помещений. Например, в спальнях Морского кадетского корпуса термометр показывал всего 8 градусов тепла.
19
Последний выпуск Морского корпуса, историей своей уходящего к первой «навигацкой» школе, созданной волей Петра Великого, получал аттестаты скромно, не так, как в былые годы, когда для торжества распахивала двери парадная зала Морского министерства. Выпускников произвели в корабельные гардемарины, им предстояло многомесячное учебное плавание на боевых судах, а потом экзамен на мичмана. Обычно «учебка» начиналась в Балтийском море, но на этот раз из-за военных действий, возможных в его водах, было принято иное решение: специальным поездом гардемаринов отправили во Владивосток и уже там распределили по судам.
«Первая смена, – писал участник того похода, – плавала на транспорте «Ксения», вторая – на заградителе «Монгучай» и четырех миноносцах. Через месяц смены поменялись».
В конце второго месяца гардемарины были собраны на «Ксении». По пути в Японию попали в шторм. «Ксения» была мало загружена и, когда судно попало в «глаз тайфуна», его стало сильно бить и бросать на волнах. Лопнул штуртрос, гардемарины с лейтенантом-механиком несколько часов ловили обрывки цепи, чтобы ее склепать.
Осиротел Женя Долинский совсем маленьким, в шесть лет, но отцовские рассказы врезались в цепкую детскую память. Сейчас, когда волны заливали палубу, ой как вспомнились корабельному гардемарину истории портупей-юнкера Флора Долинского о страшном шторме на Черном море, когда флот-победитель возвращался в Россию из Адрианополя после русско-турецкой войны!
Выбравшись из тайфуна, взяли курс на Котэ – ближайший большой порт в Японском море. Население встретило приветливо, и его любезность удвоилась, когда японцы узнали, что моряки не «американ», а «рус»…»
Поездом возвращались в Петроград последние гардемарины. Подолгу стояли они у окон, широко расставив ноги и глядя на летящую мимо страну, осеннюю, несытую, штормящую. Удастся ли собрать обрывки цепи, вырвется ли тонущий российский корабль из «глаза тайфуна»…
Глава 4. Конь блед
1
Река Донец
Массивное, построенное «покоем» еще в аракчеевские времена для штаба военных поселений, здание Чугуевского училища крепостью возвышалось над тихим заштатным городком, речкой Донцом и обильными яблоневыми садами. В «вечногарнизонном» Чугуеве, расположенном в 10 верстах от Харькова, кроме знаменитого юнкерского училища, стоял Ингерманландский гусарский полк и две конные батареи, входящие в состав 10-ой Кавалерийской дивизии. Все достопримечательности пыльного городка составляли три мощеные улицы, каменный Покровский собор, манеж, гостиный двор в несколько арок, двухэтажное офицерское собрание и Царский Путевой дворец, построенный специально для императора Александра I, любившего приезжать в Чугуев на смотры войск. Крышу училища венчала башенка со старинными часами и звоном: в 12 часов пополудни в них открывалась дверь с одной стороны, и выходили фигуры, изображавшие кирасира, гусара, улана, драгуна и других родов войск солдат, маршировавших и уходивших в другую дверь. Однако об этом представлении чугуевцы слышали только от старожилов: с замиранием жизни аракчеевского поселения заглохли и часы, на памяти юнкеров последних выпусков неизменно показывали половину первого.
Григорий Трофимович Магдебург поселился в трехоконном белом домике, в котором, впрочем, бывал редко.
Тактика и фортификация, теория стрельбы, изучение уставов, практика пулеметного дела, инструментальной и глазомерной съемок, строевые занятия, экзамены. «Так происходила подготовка будущих офицеров, пока революционные силы не стали разлагать русскую армию», – вспоминал капитан Борис Сырцов, курсовой командир училища, попавший в Чугуев тем же порядком, что и Магдебург.
Приказом № 1 от 1 марта 1917 года Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов ломает структуру армии: солдаты выводятся из подчинения офицерам, оружие передается в распоряжение солдатских комитетов, «вставание во фронт и обязательное отдание чести отменяются». Армия фактически превращена в ополчение. 10 марта 1917 года Временное правительство законодательно упраздняет политическую и криминальную полицию. Городскую милицию наполняют студентами, присяжными поверенными, социалистами.
Две железные скобы, которые, по-существу, скрепляют общественный порядок, сняты, и остановить катастрофу некому.
На грунтовом плацу перед Чугуевским училищем на перевернутый ящик взгромоздился студент в линялой тужурке учительского института. Тряся зажатой в кулачок фуражкой с отрезанной кокардой, он кричал, надсаживаясь, кашляя и хватаясь поминутно за впалую грудь: «Вся власть советам!». Сгрудившиеся вкруг него чугуевские обыватели – рябая тетка в калошах на босу ногу, фабричные, круглые веснушчатые гимназистки, солдат в длинной шинели с разрезом назади – безучастно лузгали семечки и плевали на сухую траву. Из дверей училища, придерживая на ходу шашку, выскочил фельдфебель. Он бежал, слегка припадая на левую ногу, и кричал еще издали срывающимся от натуги голосом: «Кто на плац допустил? Марш все живо отсюда! Дежурны-ы-ый!» Заметив внимание к своей персоне, худосочный агитатор широко откинул правую руку с драной фуражкой и воззвал к бегущему через поле разъяренному фельдфебелю:
– Товарищ, сбрось буржуазные оковы! Долой войну! Углубляй революцию!
– Я тебе сейчас углублю, – завопил фельдфебель, багровея до самой шеи, – мать родную не узнаешь!
Обыватели, довольные бесплатным развлечением, отступили, однако, ближе к дороге. На крыльце училища появились юнкера в наброшенных шинелях и дежурный офицер. Студент, продолжая выкрикивать лозунги, ретировался в сторону железнодорожной станции.
– Что за шум, Геннадий Борисович?
– Да опять агитаторы, Ваше благородие. Каженный день повадились! То какие-то дашнаки, то анархисты, то металлисты… дьявол их разбери. Третьего дня, не поверите, Григорий Трофимович, баба агитировать притащилась: «Я, – мол, – от Союза домашних работниц». Подол, говорю, подбери, дура, да дуй отсюда.
Москаленко перевел дух и проворчал:
– У них революция, у нас – фортификация.
– Ты, брат, все-таки аккуратней с мирным населением, – заметил полковник.
– Какое же оно, Ваше благородие, мирное? – жидовня одна! – проворчал унтер-офицер. – Повылезали изо всех углов! Кому теперь разгонять? – ни городового, ни квартального. Милиция у них теперь – студентишки, повязки нацепили и ходят, как на танцы. Шашки у городовых отобрали – да они не знают, за какой конец ее взять-то, шашку!
Фельдфебель поморщился и растер тыльной стороной ладони спину – осталась у него такая привычка после привалов в Карпатских горах, где им с полковником случалось ночевать на промерзшей земле, завернувшись в шинели. Помявшись, Москаленко отвел глаза и спросил неровным, неуверенным голосом:
– Григорий Трофимыч, вчера с Харькова солдаты приезжали. Правду говорят, что теперь офицерам честь отдавать не требуется?
Полковник поднял подбородок, повернулся в сторону училища и внимательно посмотрел, изучающе, долго, как будто искал ответ в окнах старой аракчеевской крепости:
– Не хотят отдавать честь русским офицерам, будут отдавать немецким.
Не помолодел Григорий к сорока пяти годам. Высокими залысинами поднялся лоб. Похудел. Напрягся. Стал жёсток и неразговорчив. Всякий, кто смотрел в его и всегда-то глубоко посаженные, а теперь и вовсе ввалившиеся светлые глаза, понимал, что если скажет что-нибудь полковник, скупо разжав рот, укрытый широкими казацкими усами, то иначе быть не только не может, но и не должно.
Кабинет генерала Враского чист и лаконичен. Под обширной картой Российской империи, на дубовом столе, на безукоризненном зеленом сукне, растянутом между рядами бронзовых заклепок, под стеклянным куполом лампы аккуратно, как на плацу, стоял малахитовый чернильный прибор с витиеватой надписью «Генерал-майору от сослуживцев», подаренный при отбытии из Владивостока. На книжных полках, под Святым Георгием в резном ореховом окладе, газеты: «Новое время», «Русский инвалид», журналы «Разведчик» и «Нива», книги, учебники, уставы, расставленные по ранжиру с немецкой педантичностью. С этой же педантичностью вел Враский и училищное хозяйство. В 1914 году, будучи только назначен командовать одним из старейших военных заведений, незамедлительно же взял на заметку все военные здания, казармы в городе и быстро наполнил их юнкерами, вчетверо увеличив набор. Понял сразу, раньше многих, что военная необходимость потребует большего и скорейшего обучения молодых офицеров.
Немецких кровей был генерал, предки его переселились на юг Украины при матушке Екатерине. Потомственный военный, Враский с малых чинов служил на Дальнем Востоке, воевал в японскую. При начале военных действий с Германией поддался общепатриотическому настрою и подал прошение о перемене своей родовой фамилии Фенстер на старинное русское имя матери, графини Враской.
Григорий Магдебург, вместе с другими фронтовиками направленный с театра военных действий под начало Враского, кроме общих немецких корней и фронтовой горечи разделял с генералом его взгляды, взвешенный дипломатический подход, его тревогу за будущность армии и страны. Поддержал он генерала, когда тот предложил переименовать вверенное ему заведение в «Военное Ордена Св. Георгия Победоносца училище» и сформировать георгиевские полки; поддержал, когда Иеремия Яковлевич перевел чугуевцев в подчинение Украинской Народной Республике, в которой генерал и старшие офицеры видели зачатки хоть какой-то государственности; будет поддерживать и воевать с ним и дальше, до последнего дня своей службы.
Враский стоял у раскрытого окна, заложив руки за спину и слегка ссутулив могучие плечи, туго обтянутые тонким генеральским сукном. Был генерал лыс, бородой окладист. Тяжелые, чуть кавказские и потому чуть трагические, глаза. Статен, с породной потомственной армейской выучкой. Иеремия Яковлевич наблюдал, как на плацу бравый, бронзовый от загара фельдфебель зычно командовал: «Левое плечо вперед. Ша-гом-а-арш!» Роты двигались по плацу развернутым строем. Самый большой выпуск в этом году – 1600 человек, еще четыре месяца назад – беспорядочная толпа вчерашних гимназистов, студентов, семинаристов, поступивших на ускоренные курсы, а сегодня под команды командира перед окном начальника проходила последняя боеспособная часть распадающейся на всем юге армии.
– Иеремия Яковлевич, – позвал, просунув голову в дверь, адъютант училища, штабс-капитан Любарский, – из штаба округа звонят.
Генерал принял трубку и процедил: «Здравия желаю». Связь на удивление работала бесперебойно, и голос командующего военным округом, который захлебывался, заикался и путался в словах, был слышен так, как будто тот орал, сидя на соседнем стуле.
– В Бахмуте запасный пехотный полк взбунтовался! Третий день бесчинствуют! Винный завод разгромили! Посылали учебные команды, два отряда красной гвардии – все спились! Поезда проходящие останавливаются: от пассажира до машиниста – все пьяные! Ради Бога, выручайте, Иеремия Яковлевич. По всей губернии магазины громят, кондитерские, аптеки! Только на вас надежда.
Враский слушал, отведя орущую трубку подальше от уха – брезгливо. Неотрывно смотрел, как шагают по плацу ровные шеренги пыльно-коричневых гимнастерок. Положив трубку, постоял с минуту, размышляя, и, не поворачиваясь, по-прежнему стоя спиной к Любарскому, коротко произнес:
– Полковника Магдебурга ко мне.
…Охваченные революционным пылом солдаты выносили со склада 10-литровые бутыли водки, так называемых «гусей», и тут же их распивали. Вслед за военными к заводу потянулись обыватели: весть о даровом алкоголе облетела окрестности быстрее телеграфа. Город представлял собою жуткую картину разгула.
Первый батальон полковника Магдебурга отправился поездом в Екатеринославскую губернию с приказом военного министра разоружить запасный полк, в котором насчитывалось около пяти тысяч солдат, и в случае неповиновения открыть огонь. Имея многократное превосходство в силе, бунтовщики оружие сдавать не пожелали. Юнкера взяли под охрану винный завод, казармы запасного полка, городскую администрацию. Капитан Сырцов вспоминает: «Еще чуть-чуть, и братья по оружию могли броситься друг на друга». Крепко держа под контролем город, генерал Враский, прибывший следом за батальоном, убедил комитет запасного полка, вернее, тех из них, кто еще был в состоянии связать два слова, подчиниться приказу и сдать оружие.
Начальником гарнизона города Бахмута был назначен полковник Магдебург.
Через две недели Временное правительство вернуло оружие протрезвевшим бунтовщикам, а большевикам стало ясно, что чугуевский «очаг контрреволюции» является реальной угрозой.
Осенью 1917 года на юге бушует гуманитарная катастрофа. Забастовки. Остановка железнодорожного транспорта. Войска нестройным потоком возвращаются с фронта, города забиты людьми, которым нечем заняться. Оружие не сдают, бродят по загаженным площадям, слушают многочисленных агитаторов конкурирующих, враждующих друг с другом партий, ненавидящих всех, кто пытается сохранить порядок и общий ход жизни. Беспорядки в Украине, Новороссии, на Северном Кавказе приобретают особенный характер – повальное пьянство. Толпа захватывает винные склады в Луганске, в Харькове крушат еврейские магазины, в Херсонской губернии в пьяных бунтах участвует милиция и казаки. В Феодосии разъяренные толпы врываются в дома в поисках укрытого продовольствия. Вялотекущая пьянка перерастает в пьяный солдатский бунт. Марина Цветаева пишет в письме Сергею Эфрону из Феодосии: «Город насквозь пропах. Все дни выпускают вино».
2
Река Нева
За спиной гудел Николаевский вокзал. 26 октября 1917 года гардемарин Евгений Долинский прибыл в Петроград; протолкался сквозь толпу и вышел на Невский. Знакомый, непохожий на сухие сибирские вьюги, влажный, солоноватый балтийский ветер мел по безлюдному проспекту, трепал полосатые парусиновые тенты над закрытыми магазинами, надувал парусом привязанный к балконной решетке плакат, на котором можно было прочесть только одно слово: «Долой!»
Евгений с тщательной морской аккуратностью одернул помятый бушлат и ребром ладони проверил, ровно ли легла кокарда. Блестят якорьки на погонах, золотые буковки на ленточках, в треугольнике ворота рябят полоски тельняшки. Кортик. Маленький кожаный рундучок – предмет особой гордости гардемарина.
Походка чуть вразвалочку – привычка еще не сложилась, но уже не терпится идти, как морскому волку – покачиваясь, словно по палубе. Юношеская угловатость, узкие плечи, тонкое, сухощавое лицо. Порода.
В переулках жмутся редкие прохожие, гулко топоча, пробегают и исчезают во дворах-колодцах солдаты; у Мойки проспект пересек казачий разъезд. На тротуаре валяются ручные ящики из-под патронов, брошенные пулеметные щиты блестят, покрытые утренней изморозью, на боку сваленной тумбы бьется обрывок газеты.
Распахнутые, зияют ворота Зимнего; словно вынесенные девятым валом обломки кораблекрушения, разбросаны перед ним пустые бутылки, матросы, безобразно раскинувшие руки – то ли мертвые, то ли пьяные; деревянные брусья, как сломанные мачты; юнкерские фуражки, гильзы. Мелькают странные, не виданные прежде у дворца лица – наглые, развязные, вороватые; суетятся, волокут канделябры, вырванные из рам картины, козетку с изогнутыми ножками и в серых габардиновых розах.
Нева поднялась, серая волна бьется выше ординара, у самых ступенек, спускающихся с парапета к воде, заливает щербатый гранит. Мутная, с желтоватыми подтеками пена выкидывает и снова уносит банки, окурки, мокрую шапку, клочки афиш, опутанные тиной красные банты.
«Разрушайте, разрушайте до основания…»
3
27 октября вечерние газеты вышли без раздела «По телеграфу», чему дано было разъяснение на первых полосах: «Петроградское телеграфное агентство уведомляет, что, будучи занято комиссаром военно-революционного комитета, оно лишено возможности передавать сведения о происходящих событиях».
Были, видно, в Тотемском уезде Вологодской губернии свои источники информации, помимо занятого под революционные нужды телеграфа – уже 28 октября крестьянин Замораев демонстрирует полную осведомленность: «В Петрограде было выступление большевиков. Керенский идет на усмирение разных советов. Чья возьмет, неизвестно. Жалко России, вся истерзана, разорена. Кругом смута и анархия».
«12 ноября. В Петрограде, говорят, неспокойно. Большевики сгубили все дело. Везде бунты и голод».
4
Денщик толкнул плечом дверь и, ловко балансируя подносом с подстаканниками, вошел в зал. Офицеры сидели, сдвинув кресла к столу, за которым начальник училища хмуро перебирал бумаги. Генерал Зыбин, седой, тяжелый, с широкой, полгруди закрывающей бородой, задумчиво стучал по краю пепельницы вишневой трубкой, выбивая табак, который уже давно лежал коричнево-сизой горкой на сером мраморе. Сырцов ходил по залу, поминутно выглядывая в окно; опираясь на спинку кресла, склонялся, взволнованно и горячо шептал что-то Шмидту.
– Расставляй, – скомандовал Магдебург, расположившийся, по фронтовой привычке, лицом ко входу, и принял в ладонь горячее обжигающее серебро.
– Капитан, – приказал Враский, повернувшись к Любарскому, – доложите собранию последние телефонограммы.
– Вчера, 29-го октября, в Москве полковник Рябцев захватил Кремль. Юнкера разоружили большевицких солдат и удерживают практически весь центр города. Укрепились в Александровском, Алексеевском военных училищах, штабе Московского военного округа, в Лефортове, в здании Лицея и продовольственных складах на углу Крымской площади и Остоженки, в 5-ой школе прапорщиков в Смоленском переулке и в 6-ой школе прапорщиков в Крутицких казармах. Большевики отрезаны от всех районов города. – Любарский прервался, прокашлялся, словно ища новый голос, убедительный и злой. – К Москве подтягиваются красногвардейские части. Железнодорожный Военно-революционный комитет организовал охрану железных дорог Московского узла. Пропускают только те поезда, которые везут подкрепление бунтовщикам. Вокруг Кремля идут ожесточенные бои.
– Если немедленно погрузимся, к утру будем в Москве. Генерал, это исторический шанс! Мы должны переломить шею большевицкой гадине! – Сырцов резал воздух ладонью прямо перед носом начальника.
– Капитан, извольте присесть. Я не меньше вашего понимаю, что без нашей поддержки московские юнкера захлебнутся в крови, – отодвигаясь, сказал Враский. – Тарас Михайлович, – обратился он к капитану Протозанову, – какова обстановка в Харькове?
– Беспорядки. Самое дурное, что железнодорожные рабочие поддержали большевистский путч в Петрограде. Полагаю, главная трудность возникнет с отправкой эшелонов из Харькова.
– Как настроение в училище?
– Жалеют, что танцкласс отменили, – усмехнулся капитан Шмидт, кивнув в сторону
Любарского, который вел уроки танцев и традиционно назначался распорядителем знаменитых георгиевских балов.
Любарский страдальчески изогнул бровь.
– А ты, Григорий Трофимович, что скажешь? – обратился Иеремия Яковлевич к полковнику, который, пристроив на колене блокнот, что-то писал, подчеркивал остро отточенным карандашом.
– Специальный поезд надо требовать. В арсенале у нас полторы тысячи винтовок, шесть ящиков гранат, четыре станковых пулемета.
Враский пожевал губами, что-то считая про себя, опершись руками на стол, грузно поднялся и скомандовал:
– Адъютант, юнкеров в сборный зал на митинг.
Желтый походный саквояж вмещал немного: бритвенный прибор, кое-какой запас белья, полевой бинокль в чехле, пару книг, документы и шершавый почтовый пакет с фотографиями.
Дети играют в серсо. Женечка в свадебной фате с круглыми изумленными глазами. В парадном мундире выпрямился на стуле, уперев руки в колени, отец, за его несогнутой мощной спиной шестеро сыновей: золотые эполеты, витые шнуры аксельбантов, саперные серебряные галуны, зеленые юнкерские погоны. Александра. Бело-молочный силуэт в широкой шелковой шляпе, кофейная коляска у низкого крыльца. Не было на самом деле платье белым; многоцветье мелькало и кружилось перед глазами, когда он вспоминал, как первый раз привез семью в нежинское гнездо: неяркое, чуть насмешливое, нежное лицо жены, надменная посадка головы, отягощенной узлом каштановых волос, пятнистые тени под яблонями, невесомая рука в длинной перчатке с неровными жемчужными пуговками на его локте и сладостный запах вербены.
Два часа спустя Магдебург и Враский в походных шинелях поднялись на смотровую площадку училища. Облокотившись на балюстраду, они смотрели на высокий обрыв Донца, гостиные ряды на Никитской, кишащие торговым людом, Царский сад с походными палатками, паперть Покровского собора с облепившими ее инвалидами и попрошайкам. Перед входом в училище сновали юнкера, ловко и сноровисто, ухватывая по двое ящики с патронами, закидывали оружие в подводу.
– Посмотрите, генерал, на наших молодцов, – Григорий показал биноклем на белые платки, продетые под красные юнкерские погоны.
– Что это обозначает? – удивился Враский.
– Псковские кадеты обычай новый ввели. Так они демонстрируют преданность монархии.
Два батальона всю ночь простояли на перроне с винтовками за плечами и патронами в подсумках, готовые к бою. Харьковский совет отправил рабочие отряды разобрать железнодорожные рельсы, ведущие к Чугуеву. Специальный поезд не прибыл. Вместо него появились парламентеры. В переговоры вступил командующий войсками Харьковского района, которому формально подчинялось училище. Дискуссия между представителем уже несуществующего Временного правительства и харьковскими большевиками быстро переросла в сговор. Офицеры яростно требовали немедленно выступить походом на Харьков, захватить вокзал и вместе с бронеавтомобильными частями харьковского гарнизона идти на Москву. Уже потом, много лет спустя, в эмиграции, в Белграде, Париже и Буэнос-Айресе они будут перебирать каждый час этого дня и ужасаться, как военная привычка к подчинению не позволила им арестовать предателя, сознательно тянувшего время и бежавшего к красногвардейцам, как только стало известно о поражении московских юнкеров…
5
Лето 1918
В окно деревянной ротонды Офицерского собрания было видно, как над плавным изгибом Донца клубится пар и охристой громадой лежит Печенежский лес.
– Что Репин находил в этих ландшафтах? – серо, мрачно, скучно, – раздраженно сказал Барбович и заткнул за ворот салфетку. В центре круглого стола стояло огромное керамическое блюдо, на котором сверкали красными блестящими панцирями горячие раки.
– Еле доехал, – продолжал он, ловко вытаскивая из этой груды самую крупную особь, – дорогу от Харькова совершенно развезло, грязь непроходимая.
– Чего из напитков изволите, ваши высокоблагородия? – склонился над столиком официант.
– Подай пива. Иван Гаврилович, удалось с командиром дивизии встретиться? – спросил Григорий, разрезая щипчиками податливую клешню.
– С Федором Артуровичем Келлером виделись. Мы с Федором Артуровичем, – язвительно подчеркнул второй раз Барбович, – теперь частные лица.
…В мае 1917 года развращенный тыловыми агитаторами полковой комитет выразил «недоверие» своему командиру, полковнику Барбовичу. В феврале 1918 года после демобилизации 10-го гусарского Ингерманландского полка, «бывший командир» был направлен в распоряжение Харьковского военного округа. Генерал Келлер, командир 10-ой Кавалерийской дивизии, в состав которой входили ингерманландцы, отказался присягать Временному Правительству и с апреля 1917 года, находясь в резерве чинов Киевского военного округа, жил в Харькове.
В дверях собрания появился полковник Васецкий. Швырнул гардеробщику фуражку, стряхивая дождевую пыль с плеч, нашел глазами столик, сел и подвинул к себе тарелку с раками.
Официант, не спрашивая, поставил перед ним кружку с пивом. Сеточка пены пузырилась и лопалась, тоненькими ручейками стекая по запотевшему стеклу.
Барбович неторопливо и тщательно вытер пальцы салфеткой, вынул из кармана кителя сложенный вчетверо лист бумаги и протянул Васецкому:
– Читай.
«Прикажи Царь, придем и защитим Тебя».
– Понятно, – сказал Васецкий.
– Что тебе понятно? – рассердился Барбович.
– Понятно, какой ответ ты привез от Келлера. Корнилов для него – предатель и отступник. К Добровольческой Армии граф не примкнет и на Дон не поедет. [6]
– Отказ генерала Келлера повлияет на ваше решение? – поинтересовался Григорий.
– На рассвете мы подымаем полковой штандарт.
Дождь усилился, крупные круглые градины застучали о стекло, как пулеметная дробь.
– А ты чего в Чугуеве дожидаешься, Григорий? – спросил Васецкий.
– Я – не частное лицо. Меня никто не демобилизовывал. Я обязан воевать в рядах Русской Армии.
– Русская Армия – на Юге, – сказал «бывший командир».
…Конный отряд из 74 гусар выступил походным порядком из Чугуева в Добровольческую армию, ведя по пути бои с махновцами, постоянно увеличиваясь за счет новых добровольцев. Достигнув Мариуполя, отряд соединился с покинувшими Чугуев несколько ранее однополчанами. Вновь сформированный Ингерманладский гусарский дивизион Добровольческой Армии во главе с генералом Барбовичем был переброшен с Кубани в Таврическую губернию.
6
«Боевым сидением» назовет генерал Враский полтора месяца, когда училище, находясь в полной изоляции, искало союзников. Положение было невероятным: боеспособное, вооруженное, полностью укомплектованное военное подразделение оказалось никому не нужным.
В ноябре ударные отряды, сформированные ставкой верховного командования, покинули Могилев. Главкомверх генерал Духонин, оставшийся даже без конвоя, был арестован и растерзан красногвардейцами. Русской армии больше не существовало.
После жарких обсуждений чугуевские офицеры посылают гонца к атаману Донского войска Каледину. Капитан Шмидт вернулся через неделю, измотанный, осунувшийся, посеревший:
– Отказал атаман. Училище, говорит, морально поддерживает Харьковский район, и как только оно двинется с места, коммунистическая волна захлестнет весь край. Каледин, – горько пересказывал Шмидт офицерам, собравшимся в кабинете Враского, – благороднейший человек, но не только я, никто не может понять, какую Россию он собирается защищать. А самое главное, казаки за пределами своих станиц воевать не хотят, так что поддержки у него никакой от казачества нет, а даже, я вам скажу, враждебность. Многим, конечно, соблазнительно большевистское вранье про счастливую жизнь с общими бабами. Я даже не разочарован, – закончил капитан, – что мы с ним не воссоединились.
– Неужели казаки на большевицкую ерунду клюнут?
– На ерунду не клюнут, а воевать не пойдут.
Враский невесело улыбнулся, вздохнул, достал из шкапчика узкую янтарную бутылку, низенький граненый стаканчик. Налил, подвинул Шмидту.
– С дороги, капитан.
Подумал, вынул второй. Выпил, вытер ладонью усы.
– Со штабными поговорил, обстановку прозондировал? – спросил Зыбин.
Шмидт стукнул стаканом о столешницу.
– На Дон уходить надо. В Ростове Корнилов добровольцев собирает. К нему со всего юга офицеры стягиваются.
– Уходить? – побагровев, рявкнул генерал. – А Чугуев мы на кого оставим? На Аракчеева? Правду сказал Каледин – кроме нас, здесь других сил нет и не предвидится. На кирпичном заводе большевички рабочих распропагандировали, черт знает что в городе происходит. Рано нам еще отступать. К тому же, господа, мы получили положительный ответ из Киева. Грушевский заверяет, что Центральная Рада готова не только принять училище под свою власть, но и в случае необходимости оказать вооруженную поддержку.
– Воля ваша, Иеремия Яковлевич, но я русский офицер и воевать под флагом иностранного государства не намерен, – капитан Шмидт щелкнул каблуками, демонстративно взял под козырек и вышел, почти выбежал из кабинета.
Враский побелевшей рукой оттянул край тугого воротничка, как будто ему вдруг стало тяжело дышать. Обвел взглядом напряженные лица своих офицеров и прервал тягостное молчание дрогнувшим, негенеральским голосом:
– Господа! Предлагаю каждому принять решение в добровольном порядке.
До тусклой осенней зари 2-ой батальон полковника Кравченко в полной боевой выкладке покинул училище и двинулся к Дону.
Защищать Чугуев и весь харьковский район «от коммунистической волны» осталось 600 штыков.
7
На подступах к Чугуеву ранним утром 15 декабря 1917 года конными дозорными юнкерами были замечены три эшелона. Впереди шел локомотив с прожекторами и пулеметами, на платформах громоздилось два броневика и батарея трехдюймовых орудий. В вагонах – около тысячи балтийских матросов, рабочие харьковских заводов и энтузиасты-доброхоты с берданками. Возглавляли банду кронштадтский матрос Николай Ховрин, уже прославившийся к тому времени зверской расправой над офицерами крейсера «Алмаз», и Анатолий Железняков, вошедший позже в советскую пропаганду как «матрос Железняк». Чугуевцы были подняты по тревоге. Роты вышли на окраины и заняли позиции, за ними залегли пулеметные команды.
Батальон полковника Магдебурга принял бой у железнодорожного вокзала. Цепи молча поднимались, наклонившись, уворачиваясь от бьющей в глаза метели, бежали по насыпи, падали навзничь в сугробы, отстреливались. Убитых оттаскивали к семафорному столбу, и снег белым крылом заносил ставшие колом обледенелые полы шинелей и тихие розовые лица. Полковник по короткой чердачной лестнице взобрался на крышу станционного сарая, приспособленного под командный пункт. Вглядываясь сквозь снежную пыль в полевой бинокль, увидел, как обмотанные пулеметными лентами матросы сгружают с платформы трехдюймовку.
Обойдя с фланга растянувшийся на пять верст фронт чугуевцев, большевики вкатили орудия в город. На прямых, вычерченных петербургскими архитекторами улицах военного поселения загремела канонада. Один из снарядов ударил по фасаду училища и, отскочив от крепостной стены, как горох, взорвался в Царском саду. Другие беспорядочно ложились близ домов мирных обывателей.
В зале собраний Чугуевской городской думы беспрерывно идет экстренное заседание. Большевики взяли в заложники депутатов и угрожают сравнять город с землей. Чиновники, думцы, земские, купечество – вся городская общественность, сбившаяся в белоколонном особнячке, растерянная, испуганная обстрелом, умоляет генерала Враского прекратить сопротивление. Иеремия Яковлевич соглашается сложить оружие при условии, что офицеры и юнкера смогут беспрепятственно разъехаться по домам. «Но обещанная большевиками свобода личности, – свидетельствует капитан Сырцов, – продолжалась недолго: оставшиеся в городе офицеры были арестованы и отправлены под конвоем: часть – в Харьков, часть – в Москву».
Анатолий Железняков вернется в Петроград, где через двадцать дней навсегда прекратит работу Всероссийского Учредительного, прервав первое же его заседание словами: «Караул устал. Очистить помещение!»
Москаленко шел впереди, прихрамывая больше обычного. Он держался вместе с полковником с той минуты, когда Григорий Трофимович принял решение ехать в Екатеринослав: иного пути, как вернуться в свой полк, к феодосийцам, оба не видели. Принес со склада две неновые солдатские шинели, набил провиантом вещевые мешки и на самые уши натянул фуражку с картинно сломанным козырьком.
Снежный ветер студил спину. Геннадий Борисович на ходу раскурил цигарку и покосился на полковника. Сколь бы ни был близок фельдфебель к офицеру, но разделявшую их дистанцию прекрасно понимал. Магдебург резко мотнул головой. Позади, над Донцом, на крутом обрыве, башенные часы белой аракчеевской крепости ударили полночь.
В проходящий харьковский втиснулись с боем. В купе лежали, сидели, кутаясь в башлыки, выбегали на станциях за кипятком с десяток солдат, возвращающихся с фронта. Григорий, бегло взглянув на сосредоточенные молчаливые лица соседей, узнал своих, фронтовых офицеров, прибегнувших к такому же спасительному маскараду, и только коротко кивнул, когда Москаленко, вдруг охнув, зашептал ему в ухо:
– Смотрите, Ваше благородие, они же все белая кость.
Железнодорожная ЧК обыскивала дважды и дважды не заметила револьвер, который полковник, не таясь соседей по купе, сунул на спину за ремень.
На третьи сутки добрались к Екатеринославу. Спрыгнули с подножки, не доезжая до города, на железнодорожном переезде; окраинами, не заворачивая на пустые неосвещенные улицы, двинулись к дому. Свернули на Жуковского, к голому, остекленному морозом вишневому палисаднику. Москаленко, перегнувшись через изгородь, открыл скрипнувшую калитку. Григорий подошел к окну, рукавом шинели протер изморозь и заглянул внутрь.
Александра с дочерью сидели за маленьким столиком, склонившись над шитьем. Две одинаковые каштановые головки сближались, что-то высматривая на бледно-желтых в неверном электрическом свете лоскутах, губы беззвучно шевелились, улыбались, смешно вытягиваясь уточкой, влажнили нитку; под розовой бахромой абажура, забравшись на стул с ногами и высунув от усердия язык, Валера оборачивал в фольгу грецкий орех. Маленькая серебряная горка уже лежала, как пушечные ядра, под хвойной веткой, угнездившейся в низкой фаянсовой вазе. В глубине дома хлопнула дверь. Александра ладонью подхватила ослабевший, распадающийся узел, ловко вставила гребень и подняла лицо.
8
Казначей уровнял рукой сложенные рядами пачки денег и опустил крышку саквояжа. Из банки, заплывшей твердыми шоколадными полосками, вылил сургуч и с силой вдавил училищную печать. Зыбин, Колпаков и Враский поочередно расписались под актом.
– Спасибо, Николай Николаевич, можете идти.
Быстрыми убористыми движениями казначей прибрал бумаги в портфель, подхватил шинель и исчез за дверью.
– Иннокентий Андреевич, вы твердо решили остаться? Повторяю, у меня в коляске два свободных места.
– Екатерина Дормидонтовна не согласится дом без присмотра оставить. А кто будет моего пони выезжать?
– Неподходящий момент для шуток, Зыбин.
– Не шучу. Пока эта банда занята грабежами, им не до нас. Чугуев городок богатый, сытый – меньше, чем за три дня, не управятся. Я за это время успею приготовить для всех документы, отпускные свидетельства и уничтожить архив.
Враский угрюмо поднялся, и резким, устраняющим движением махнул рукой, словно отталкивая от себя неизбежность:
– Училищную кассу я оставляю на ваше усмотрение, генерал Зыбин. Укроете, где сочтете возможным.
– Я могу идти, Иеремия Яковлевич? – спросил Колпаков и потянулся за брошенной на стул шинелью.
– Погодите, капитан. Есть еще одно дело. – Враский протянул руку и скользнул ладонью по гладкому древку укрепленного у стены знамени. – У вас в роте есть доверенный юнкер из местных, чугуевских?
Когда капитан Колпаков вернулся со стриженным «под ноль» высоким юнкером с ясным малороссийским лицом, белое шелковое полотнище, уже свернутое, лежало в железном ящике из-под денежной кассы.
– Господа, – Враский обратился к стоящим вокруг него усталым мужчинам в шинелях со споротыми погонами. – Обстоятельства, вам известные, вынуждают нас покинуть училище, но наше знамя не должно попасть в руки противника, – он опустил крышку и плотно завинтил замки. – Юнкер Левченко, ты один будешь знать, где находится знамя. Храни тебя Святой Георгий.
Юнкер негнущимися руками поднял холодный металлический ящик, медленно, глядя неотрывно в глаза генералу, стал отступать к двери. Правой рукой упирая в себя острый край, левой он нащупал холодную латунь ручки, нажал. Их разделил порог; дверь пружинно закрылась сама, нарушив почти осязаемую связанность взглядов.
Левченко бежал мимо сложенных костром винтовок, груды сломанных штыков и развороченных пулеметов, по заледенелому скользкому плацу к Царскому саду. Стрельба, визг, звуки какой-то гнусной возни неслись со стороны Никитской – видно, грабили торговые ряды. Он вышел к обрыву. Голый мерзлый кустарник террасами спускался к реке. Туман висел над Донцом, и только справа черным неровным контуром виднелась Майорская гора.
«Знамя есть священная хоругвь, под которой собираются все верные своему долгу воины и с которою они следуют в бой с врагом. Знамя должно напоминать солдату, что он присягал служить Государю и Родине до потери самой жизни…»
Так холодно ему не было никогда. Небо побелело и выпрямилось перед ним, узкие снежные облака нависли низко и грузно, как шелковые складки. Линия, разделяющая небо и гору, напряглась, сдвинулась, обрела форму, наполнилась снегом, светом и темнотой. Сверкающий конь с всадником оттолкнулся копытом и по ровной дуге взлетел над замерзшим Донцом. Левченко стащил фуражку со стриженой головы, стиснул в кулаке и до боли вдавил ее в грудь.
«Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием, в том: от команды и знамя, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду…»
9
Генерал Зыбин, автор классического учебника по военной топографии, руководитель союза чугуевских офицеров в эмиграции, оказался прав в своих расчетах: три дня понадобилось красным, чтобы растащить все, что было накоплено за полувековую историю училища. Особенно налегали они на огромные склады с оружием, обмундированием, провиантом. Вместе с местными борцами за светлое будущее тащили мебель из классов, кровати, подушки из госпиталя, посуду из столовой, разворовали даже книги из библиотеки – вероятно, на растопку. Отправив в Харьков 62 подводы с добычей, принялись за сытый городок Чугуев – островок благополучия в дочиста ограбленной округе. Угоревшая от безнаказанности, даровой жратвы и выпивки толпа, наскучив мародерством, требовала «пустить буржуям кровь».
Несколько десятков офицеров-чугуевцев, избежав первых арестов, задержались в городе. Юнкера из местных, особенно те, у кого в Чугуеве оставались семьи, похоронив убитых и замерзших в ночь после боя, прятались по крестьянским избам в окрестных селах.
…Город замер, притаился за ставнями. По Никитинской в широченных клешах и женской донской шубе бежал, спотыкаясь, матрос и истошно орал: «Казаки! Драпай, братва!»
Из леса на противоположном берегу Донца высыпала казачья лава и с пиками «к бою» ринулась в атаку на город.
Драпали, роняя на мостовые мешки, меховые шапки, свернутые в трубочку ковры, драпали, даже не отстреливаясь, драпали к вокзалу, к эшелону, запрыгивали в вагоны, по-товарищески расталкивая друг друга локтями. Лязгнули буфера. Влетев на перрон, казаки проводили уходящий поезд винтовочными выстрелами.
Их было всего двадцать два. Неоседланные крестьянские лошадки, вырубленное в утреннем лесу «оружие», а под полушубками – пыльно-коричневые гимнастерки с ввинченными насмерть чугуевскими значками: на белом фоне всадник в красном плаще и с черной, огненной пикой.
Маленький отряд развернулся и рысью, как на параде, поскакал к училищу. Левченко спрыгнул с коня, обмотал поводья за перила и взбежал по каменным ступенькам.
Сжигаемые стыдом, шли офицеры по оскверненному дому.
10
Совет Народных Комиссаров принимает декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря». Согласно ему, после 31 января 1918 года следует считать не 1 февраля, а 14-е. Во избежание путаницы предписывается после числа каждого дня, указанного по новому стилю, в скобках писать число по старому. Население, ошеломленное беспощадной действительностью и райскими коммунистическими перспективами, сбито с толку и теряет счет времени.
Река Днестр
Развал русских вооруженных сил отдал в руки румын Бессарабию. Расширяя оккупационную зону, пехота Королевы Марии неуклонно приближалась к Днестру. Кишинев, кроме небольших частей старой армии, прорвавшихся из Румынии и осевших в районе Бендер, защищать было некому.
Оставаться под румынами Зинаида Людвиговна боялась. Она, надо сказать, совсем растерялась: наскоро заколов пушистые волосы, лихорадочно ездила с визитами, пытаясь уловить смысл из разноголосицы слухов и ахов таких же перепуганных знакомых; зашивала в подол небогатые колечки; рассчитала прислугу – белолицая толстая гагаузка Матрена, забрав жалованье за месяц вперед и набив зиночкиным батистовым бельем фанерный чемодан, растворилась в сыром январском утре; поминутно честила дворничиху, нанимаемую теперь на черные работы, а вечерами, прижав к вискам тонкими длинными пальцами смоченный уксусом платок, падала в кресла и сердилась на мужа:
– Надо перебираться, Аркадий! Как мы будем жить в иностранном государстве? Какое образование Коля получит, румынское?
Аркадий Нелюбов сам неважно понимал, как уберечь семью, когда рушился, уходил из-под ног привычный мир, и от этого раздражался еще больше.
– Куда же прикажешь перебираться?
– Как куда? В Петербург. У меня там братья, у тебя – семья, отец, в конце концов.
– Большевики в Петербурге, Зина.
– Большевики ненадолго. Ну, на неделю-другую. Может быть, на месяц.
– Зина! Что ты несешь?! – Аркадий, обхватив голову руками так, что жесткие волосы торчали между пальцами как щетки, вскакивал из-за стола и длинными шагами мерил комнату от окна к креслу, где, надув губы, ежилась жена. – Я – потомственный дворянин, в Петербурге мне дорога от вокзала до первой стенки!
– Тогда я сама с детьми поеду.
– Что, Зиночка, отыгрываешься? Детей меня лишить хочешь?
Зинаида рыдала. Мучительные разговоры с упреками, нюхательными солями и реминисценциями о пропавшей в сибирских снегах молодости, после которых Зина, истощив обидный запас, укрывалась в детской, а Аркадий досиживал ночь в опустевшем кресле, до рези в глазах вчитываясь в потерявшие смысл и значение бумаги – этот, давно выматывающий их обоих надрыв, завершился неожиданно быстро.
Зинаида Людвиговна с сыном отправились в столицу, а Аркадий с десятилетней Женечкой остались в Бессарабии. Расстались горько. Зина плакала не скрываясь. Дети, насупленные, оглушенные невиданной круговертью, жались друг к другу, а отец гладил Колю по голове, как маленького, и сам, как маленький, жмурил глаза и бормотал: «Все образуется, все образуется».
…Не образуется. Зинаида, милая и своевольная красавица Зинаида, как и предсказывал муж, едет на смерть: она погибнет в 1919 году от сыпного тифа. Блокадной зимой 1942 их сын, Николай Нелюбов, истощенный голодом, не удержится – выпьет олифу и умрет в цехе завода «Электросила».
Аркадий Нелюбов с дочерью исчезнут, растворятся в боярской Румынии.
11
3 марта (16 февраля) в Бресте большевики заключили мир со странами Четверного союза: Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. По договору Советская Россия уступала территории с населением 50 миллионов человек. Отторгнуты Польша, Прибалтика, Финляндия, Украина, часть Белоруссии, кроме того, Турция аннексировала часть земель в Закавказье.
Река Нева
Вернулся из Пскова Александр. Явился домой в шинели с красным бантом, обнял Шурочку:
– Революция! Начинается счастливая жизнь!
– Подожди, еще покажут тебе большевички. – Шурочка опустилась на крутящийся стулик у рояля и отвела взгляд. – Ты друга своего, Володю Герда, уже навестил?
Учителя, студенты педагогических семинарий и институтов, гимназисты-старшеклассники, политизированные и энергичные, втягивались во все модные революционные преобразования: записывались в отряды милиции (боялись, правда, темноты и циркулировали только по центральным улицам), разъезжали пропагандистами по фронтовым частям и деревням, руководили бесчисленными комитетами и ячейками. Но даже они, с их идеалистической широтой и горючим энтузиазмом, были отрезвлены Октябрьским переворотом. Учительский Союз, где одним из главных идеологов состоял Владимир Герд, влился в разношерстую антибольшевистскую демонстрацию сторонников Учредительного собрания. Пестрая лента, извиваясь, тянулась по Невскому проспекту к Смольному; взлохмаченная голова Герда виднелась в первых рядах; ни на минуту не ослабев рукой, он нес знамя Учительского союза, не выпустил его и когда застрекотали пулеметы, когда толпа, содрогнувшись, как единый человек, отхлынула и брызнула в переулки.
На залитом липкими пятнами тротуаре, из-под бегущих ног вырывая раненых, покалеченных учителей, оттаскивая их по одному, по два в подворотню, заслоняя плечом от напирающей толпы; опускаясь на колени над белым до синевы личиком курсистки, преподавательницы французского языка, которую он сам утром привел на это чертово шествие и которая лежала теперь перед ним в безобразно разорванной блузке, с неестественно вывернутой шеей, Герд понял: все кончилось, навсегда, бесповоротно.
Весной 1918 года Учительский Союз объявляет забастовку по всей стране. Школы закрыты, дети от души радуются наступившим раньше летних дней каникулам. Школьная система и без того дышит на ладан. Герд ездит из Петербурга в Москву, в другие города с тем, чтобы, пользуясь своим безусловным профессиональным авторитетом, убедить учителей возобновить занятия. Руководить Путиловским училищем он оставляет своего коллегу и друга Александра Савича.
По школам разослали правительственное постановление: «В целях облегчения широким массам усвоения русской грамоты и освобождения школы от непроизводительного труда при изучении правописания, Совет Народных Комиссаров постановляет: все издания, документы и бумаги должны с 15 октября 1918 года печататься по новому правописанию».
– Реформа назрела давно. Пришли решительные люди и претворили ее в жизнь. Расставили точки над i! – обрадовался Александр.
– Над чем, Саша? – усмехнулся старший брат. – Нет больше «i с точкой». Пять букв из кириллицы изъяли. Что следующее? – Кирилла с Мефодием отменить?
– Ты напрасно преувеличиваешь, Миша. Кроме того, ясно сказано: «При проведении реформы не допускается принудительное переучивание тех, кто уже усвоил прежние правила».
– Они какие-нибудь другие меры, кроме принудительных, знают? – пожал плечами Михаил.
На следующий день силами матросских патрулей в столичных типографиях из наборных касс были изъяты приговоренные буквы. Типографы в нужных местах, даже в столь любимом реформаторами слове «съезд», вместо разделительного твердого знака начали ставить апостроф. Так и писали: «об’явление».
«ОБ’ЯВЛЕНИЕ. Учебное заведение именуется Единой трудовой школой 2-х ступеней», – прочел декабрьским утром 1918 года Михаил Людвигович на листке, вывешенном на дверях 3-ей гимназии.
Теперь он добирался в школу на Гагаринской пешком: по Каменноостровскому, через Троицкий мост, Марсово поле, мимо Летнего сада – трамвайное движение исчезло еще раньше буквы «ять».
Зима, как нарочно, как всегда случается при больших российских бедах, выдалась морозной.
Ученики ломали брошенные и опустевшие деревянные дома, тащили на плечах обломки и доски на Гагаринскую, чтобы немного согреть холодные классы.
Мор, голод, террор.
С декабря 1917 года по август 1920 общая численность населения в Петрограде сократилась с 1 миллиона 900 тысяч человек до 722 тысяч. Топливный кризис, закрытые заводы, неосвещенные улицы, брошенные дома. Петроград совсем обезлюдел.
Печальные спутники социальных катаклизмов: эпидемии тифа, дизентерии, холеры – навалились на город: с ними не справлялись ни больницы, ни кладбища.
Заболела и умерла Зинаида Людвиговна, Зиночка. Никакие старания Евгении Трофимовны удержать детей в чистоте не уберегли Тамару от заражения тифом. В больницу девочку везти отказались: тифозные бараки были так переполнены, что больных укладывали прямо на пол, да и лекарств все равно не было. Михаил Людвигович сутками сидел у Томиной кроватки, меняя на ее разгоряченном лбу мокрое полотенце, а Евгения Трофимовна жгла в буржуйке завшивленное белье.
Эпидемия захватила Путиловское училище, ученики выбывали из классных журналов, как будто их имена стирались с доски нетерпеливой рукой дежурного; состояние Юлии Герд, которая несколько дней металась в жесточайшем жару и бредила, вынудило Александра Людвиговича вызвать ее мужа из Москвы.
По городу шлялись вооруженные солдаты и матросы с расширенными от кокаина зрачками; уголовники, выпущенные новой властью навстречу светлым идеалам, вламывались в квартиры, даже не прикрывая бубнового туза на арестантских куртках: «Конфискуем в пользу революции!», и рассовывали по карманам серебряные ложки. Каждый день в ГОП (Городское общество призрения) свозили тысячи беспризорников – ничтожную частицу чумазых стай, облепивших ночные костры на знаменитых питерских проспектах.
«В самые тяжелые моменты голодного существования учительство не ушло из школы, вывезло ее», – напишет позже Александр Савич. В 20-е годы в Петрограде педагогам не до новых идей. Не оставляя занятий в обычных гимназиях, теперь переименованных в школы, они спасают беспризорников – собирают их в детские дома, трудовые колонии, сельскохозяйственные школы. Александр Савич при Путиловском открывает детскую колонию, детский сад, теперь училище принимает детей от 3 до 18 лет. Петр Герман создает трудовую колонию «Новь» и при ней школу с сельскохозяйственным уклоном. Его дочь, Вера Герман, отмывает сирот в детском приемнике-распределителе. Виктор Сорока-Росинский формирует ставшую впоследствии знаменитой благодаря ее талантливым выпускникам «Республику ШКИД». Михаил Савич преподает в детском доме для дефективных детей.
В опустелом, пропахшем воблою Петербурге, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах, они приходили в класс, брали в руки указку, раскрывали классные журналы, читали с выражением басни Крылова, делали гимнастику, искали на глобусе Канин нос, растолковывали правило буравчика озябшим питерским ребятишкам.
12
Ранним вечером Евгения Трофимовна копошилась на кухне, разжигая острой, занозистой щепой буржуйку. Горело плохо, обмороженные дрова шипели, едкий дым ел глаза. Насторожившись, она подняла голову и различила слабый, осторожный стук в дверь черного хода.
Павел! Ни следа былого лоска. Засаленный, перевязанный кушаком, как у извозчика, тулуп, обвислый шарф обмотан вкруг поднятого воротника, низко надвинута на лоб войлочная шапка. Осунувшийся, беспокойный.
– Женечка, пришел прощаться: полковник Магдебург отбывает из Петрограда.
– Господи, Павел! Куда же ты собрался? На Украину, к братьям?
– Я слышал, Чугуевское училище разгромлено. Бог весть, жив ли Григорий.
– Ни от кого из родных вестей нет. Последнее письмо от Володи получила в ноябре, сразу после переворота. Сядь, Паша, поешь горячего кулеша – помнишь, мама варила.
Евгения Трофимовна открывала дверцы буфета, искала там, шаря рукой по полупустым полкам, заворачивала в платок и совала в карман затрапезного тулупа какую-то снедь; достала и снова засунула в жестяную банку никому теперь не нужные керенки, принесла вязаные варежки и опустилась, наконец, на стул рядом с братом, положив ласковую ладонь на его спину с острой, выпирающей сквозь гимнастерку дугой позвонков.
– Паша, где Лора?
– Не спрашивай, Женя, не спрашивай. – Павел вздрогнул всем телом и ткнулся лбом в теплое плечо сестры. – Нет больше Лоры.
…Павлу Трофимовичу рассказала дворничиха, сбивчиво и боязливо шепча через цепочку в едва приотворенную дверь, когда он добрался до Петрограда с остатками своего полка. Мне – моя бабушка. Я, молодая вертихвостка, ничего из ее рассказов не записывала, но сейчас, перебирая бумаги со стертыми краями и крестами сгибов посредине, вижу, как бывшие со мной, ясные, проявленные памятью картины.
…Спотыкаясь, скользя по мокрой булыжной мостовой, по бурым, набухшим дождевой водой и слякотью листьям, бежит Лора; золотые волосы сыпятся из-под сползшего платка, липнут ко лбу, лезут в глаза; бежит, вжав в себя розовый плачущий кулек, обхватив его окоченевшими руками, закрывая плечами, ключицами, онемевшим лицом. Пьяная матросня улюлюкает и палит ей в спину.
– Куда же ты теперь, Павел?
– На Дон, к Корнилову.
На приграничных с Донской областью станциях с декабря были установлены прочные заслоны, бдительный контроль. Офицеров-добровольцев, которые со всей России стеклись к Ростову и Новочеркасску, задерживали, арестовывали, убивали. Выправленные правдами и неправдами фальшивые документы не помогали: осанка, жесткий взгляд, образованная речь – все это резко отличало их от тех, кто заполнял в то сумбурное время вагоны, теплушки, железнодорожные станции. Патрули, бегущие с фронта солдаты, красногвардейцы, классовым чутьем безошибочно выделив «золотопогонника», выкидывали его с поезда на полном ходу. Тысячи и тысячи офицеров, растерзанные толпой на полустанках, изувеченные, с выколотыми на плечах погонами, погибали, не доехав до своих, до Дона…
Нам неизвестна судьба Павла Трофимовича Магдебурга. Не знаем и о его старших братьях – Василии, Якове и Константине. Их имен нет среди галлиополийцев, не встретили мы фамилию Магдебургов и среди многочисленных союзов русских офицеров в эмиграции, нет их и в тех списках, в которых обнаружили мы имя Григория Трофимовича…
13
Украина казалась оазисом, убежищем, неиссякаемым рогом изобилия. Кругом хлопотали о выезде. Затравленные петербуржцы неожиданно находили в себе украинскую кровь, нити, связи. Савичам искать не приходилось. Связи, нити, кровь, живые и теплые, не прерывались никогда.
Глядя на заострившиеся личики детей, усталую, померкшую жену, Михаил Савич решил отправить семейство в Белую Церковь – небольшой городок на берегу реки Рось, от Киева примерно в 80 километрах, где когда-то служил его отец, Людвиг Федорович. О столичном образовании для детей сожалеть уже не приходилось: «Трудовая школа (б. Ларинская гимназия) удостоверяет, что ученик Савич Борис занимался трудом по переноске и установке парт, столов и проч. предметов школы.
Временно заведующий Трудовой школой Н. Добычин».
На стол временного Добычина легло прошение «от преподавателя Трудовой школы, б. 3-ей гимназии М. Л. Савича»: «Ввиду семейных обстоятельств и болезни прошу дать отпуск сыну моему Борису для оздоровления».
Собирались впопыхах, спешили. Особенно ничего и не нажили на Гатчинской, но все, что Женечка привезла из родительского дома, вышитые красными петухами полотенца и даже кишиневскую шкатулку, пришлось бросить. В чемодан, который Женя могла поднять без мужниной помощи, едва уместились детские вещи. Евгения Трофимовна начала было перекладывать в саквояж пачки с письмами.
– Женечка, подумай, куда тебе лишняя тяжесть?
– Лишняя? – Женечка подавила вздох, и, перебрав по одной, переложила фотографии из шкатулки в жестяную коробку от конфет «Жорж Борман».
Муж промолчал.
Билет удалось достать, дежуря несколько дней у касс Николаевского вокзала, в вагон второго класса. Едва выехали за пределы Петербургской губернии, как поезд остановился. Пассажиры со всем скарбом высыпали на платформу. К вечеру подогнали другой поезд, набитый народом до отказа. Евгения Трофимовна затолкнула детей на верхнюю полку, сама же так и просидела, стиснутая между теткой-мешочницей, ни разу не размотавшей пухового козьего платка, и приличного вида господином в пальто с потертым бархатным воротником и новых, даже щеголеватых, валенках. Выбегала на остановках, суетливо оглядывалась, тревожась, что поезд отправят без объявления, металась по вокзальным буфетам, вымогая, выпрашивая, выменивая то кусок булки, то сушеную рыбу, то битые яблоки.
На украинской границе трясли и требовали каких-то бумаг. Она снова бегала по станции, хлопотала, плакала, уговаривала, отчаянно тыча рукой в окно, где на перроне, нахохлившись, караулили чемоданы стриженные наголо дети.
Наконец, забились в товарный вагон. Устроившись на чемоданах, вместе с невеселым «табором» петербургских актеров, тоже бежавших в Киев, смотрели в полуоткрытую дверь вагона на мелькающие мимо пустые станции с наскоро приколоченными украинскими надписями.
14
Река Рось
Ничего не скажешь, тихое местечко выбрал Михаил Людвигович для своей семьи, чтобы пересидеть гражданскую войну: власть в Белой Церкви переходила из рук в руки 16 раз.
Телеграмма начальника оперативного управления Украинского фронта: «Нами 21 февраля 1919 года занята Белая Церковь» означает, что Красная армия выбила из города петлюровцев.
Из сводок губернского комитета КП(б)У: «16 мая. В Белой Церкви при исполкоме открылись курсы инструкторов-организаторов Советской власти на местах».
«31 июля. Список предприятий, национализированных на сегодняшний день в Белой Церкви:
1. Завод Менцеля
2. Мельница Ниренштейна
3. Мельница Айзенштейна».
Инструкторы-организаторы продержались не особенно длительное время: 30 августа в Белую Церковь вошли подразделения Добровольческой армии Деникина. 15 октября вернулись красные. 20 ноября – снова добровольцы.
Из сводок губернского комитета КП(б)У: «25 декабря. В районе Белой Церкви восставшие крестьяне образовали революционный отряд численностью до 3000 чел. при большом количестве орудий и пулеметов. В связи с этим белые очищают Белую Церковь».
Следующая сводка: «В ночь на 26 декабря красными войсками взята Белая Церковь. Захвачено 11 паровозов, около 1000 груженых вагонов и масса других трофеев, не поддающихся пока учету».
Учет и прочие мероприятия большевики смогли проводить только четыре с небольшим месяца: 6 мая 1920 года им пришлось уступить Белую Церковь польским легионерам. Июньская сводка губернского комитета уже гласит: «В Белой Церкви производится перерегистрация членов профсоюзов. Началась работа среди женщин и молодежи. Польская оккупация подготовила хорошую почву для агитации, и везде царит воодушевление».
«Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет…»
А. С. Пушкин,
15
Маркизова лужа
Кронштадт – больше символ флота, чем даже Санкт-Петербург, твердыня и оплот Империи на северных морях. Не яхты и лодочки качались на рейдах, а миноносцы и крейсеры в серо-голубой броне. По обманчивой глади сновали к гранитной пристани катера линейных кораблей. Морской собор, купол которого был виден в ясную погоду чуть ли не с Невского, и утром и вечером наполняли щегольские кители, голубые гюйсы, фуражки на сгибе локтя и белые перчатки на золотом эфесе кортика.
…Отсюда, из тяжелой броневой скорлупы, из тесного пространства башен, адских кочегарок, сырых и скученных кубриков, отсеков, заставленных тысячами стальных приборов, – сойдут на берег, как пираты с захваченных у испанцев галионов на безмятежный остров в Карибском море, балтийские матросы. «Мы из Кронштадта» – ошалевшие от долгих сидений в дрейфе, от гнусной мужской жизни, от муштровки и боцманских свистков, обученные убивать и полуграмотные. С цигаркой в зубах: «нас мало, но мы в тельняшках» – они будут выкидывать за борт офицеров, перед которыми вытягивались во фрунт и драили палубу, врываться в лазареты и колоть штыками раненых, глумиться над сестрами милосердия – станут убойной силой революции, ее олицетворением. Они даже не обольщались – пиратам не нужны были обещанные большевиками мир и земля. Вседозволенности хватало выше головы.
Земли и мира, которые сулили красные «посульщики», ждали крестьяне. Ради этих тщетных надежд они бросили фронт, жгли помещичьи усадьбы, избегали мобилизации в Белую Армию. К 1921 году деревня вместо «вечной крестьянской мечты» о собственной земле и мире без начальства получила военный коммунизм, продразверстку и комиссаров с их фирменными приемами: маузером и голодом.
Кронштадтский гарнизон, который к этому времени состоял из вновь мобилизованных крестьян, подымает восстание. С фронта снимают карательные войска, которые берут штурмом мятежную крепость. Оставшиеся в живых моряки и горожане ночью, волоча на себе детей и тележки с жалким скарбом, по льду уходят в Финляндию, в Терийоки.
В каменные казематы Петропавловской крепости с маленькими, на уровне невской воды, оконцами запихивают всех, кто имеет призрачное отношение к восстанию; Терийоки пока далеко – приходится хватать родственников, крестьян со схожими фамилиями, моряков, флотских офицеров, гардемаринов.
…Евгений Долинский, освобожденный в конце 1922 года, подняв до ушей воротник побуревшего, провонявшего нечистотой и нечистотами бушлата, брел по заплеванной брусчатке Петропавловки; тяжелые ворота с неровным пятном на месте сорванного герба закрылись за ним, оставив позади Трубецкой бастион и год жизни в камере, забитой измученными людьми.
Беспощадно подавив мятеж кронштадтцев, большевики объявили новую экономическую политику – после расстрела оставшихся в живых участников восстания, после массового выселения из города жителей и арестов «зачинщиков», непременно с позиции силы: ни в коем случае не могли они продемонстрировать, что отказались от террора под влиянием народных восстаний.
21 марта газеты опубликовали решение X съезда ВКП(б). Крестьянам позволили торговать, разрешили мелкое частное предпринимательство.
16
– Миша, ты знаешь, я сам – сторонник прогрессивных идей. До переворота с Министерством просвещения бесконечно спорили. Сейчас, смотри, в наборе этого года во всех ступенях одни только дети рабочих. Казалось бы, «свобода, равенство, братство» – почему нам работать не дают? За что Герда травят? Володя спас училище! Если бы не он, просто померли бы все за эти годы. Питательные пункты, учебники бесплатные, дрова для учителей – это же все его заслуга. Учебный процесс ни на день не остановили! Да что там говорить! – Александр махнул в расстройстве рукой и полез в карман за папиросой.
– Меня, Саша, убеждать не надо, я Владимира Александровича знаю и ценю много лет. Успокойся и расскажи толком, что в училище происходит.
– Началось с того, что уволили алкоголика-коммуниста. Помнишь, я упоминал как-то – пьянствовал, дебоширил в учительской. РОНО, конечно, приняло его сторону.
– У вас, насколько я знаю, хорошие отношения в Наркомпросе – Лялина, Крупская, сам Луначарский вас поддерживает.
– Жалует царь, да не балует псарь, – вздохнул Александр. – Наше РОНО, я уж не говорю про ГПУ, оказалось посильнее, чем московские «гуманисты». Ко всему прочему, ты знаешь, повсеместно организуются комсомольские ячейки.
– Знаю, конечно, – кивнул старший брат. – К вам тоже кого-то прислали?
– Два активиста из старшеклассников сами вызвались. Двоечники, прогульщики, мутят коллектив, отвлекают от учебы. Самогон приволокли на занятия, младшеклассников втянули. Все им с рук сходит. На свои комсомольские собрания учителей не пускают. Герд заявил на заседании РОНО, что не позволит выделять кого-то из учеников, что даже в царские времена в Путиловском училище соблюдался принцип равенства.
– Они уверены в полной безнаказанности, у них за спиной РОНО, ГПУ, Смольный. А что педсовет решил?
– Отстранил от учебы, как по уставу. Эти двое попытались подбить учеников на забастовку: листовки рассовывали по партам, двери школьные заперли. Правда, фабричных ребят сбить с толку трудно, они учиться хотят. Вот такие дела, брат, – заключил Александр. – Все наши «прогрессивные школы» либо закрыты, либо перепрофилированы…
– Добро бы взамен что-нибудь путное предложили… – подхватил Михаил. – Пришло распоряжение из РОНО: в детдомах ввести самоуправление. Детишки по три, по четыре года прожили по притонам, среди нищих и сутенеров. Ложку держать разучились. Отмыть, белье чистое постелить, грамоте научить, книжку в руки дать! Нет! – в первую очередь самоуправление. К чему это приводит? К созданию воровских шаек. Авторитет для них – не учитель, а главарь.
Так, невесело перебирая свои тревоги, братья прогулочным шагом шли по весенней Гатчинской. Сквозь редкую листву просвечивало скромное петербургское солнышко.
– Мне, Михаил, твой совет нужен. В подмосковном Болшево открывают трудовую колонию. Признаюсь, меня приглашают туда директором.
Михаил Людвигович расстегнул, доверясь обманчивому апрельскому теплу, верхнюю пуговицу, которая тут же повисла уныло на черной суровой нитке и раскачивалась, как маятник под циферблатом, в такт его шагам.
– Езжай, Саша, спасай семью. Путиловское училище явно у них на заметке.
– Доведу выпуск и поеду. Торжества намечаются: спектакль по Эсхилу, марш перед школой, – не могу ребят бросить. А согласие дам прямо сейчас.
Через 15 дней после торжественного выпуска с Эсхилом Владимир Герд был арестован. Шесть недель его продержат в тюрьме на Гороховой, в одной комнате с шестьюдесятью другими арестованными. Без возможности вымыться, без прогулок, без свежего воздуха. У него начнется цинга. 1 сентября 1923 года его перевезут на Лубянку. ОГПУ приговорит его к двум годам ссылки в Краснодар. Дзержинский объяснял мотивы высылки так: «Мы не можем обвинить Герда в чем-то определенном, но нам ясно, что он наш противник, и поэтому он будет мешать нам, если он останется там, где он пользуется влиянием».
Владимир Александрович умер в Краснодаре в 1926 году от разрыва сердца.
…Арест Герда был предвестником судьбы преподавателей, к кругу которых он принадлежал. К 1930 году многие деятели образования или полностью отошли от дел, или были арестованы.
Петру Александровичу Герману повезло. Он скончался в 1925 году после тяжелой продолжительной болезни на руках любящих родственников. Его дочери Вере Петровне, сослуживице Александра Людвиговича, инкриминируют связь с белыми эмигрантами и наличие у ее отца до революции земли в Пензенской губернии. Веру Герман сошлют на Соловки, где она встретит будущего мужа Николая Фурсея, выдающегося северного художника; Николай будет арестован дважды. В 1942 году военный трибунал НКВД приговорит его к расстрелу: «восхвалял вражескую культуру, немецких композиторов. Баха, Бетховена, Моцарта называл гениями». Вера скончается в том же году от сыпного тифа…
…Семь лет возглавлял Александр Людвигович Болшевскую школу № 1, преподавал на летних курсах, занимался переподготовкой учителей, писал научные статьи…
17
«Удостоверение об увольнении. Выдано преподавателю 8-й Советской трудовой школы (бывшая 3-я гимназия, меняя имена, успела за это время еще и 33-ей трудовой побывать) Савичу М.Л. ввиду настоятельной необходимости поехать на Украину в Киев к находящейся там в бедственном положении его больной жене с детьми».
Билет куплен в один конец. Поживет, как получится по обстоятельствам, в Белой Церкви, отдохнет, придет в чувство. Кашель с зимы 1919 года так и не проходил, только усиливался, и сердце стало пошаливать.
В своих мемуарах бывший ученик единой трудовой Борис Окунев напишет: «Русский язык в нашем классе вел Михаил Людвигович Савич. Недолго пробыл этот чудный человек у нас; обстоятельства заставили его покинуть Петроград; он уехал на юг, к себе на родину. Помнится, с какой болью в сердце провожали мы его от себя; помнится, как много теплых, задушевных слов было сказано с той и другой стороны. Едва сдерживая слезы, простились мы с человеком, который сумел вдохнуть какие-то неуловимо прелестные образы и глубокие мысли в скучные былины и народные песни, сумел сделать так, что ни один человек в классе, во всем классе от первых парт и до камчатки, не смел пошевельнуться на уроке: затаив дыхание, каждый слушал, как очарованный, простые, идущие прямо от души, проникнутые горячей любовью к нам, слова Михаила Людвиговича».
Спустившись с саквояжем по черной лестнице – парадный вход был давно заколочен, Михаил Савич обернулся на закопченный дом с облупленной штукатуркой и вышел на пыльную улицу. Повернув к каналу, столкнулся с сухопарым господином, кажется, смутно знакомым. Лицо желтое, лихорадочное. На всякий случай Савич поклонился. Тот машинально ответил поклоном, явно не узнавая.
Уже в вагоне сообразил: Александр Блок! Женя упоминала: живет на углу Декабристов и набережной Пряжки.
«Рожденные в года глухие, Пути не помнят. не знают». Нет, забыл. Ну ладно…
Река Рось
Среди бумаг Глеба Иосифовича Погребцова долго хранился рисунок: на белом ватмане карандашом – легкая ротонда, за ней – заросшая аллея, вязы, двумя линиями – быстрое движение воды в речке.
…Через сад графини Браницкой спешил Глеб Погребцов в летней гимназической шинели с серебряными пуговицами на уроки, которые давал ему недавно приехавший в Белую Церковь столичный преподаватель Михаил Людвигович Савич. После занятий Глеб укреплял на скалистом берегу Роси мольберт, долго примериваясь, смешивал выдавленные из тюбика краски, а Тамара восхищенно качала головой и смеялась: «А меня, безрукую, хоть расстреляй, – ни за что похоже не нарисую»…
В Петроград Савичи вернулись весной 1924 года.
Глава 5. Белые ленточки
1
Река Днепр
Раз пробившись в город, каждая новая власть оставалась в Екатеринославе насовсем. В ноябре 1918, когда городской глава с говорящей фамилией Труба призвал представителей всех политических сил города провести переговоры, в зал набилось больше десяти делегаций. И это учитывая, что большевиков не пригласили.
Первыми осенью 1917 года в город над Днепром, на место исторической дислокации Тараса Бульбы, прибыли украинские части.
Над Соборной площадью вьются жовто-блакитные флаги, на ограде Преображенского собора висят мальчишки, лениво швыряя переспевшие груши-паданки в курчавые шапки с красным верхом, не достигая, впрочем, даже и зевающего на тротуаре народа. Под роскошным куполом храма поет красно-золотой архиерей: «…И залиш нам борги наши, як и ми вибачаемо боржникам нашим…», и вздыхает за ним слаженно хор казацкого воинства: «Аминь».
Под пение «Заповиту» широкое полотнище с вышитым угрюмым Шевченко плывет вдоль фронта войск, мимо коленопреклоненной толпы.
– Мало кто сдержался, чтобы не пролить слез, – докладывал комиссару Центральной украинской рады начальник залоги, – а кое-кто и вовсе не мог владеть своими нервами!
Однако на выборах в Учредительное собрание украинская партия, представленная коллективом почты, псаломщиком с сестрой и десятком-другим студентов в крестьянских свитках, заняла третье место, уступив Бунду и большевикам.
Пользуясь общим наступлением войск Советской России, оживляются рабочие самого крупного в Екатеринославе Брянского завода. Борьбу за светлое будущее они начинают с экспроприации – угоняют единственный бронированный автомобиль, находящийся в распоряжении украинских частей. Пока его делят все заинтересованные стороны, включая Трубу, в город входят красные отряды из Харькова. На месте памятника Екатерине Великой, снесенного еще февральскими энтузиастами, воздвигают картонный монумент революции, который, для большей схожести, красят белилами, а в Доме ревкома стреляют еще не пуганных буржуев. Однако развернуться по-настоящему не успевают: в город вступают отряды вольного казацтва, а следом – австро-венгерские войска генерала фон Арна. Топорща усы и мощно отбивая подкованными сапогами шаг, маршируют по Соборной площади австрияки. Некоторые не могут сдержать слез. Екатерину находят на задворках и закапывают во дворе городского музея. Немецкая марка гуляет по рынкам наравне с рублем и гетмановским карбованцем. В «Версале» и «Эльдорадо», под пышными ясенями Екатерининского проспекта пьют кофе лощеные австрийские офицеры. Рестораны, кабаре, игорные дома, лимонадные переполнены возбужденной публикой: нарядные дамы в платьях из портьер, гетмановские чиновники с трезубцем на картузах, сечевики в синих жупанах и чудовищных шароварах. В скверах военные оркестры наяривают незнакомые марши, в такт медным литаврам мелькают щетки, вбивая гуталин в элегантно покачивающийся сапог.
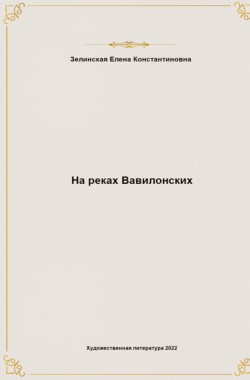





 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что

