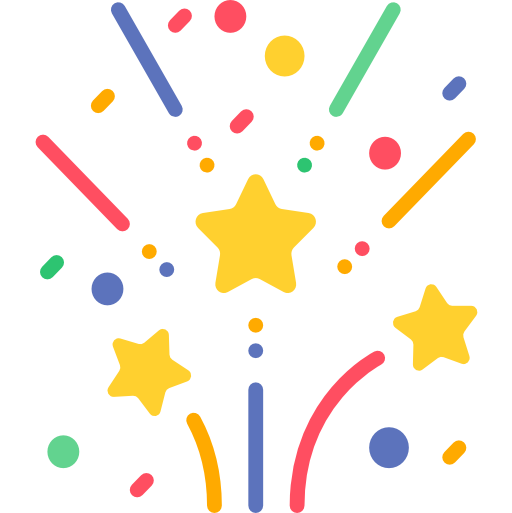Читать онлайн
"Там, за облаками"
Андрей Столяров
ТАМ, ЗА ОБЛАКАМИ
1. Гражданин С. П. Мятлик, системный администратор. Санкт-Петербург.
Это – осень. Это – еще темно. Это – сильный ветер и дождь. Слева смутный Никольский сад – в промельках фонарей из светящейся ртути угадывается, как взмахивают ветвями деревья. Будто птицы, пытающиеся взлететь. Но им не взлететь. Они вросли в мокрую землю. Точно так же, как Мятлик врос в эту проклятую пробку.
Он злится: не сообразил! Надо было сразу, как только заметил хвост упертых друг в друга автомобилей, гнать по Садовой до Лермонтовского проспекта. Там, правда, поворот будет не слишком удобный, но лучше уж поворот, чем вот так – продвигаться нервными воробьиными скоками.
Дождь барабанит по крыше, бросается на ветровое стекло. Дворники не помогают: мир искажен пузырчатой волнистой водой. Мятлик видит, что направо, к мосту – черт! – тоже не повернуть: все закупорено, ну надо же, чтобы именно в это время! Он неумолимо опаздывает. Мурена теперь опять будет шипеть; помешана на корпоративной культуре: фирма – это семья, где есть дети, те же сотрудники, и она – строгая, но справедливая мать. Для их же собственной пользы она обязана постоянно учить их и распекать. За каждый промах, за каждую допущенную ошибку.
Черт бы ее побрал!
Мятлик перемещается еще метров на пять. И вдруг видит, что серебристый «ниссан», припаркованный у тротуара, делает внезапный рывок и, чуть не чмокнувшись сзади и спереди, вклинивается в ближний ряд. Ему возмущенно гудят. Но дело не в этом. Освобождается место у тротуара, и Мятлик в припадке отчаяния таким же кульбитом выворачивает на него. Как ему удается вписаться, он не понимает и сам, но уже, представьте, стоит, будто всегда здесь стоял.
Теперь главное – не задерживаться. Он подхватывает портфельчик и вываливается наружу. Дождь бьет в лицо жесткой водяной пятерней. Почти ничего не видно, но Мятлик мчится, не разбирая, прямо по лужам, сначала вдоль Римского-Корсакова, тут, к счастью, всего метров сто, затем пересекает канал, вздувшийся почти до краев, сворачивает мимо здания районной администрации, и вот, наконец – две ступеньки, коричневая железная дверь. Краем глаза он видит, что в просвете канала, далеко, где-то за Новой Голландией, небо вроде светлеет, и сквозь мох черных туч даже проглядывает голубизна. Там, наверное, совсем другой мир. Мир, где сухо, тепло. Вот бы туда попасть! Но ему сейчас не до этого. Жизнь заканчивается. Он рвет дверь, как люк в затонувшей подводной лодке, проскакивает коридорчик, сотканный из отблесков и теней, и замирает в приемной, полной неожиданно яркого света. Он щурится, свет этот выедает глаза, но все-таки различает, что за рабочим столом сидит совершенно незнакомая девушка.
Та вздрагивает от неожиданности и выпрямляется:
- Здравствуйте… Вы к кому?
- А где Оля? – растерянно вопрошает Мятлик.
И не узнает своего голоса, рожденного холодом и дождевой мокротой.
- Так вы к Ольге Андреевне? – успокаивается девушка. Поворачивает голову с копной огненных завитков: - Ольга-а-а!.. Тута – к тебе-е-е!..
Из кабинета, который занимает Мурена, появляется дама лет так тридцати. На ней офисный брючный костюм. Мятлику она опять-таки незнакома.
- Слушаю вас.
- А где Милена Васильевна?..
- Прошу прощения, это кто?
Они обе смотрят на него, как на чучело. Он действительно чучело: насквозь мокрый, дрожит, с рукавов и подола плаща срываются на пол капли воды.
А на полу, между прочим, паркет.
Откуда паркет?
Всю жизнь здесь лежал расчерченный квадратами ламинат.
И тут до него доходит, что свет в приемной вовсе не электрический. Это солнечный свет, и льется он из распахнутых настежь окон. А за окнами – тот же самый канал. Но – не дождь, не промозглая осенняя чернота, не озноб, не россыпи дряблых, болезненных листьев. Там – сияющий воздух, в котором замерли тополя, синеватые тени, блеск гладкой воды.
Мир рушится в один краткий миг.
Дама и девушка переглядываются. В них чувствуется понимание, которого нет у него.
И вдруг дама приветливо улыбается.
- О!.. - говорит она. – Так вы, наверное, здесь в первый раз? Действительно в первый? Ну что ж… Тогда позвольте вам объяснить…
2. Беседа в кафе на Литейном проспекте. Санкт-Петербург.
- То есть вы испугались?
- Нет, это был не совсем испуг. Тут было что-то другое. Пожалуй – ошеломление. Представьте, что возвращаетесь вы после работы домой, открываете дверь в квартиру и вдруг видите, что ее нет. Наружная стена выбита, мебель поломана, запах гари, как будто сюда попал артиллерийский снаряд. Какая у вас реакция? Тут же захлопнуть дверь…
- Ну и вы…
- Я выскочил обратно, на улицу. Там, естественно, ветер, темно еще, дождь как из ведра… А когда я снова – ну, секунд через тридцать – попытался войти, оказалось, что – моя обычная фирма. Никаких этих… женщин. Никакого солнечного пейзажа за окнами… Тут же выплыла из кабинета Мурена – мы нашу начальницу так зовем – сделала выговор за опоздание. Ее не корми – лишь бы нотацию прочитать…
- Давайте все-таки уточним пару моментов. О чем вы думали, например, когда выскочили из машины? Не волнуйтесь… Сергей Петрович…
- Просто Сергей…
- Спасибо… Это ведь не допрос. Я же вам показывал свои документы: сотрудник научно-исследовательского института аномальных явлений. Причем, хочу подчеркнуть, именно научно-исследовательского – никакого астрала, экстрасенсорики и прочих инопланетян. Мы честно пытаемся разобраться, что здесь к чему, есть ли у всех этих устойчивых аномалий какая-нибудь физическая основа. Или это все же феномены, относящиеся исключительно к области психики. Что, впрочем, не исключает проявления каких-то закономерностей… Ну а если я излишне настойчив – простите. Ученые в некотором отношении похожи на следователей. Только те допрашивают подозреваемых и свидетелей, а мы как бы расспрашиваем природу – то же самое, в общем, но на другом языке. И потому ваши личные ощущения для нас очень важны.
- Да-да, я понимаю… Не извиняйтесь… Все, что могу… Когда я выскочил из машины, у меня действительно было чувство, что – провались это все. Вообще, хорошо бы, знаете, так – шагнуть и вдруг попасть совсем в другой мир. Куда-нибудь, где сухо, светло…
- Рассказ Хемингуэя. «Там, где чисто, светло».
- Точно! Тогда я, конечно, не сообразил. Просто сильное ощущение – хочу в другой мир. Прямо хоть сквозь пятое измерение. Тем более, что дальше – там, над каналом, видимо, уже над Невой – был в тучах какой-то слабый просвет. Вот, наверное, ассоциации… Примерно так…
- Вы это ощущение не вербализовали?
- Простите?
- Ну, не выразили его вслух какими-нибудь словами?
- Кажется, чертыхнулся, не помню.. Нет-нет, я же торопился ужасно, бежал… Потом открыл дверь в фирму – и вдруг…
- А помимо ошеломления, вы в том мире больше ничего… ничего особенного не почувствовали? Что-нибудь такое… этакое… Еще какой-нибудь необычный штрих.
- Ну… как вам сказать…
- Одним словом хотя бы.
- Одним словом?.. Выглядит как-то смешно…
- Так почувствовали?
- Почувствовал – счастье…
- Счастье?
- Да…
- Не вижу здесь ничего смешного.
- Почувствовал вдруг, будто хлопнуло по башке: вот тот мир, где я хотел бы жить…
- Очень интересное наблюдение.
- Извините, пожалуйста, у меня тоже вопрос. А что, мне это на самом деле… не померещилось?
- Пока ничего определенного сказать не могу.
- Или все же – галлюцинации?
- Слишком мало данных… Сергей…
- А как вы обнаружили, что… Как вы меня нашли?
- Ну, это просто. Вы же рассказали об этом на своей страничке в сети…
3. Капитан Гривцов, розыскник ОСОБ. Москва – Санкт-Петербург.
Карабас мне сказал:
- Разберись, что там за фигня.
И, как гусеницами, пошевелил мохнатыми сросшимися бровями. Дело было серьезное. Если Карабас шевелит бровями, то лучше не возражать.
Я ответил:
- Есть! Разобраться, что там за фигня!
И, отчеканив шаг, что с моей стороны было выражением недовольства, без стука прикрыл за собой дверь в кабинет. Для недовольства у меня причины имелись. Ведь действительно не конкретное задание, а фигня. Поезжай туда, не знаю куда (вообще говоря – в Петербург), найди то, не знаю что (вообще говоря – данные на некоторых странных людей). С чего бы это? Умом Карабаса нашего не понять. И потому возникло у меня неприятное ощущение, что это не сам Карабас так решил. Это решил кто-то другой. Может быть, даже кто-то на самом верху.
Ладно, мой номер шестнадцатый. Приказано выполнять – бери ноги в руки и маршируй.
По бодрому так: ать – два!.. ать – два!..
В Петербурге меня встретили не слишком приветливо. Что, в общем, естественно: в провинции каждого приезжего из Москвы рассматривают как потенциального ревизора. Неизвестно, что он потом доложит о них. Я, разумеется, прикинулся веником: дескать, чучмек, из аналитического отдела, умеренно чокнутый, непроходимо глухой, пишет диссертацию по методам поиска пропавших без вести (в чем, как известно, у нас полный бардак), материал по Москве собрал, отработал, теперь для сравнения требуется Петербург. То есть, безобидный такой жучок-короед, такая жужелица, терпеливо ползущая по ступенькам карьерной лестницы. Не трогай ее и не укусит. Это слегка помогло. Уже через пару дней я перестал ощущать себя в фокусе недоброжелательного внимания. Мне даже подкинули кое-какую статистику, правда, дико сырую, увязнуть в коей можно было до конца своих дней.
Меня это впрочем не испугало. Еще по дороге сюда, в «Сапсане», я ознакомился с основными обзорами по данной теме. Цифры, надо сказать, впечатляли. Если брать в целом, по всей стране, то ежегодно у нас без вести пропадало от семидесяти до ста тысяч человек. И хотя больше половины из них отыскивались по горячим следам, но все равно десятки тысяч людей каждый год исчезали бесследно. По возрастному распределению выглядело это так: каждый второй пропавший – трудоспособные женщина или мужчина, каждый четвертый – несовершеннолетний (ребенок, подросток), каждый десятый – пенсионер. А по социальной стратификации в списках чаще всего оказывалась, как ни странно, интеллигенция, лишь за тем следовали те же положенные пенсионеры, бомжи и горсточкой вклинивались средь них активные бизнесмены.
Ну, с героями бизнеса, скажем, все было понятно – так, видимо, проявлял себя сопутствующий им криминал: долги, конкуренция, имущественный передел. Пенсионеры, бомжи и, как ни печально, подростки с детьми меня в данном случае тоже не интересовали. Но вот сегмент трудоспособных людей действительно настораживал. По Петербургу за последние годы таких накопилось уже более сорока тысяч. Причем здесь встречались совершенно уникальные эпизоды, которые не истолкуешь по излюбленной полицейской версии «муж сбежал от жены». Вот, например, гражданин Н., сорока пяти лет, менеджер средней руки, заработок вполне приличный, один ребенок, жена – врач, терапевт, утром, как всегда, сел в свой «форд» и выехал на работу, на работе, как выяснилось, не появился, машину, припаркованную на полпути к фирме, нашли через несколько дней, никаких следов борьбы, насилия, ограбления, в машине остались ключи, ноутбук, брелок сигналки в замке зажигания, остался пиджак с документами, на банковских карточках движения денег нет, улица оживленная, при этом ни одного свидетеля, прочесали все ближайшие скверы, подвалы и гаражи… Или гражданин Л., двадцати восьми лет, не женат, программист в одной из административных контор, среди бела дня ушел на обед, больше его никто не видел; по характеристикам сослуживцев, человек не конфликтный, ни проблем на работе, ни кредитов просроченных, ни долгов, через час его сотовый телефон стал «вне доступа»… Или вот вообще ночная страшилка. Молодая мать с годовалым ребенком пошла в молочную кухню, это в том же районе, дорога туда и обратно обычно час, через два часа муж, который работал дома, забеспокоился, ее сотовый, кстати включенный, почему-то не отвечал, прождав еще час, ринулся их искать, еще через два часа обратился в полицию, третий год ищут, не могут найти… Или в продолжении того же непрерывного хоррора: две дружных семьи из Нижнего Новгорода решили посмотреть Петербург, приехали, все в порядке, сняли в гостинице номера, утром обнаружилось, что один из взрослых постояльцев пропал, его жена и двое детей проснулись довольно поздно, ничего не слышали, понятия не имели, куда он мог вдруг пойти, дежурный администратор (девочка девятнадцати лет) тоже не видела ничего (призналась в конце концов, что продремала всю ночь), видеокамеры при входе в гостиницу не было, машина на месте, остались в номере паспорт, карточки, деньги, сотовый телефон, четыре года с тех пор прошло – никаких следов.
Отметил я также мнение опера со стажем работы почти двадцать лет. Начинал еще участковым в середине девяностых годов. И вот на вопрос, что он обо всем этом думает, опер ответил, что уже готов поверить в инопланетян. На полном серьезе, поскольку пропадают люди, которые, по идее, никак не должны пропасть, никаких предпосылок для этого нет, и обстоятельства дел таковы, что человек просто взял и исчез.
Конечно, версию инопланетян я отбросил. Вряд ли наш Карабас (пардон, генерал Карбасов) придет от нее в восторг. Зато поиск в социальных сетях, во всех этих «фейсбуках» «одноклассниках» и «вконтактах», которым я занимался целых пять дней, кое-что интересное дал. К сожалению, тоже на уровне инопланетян. Здесь удалось выделить целую группу людей, которым пригрезились странного рода видения. Гражданка Ф., косметолог, временно не работающая, замужем, двадцати четырех лет, выйдя на прогулку с ребенком в дворовый сквер, неожиданно обнаружила, что дома, стискивающие его с четырех сторон, куда-то исчезли, вместо них клубится плотный белый туман. Однако ее собственный дом при этом – стоит… Гражданин Т., научный сотрудник, двадцати семи лет, женат, детей нет, торопясь с работы домой, свернул за угол и вдруг увидел, что улица идет в никуда. Упирается в такой же белый туман… Гражданин Д. подросткового возраста клялся, что наблюдал своими глазами, как его сосед, некто О., вроде бы преподаватель, с четвертого этажа, открыл дверь парадной и оттуда вдруг хлынул ослепительный свет. Но когда сам гражданин Д., шедший сзади метрах в пяти, открыл ту же самую дверь, то узрел обыкновенную лестницу, освещенную лампочкой в сорок ватт, при этом гражданин О. исчез, хотя успеть подняться на следующий этаж никак не мог.
Интересно, что бесследно исчез не только гражданин О. (как выяснилось, действительно преподаватель, из ВТУ, тридцать один год, не женат), но примерно через неделю исчезла и гражданка Ф, косметолог, вместе со всей семьей, а еще через несколько дней – гражданин Т., научный сотрудник, вместе с женой.
В этом смысле с фигурой С. П. Мятлика мне исключительно повезло. Это был единственный случай, когда свидетель, наблюдавший «видение», мог непосредственно о них рассказать. Все остальное базировалось пока на косвенных данных. Правда, я опасался, что и этот свидетель скоро исчезнет, но что было делать – приставить к нему охрану, взять под превентивный арест? Глупости это все. В своем статусе (ботан из аналитического отдела) я даже наблюдение за ним организовать толком не мог. Беседа, записанная на диктофон, вот все, что я пока имел предъявить.
Впрочем гражданин Мятлик тут же сдвинулся у меня на второй план. Всплыла при анализе тех же сетей некая фирма, «В один момент», где таинственно пропал экспедитор: гражданин С., в прошлом филолог, двадцати семи лет, не женат, детей нет. По словам шофера (кстати, тоже с высшим образованием), при доставке товара на терминал, носящий странное имя «Босс22», гражданин С. вместе с сотрудниками терминала вошел внутрь здания и обратно уже не вышел. Внимание же мое привлекло к этому случаю еще то, что, по словам шофера, из двери, куда экспедитор вошел, лилось прямо-таки «ослепительное сияние, как будто светили оттуда десять прожекторов».
С шофером я, естественно, побеседовал, но ничего существенного к своим словам он добавить не мог. Прождал гражданина С. тридцать минут, потом безуспешно звонил и стучал в эту проклятую дверь, потом ждал еще тридцать минут, в конце концов махнул рукой и уехал. С тех пор гражданин С. так и не появился. Между прочим, уже целая неделя прошла. Телефоны его, сотовый и квартирный, тоже молчали. Ни к чему не привели и расспросы сотрудников «Босс22», которые в следующий рейс произвел сам шофер: ни о каком экспедиторе там слыхом не слыхивали, ничего такого не видели, никто к ним в технические помещения не заходил, а если бы и зашел, выставили бы его сей же миг.
Ничего вразумительного не сказали и владельцы фирмы «В один момент». Дудыкин и Бабакин – так их фамилии были прописаны в документах. Причем внешность обоих, замечу, этому полностью соответствовала: два типичных быка, заархивированные, видимо, еще с бандитских девяностых годов. Оба были явно напуганы моим приходом и особенно – удостоверением, которое я предъявил. И хотя я честно заверил обоих, что их бизнес, каким бы он ни был, меня в данном случае не интересует, все общение наше свелось к мычанию, жеванию губ и невнятным репликам. Тем не менее, удалось выяснить, что с предприятием «Босс22» они сотрудничают уже пятый год. По четвергам отправляют туда продуктовый фургон.
- Сгущенка там… консервированные ананасы… Расплачиваются аккуратно… А чё?.. Пока никаких проблем…
Дудыкин и Бабакин напряженно сопели. Я мельком подумал, что, вероятно, их можно было бы хорошенько тряхнуть. По всей вероятности, не только сгущенкой торгуют. Но тут забрезжила у меня одна интересная мысль.
- А когда следующая фура пойдет?
- Да вот… это… через два дня… ну … в четверг…
- Экспедитора нового еще не нашли?
- Так нет… водила пока отработает… это… ежеличё…
И оба неприязненно уставились на меня.
А я выдержал паузу и улыбнулся им весело и легко.
Чем, кажется, еще больше их напугал.
- Ну что ж… это… ежеличё… Договорились… В четверг – так в четверг…
4. Выдержки из экспертного заключения. Автор – А. М. Серов, д. ф. н., профессор кафедры аналитической философии, СПбГУ, Санкт-Петербург.
Не берусь судить о физических механизмах данных явлений. Темпоральная физика, насколько я ее представляю, находится сейчас в ситуации неразрешимых противоречий. С одной стороны, никакие законы ее не препятствуют времени течь как в прямом направлении, так и в обратном, более того известные нам законы не запрещают также перемещений во времени, хотя до сих пор ни одним научно установленным фактом такое перемещение не подтверждено. С другой стороны, существуют так называемые «стрелы Хокинга»: время имеет направленность прежде всего потому, что общая энтропия Вселенной не убывает, а возрастает – и вот это как раз научно установленный факт. Психологически же это выражается в том, что «мы помним прошлое, а не будущее». С третьей стороны, принципиальную ценность, на наш взгляд, имеет утверждение Канта, что время принадлежит исключительно психике человека. Время – продукт человеческого сознания: в природе времени нет, есть только движение. И наконец следует вспомнить парадоксальную концепцию Н. А. Козырева, кстати петербургского астрофизика, утверждающую, что время представляет собой лишь один из видов энергии, а потому оно может быть трансформировано, создано или уничтожено, то есть поддается операционным воздействиям.
Все это, разумеется, не приближает нас к пониманию сущности времени. Общая теория этого загадочного феномена еще ждет своих гениальных прозрений. Что же касается конкретного материала, представленного для анализа, то можно, по-видимому, с определенной долей условности полагать, что поток времени (если только это в самом деле поток) по своей фактуре ощутимо неоднороден: в нем наличествуют как бы «промоины», области сближения будущего с настоящим, где «субстанция времени» истончается и дает возможность перейти из одной временно
Причем, насколько я опять-таки понимаю, нас, в общем, не интересует пока строгая научная теория этого «перехода», нас интересует другой вопрос: действительно ли такие транстемпоральные акции существуют и можно ли ими каким-либо образом управлять, поскольку управление временем открывает – без всяких преувеличений – головокружительные перспективы.
И вот здесь, как нам кажется, следует обратить внимание на Санкт-Петербург. Напомню, что Петербург по своей онтологии принципиально отличается от других городов. Он не вырос естественно и постепенно из такого же естественного наличного бытия, а был создан весь, как бы сразу, по крайней мере, его исторический центр – как «парадиз», как государственная мечта, как идеал великого будущего, преобразующего обычную жизнь. По статусу своему он столь же принадлежит «небу», сколь и «земле». Наличная реальность в Петербурге во многом условна. И если время, как можно предположить, являет собой феномен, одномоментно и психологический, и физический, то есть существует в единстве этих двух компонент, то именно в Петербурге и должен наблюдаться транстемпоральный транзит, иными словами «промоины», где будущее соприкасается с настоящим и даже в какой-то мере просачивается в него. Предположение, возможно, излишне смелое, но само собой вытекающее из имеющегося в нашем распоряжении материала.
Прежде всего отметим, что транстемпоральный транзит пока наблюдается исключительно в Санкт-Петербурге. Его нет, судя по представленным материалам, ни в Москве, ни в Новосибирске, ни в Красноярске, ни в каких-либо других городах. Это позволяет нам говорить, что данный феномен локален и его экзистенцию поддерживает определенный социокультурный ландшафт. Кстати, косвенно данное утверждение подкрепляется тем, что, согласно легенде, существующей уже более ста лет, в разных петербургских районах время тоже течет по-разному. В одних районах городские часы ощутимо спешат, в других хронически отстают. Ремонтные службы в этом абсолютно убеждены. Если же наложить зарегистрированные транзиты на карту города, то легко заметить, что они все неизменно приходятся на исторический центр, что, на наш взгляд, представляет собой еще один аргумент в пользу социокультурной локализации исследуемого артефакта.
Более того, разброс точек транзита – именно то, что не существует для перехода из настоящего в будущее постоянных «ворот» (парадных, улиц, дворов), убеждает нас в реальности активной «внутренней» компоненты: переход совершает не субъект «вообще», а субъект, находящийся в определенном психологическом состоянии.
Такова, выражаясь метафорически, «магия» Петербурга.
Таковы исходные данные, которые нам еще предстоит изучить.
5. Гражданин С. П. Мятлик, системный администратор. Санкт-Петербург.
Это все еще осень. Это все еще дождь. Это все еще сумрак – до середины дня и сразу после него. Но вдобавок – это еще и ветер, полный дьявольской злобы. Он взметывает с деревьев ворохи листьев, и те сразу же рушатся на асфальт под пулями тяжелой воды. Воды здесь вообще слишком много. Темная плоть ее поднимается из каналов и заливает мостовые внахлест. Кое-где уже захватывает тротуар. Над ней в ожидании жертв витают демоны осенних простуд. Один из них сегодня намертво вцепился в Оленьку. Она давится, кашляет, прижимает, чтобы никто не услышал, ко рту ладонь, то и дело подносит к лицу скомканную салфетку, носик у нее жалко распух, в глазах – слезы, но Оленька героически выводит на экран очередной смежный хаб и начинает его прорабатывать согласно поступившим заявкам. Логистика товарных распределений не может останавливаться ни на секунду.
Зрелище это душераздирающее. В конце концов не выдерживает даже Мурена и после очередного сдавленного приступа кашля, выйдя из кабинета, приказывает Оленьке отправляться домой.
- А то ты тут всех нас перезаразишь!
Оленька отвечает на это, что не закончен график по красносельскому филиалу. Требуется еще часа полтора. Она очень ответственно относится к своему делу.
- Найдется кому доработать, - заявляет Мурена.
Взгляд ее, сделав волчий прыжок, вонзается в Мятлика. Тот выпрямляется и спокойным голосом сообщает, что лично он намерен сейчас отвезти Ольгу домой. Не шлепать же ей в таком состоянии под дождем.
На мгновение всё в офисе замирает. Никто не поднимает лица, но все настораживаются. Взрыва, однако, не происходит. Мурена, ни слова не говоря, поворачивается и ныряет к себе кабинет. Мятлика это не удивляет. Он чувствует, что, вдохнув воздух будущего, стал каким-то другим. На него уже так просто не накричишь. Оленька, правда, лепечет, что ничего не надо, пожалуйста, не беспокойтесь, Сергей, я сама… Но Мятлик, не слушая этого бессодержательного чириканья, помогает ей обмотаться шарфом, натянуть плащ, выводит на улицу и усаживает в машину.
- Ох… – говорит Оленька, постукивая в ознобе зубами. – Ну ты ей сказанул. Честное слово, я думала, что Мурена тебя убьет.
- Никого она не убьет, - отвечает Мятлик. – Силы у нее нет, чтобы убить. Она – как надувной крокодил: внешне злая, но слабая. А ты вот с ума сошла – приходишь на работу больной.
Ему хочется Оленьку поцеловать – обнять, укутать ее, согреть, уложить в постель, накрыть волшебным пуховым одеялом, поить с ложечки огненным чаем, распространяющим запах лечебных трав, сидеть рядом с ней, смотреть, как она сладко спит, слышать, как уходят из ее дыхания хрипы, видеть, как во сне она улыбается счастью, для которого только и появилась на свет.
Проползая по набережной, меж приткнутых в беспорядке машин, Мятлик через зеркальце заднего вида посматривает на нее. И дело тут не только в болезни. Последнее время ему почему-то кажется, что большинство лиц вокруг покрывает какая-то нездоровая желтизна. Как пленка прогорклости на маргарине. И он, кажется, начинает догадываться, что это значит. Это значит, что будущего у таких людей нет. Они уже утонули в прошлом, которое сомкнулось над ними, как кладбищенская земля. А у меня самого есть будущее? – думает он. Рассматривает себя в зеркалах прихожей и ванной, и так, и этак поворачивается в комнате перед трюмо – в напряженном электрическом свете ничего не понять. Вроде бы лицо, как лицо. А вот у Оленьки лицо точно слегка светится изнутри. Или это просто из-за сумерек в салоне автомобиля?
И еще. В последнее время ему как-то трудновато дышать. Воздух тусклый, серый и затхлый, словно им дышали уже множество раз, словно выдышали его до того, что осталась лишь молекулярная пустота – безнадежное скопище мертвых атомарных телец. Не сравнить с тем новорожденным сиянием, которое он вдохнул две недели назад. Это потому, вероятно, что мы пропитаны настоящим, думает он. А оно уже изжило себя и начинает медленно протухать. И мы протухаем сейчас вместе с ним.
Невозможно держать это в себе, и Мятлик неожиданно рассказывает Оленьке, что с ним недавно произошло. Как он внезапно, открыв дверь в их фирму, оказался в будущем, в необыкновенно солнечном дне, и как потом, встретившись с сотрудником института аномальных явлений, вдруг понял, что это не галлюцинация, а реальность. Не иллюзия, а так оно на самом деле и есть.
Рассказывается почему-то естественно и легко. Может быть, потому, что Оленька внимает ему, широко распахнув глаза. А может быть, так действует на него сегодняшний экстремальный пейзаж. Улицы залиты сумрачной, беспокойно мечущейся водой. Разлив иногда перекрывает собой всю проезжую часть. Отражаются в нем колеблющиеся дома, тусклые окна, едва тлеющие фонари. Действительно – Северная Венеция. Только созданная не из страстного южного неба и солнечного тепла, а из низких туч, дождевой хмурости и пронизывающего озноба. Единственное, что в перспективе Садовой, куда он с набережной поворачивает, опять-таки, видимо уже над Невой, заметен обнадеживающий просвет. Чувствуется, что за плотными тучами все же есть небо. По крайней мере, догадываешься, что оно там все-таки есть. Мятлик вспоминает, что была когда-то такая песня: «Там за облака-а-ами… Там за облака-а-ами… Там… там-та-дам… там… та-дам…»
Не рассказывает он Оленьке только о том, что – как до него недавно дошло – беседовал с ним вовсе не научный сотрудник института аномальных явлений, а представитель совсем иной, гораздо более могущественной организации. И что неделю назад ему пришла странная смс-ка, где настоятельно советовалось убрать со своей страницы запись о «временно
Ничего этого он не рассказывает.
Только спрашивает, ловя в зеркальце ее взгляд:
– Ты мне веришь?
Оленька некоторое время молчит, а потом говорит еле слышно:
– Я поверю тебе, даже если ты скажешь, что побывал на Луне.
Вот так.
В другое время Мятлик, наверное, был бы счастлив. Но сейчас он поворачивает на мост и замечает, что серый «форд», державшийся в отдалении, сворачивает вслед за ним. И примерно такой же «форд» тронулся с места, когда они отъезжали от фирмы. И на Садовой улице Мятлик тоже вроде бы видел его пару раз. Конечно, серых «фордов» в городе миллион, но Мятлик чувствует, что это скорее всего – за ним. Он притормаживает на проспекте у гастронома, и «форд» тоже припарковывается невдалеке.
Одновременно тенькает сотовый телефон, и на экране появляется смс-ка с неизвестного номера.
Всего два слова: «Никогда никому».
Ладно, здесь все понятно.
В магазине Мятлик возит за Оленькой решетчатую тележку. Оленька согрелась в машине и чувствует себя немного живее. Она даже разрешает ему донести сумки с продуктами до двора, но вот дальше уже нельзя – мама увидит.
- Что здесь такого? – говорит Мятлик. – Я же просто - помочь…
Оленька лишь моргает:
- Ну, пожалуйста… Ну, не надо… Я тебя очень прошу…
Мама у Оленьки болеет уже несколько лет. Причем болезнь у нее, с точки зрения Мятлика, какая-то удивительная. По виду совершенно нормальный, вменяемый человек, но вдруг в мозгу что-то щелкает, и она напрочь выпадает из жизни. Не помнит, как ее зовут, где живет, как включается телевизор или кухонная плита, даже на Оленьку смотрит с недоумением: откуда эта чужая девица взялась? Продолжается приступ, как правило, два-три дня, а потом память к ней сама собой возвращается. И опять – совершенно нормальный, вменяемый человек. Тем не менее отпускать ее одну никуда нельзя, а на время своего отсутствия Оленьке приходится отключать в квартире электричество, газ, забирать с собою ключи, без которых двери изнутри не открыть. Работать мама, естественно, тоже не может, получает пенсию по болезни, такую, что кошку не прокормить. А ведь есть еще младшая сестра, Лидочка, шестой класс уже, ей требуются то туфли новые, то пальто, то летнее платье. Но главное, последние два «щелчка» случились именно в тот момент, когда мама увидела из окна, как Оленька идет с Мятликом через двор. Возможно, ей просто нельзя волноваться. При любой эмоциональной нагрузке у нее что-то внутри зашкаливает – и все.
Поэтому Мятлик лишь из подворотни следит, как Оленька, нагруженная двумя сумками, бредет под дождем, как она, открыв парадную, напоследок оборачивается к нему и как захлопывается за ней тяжелая дверь.
А потом он выходит на улицу и решительно направляется к серому «форду». Водитель из него уже тоже вышел и тоже делает пару шагов вперед.
- Сергей Петрович, прошу прощения, я все же хотел бы с вами поговорить…
Мятлик несколько раздраженно прерывает его:
- Не понимаю, зачем это вам!.. Да, действительно, я встречался с сотрудником… э-э-э… института аномальных явлений, во всяком случае он представился мне именно так, мы с ним слегка побеседовали, он расспрашивал, не случалось ли со мной каких-нибудь странных вещей…
- А они, простите, с вами случались?
Мятлик чувствует, что лучше будет выложить правду, только не всю.
- Ну, один-единственный раз видел я необычный сон – будто бы попал в другой мир, где все не так, как у нас. По глупости рассказал об этом на своей страничке в сети, после чего ко мне хлынул поток всяческих идиотов: и контактеры с иными цивилизациями, и путешественники по астралу, и последователи Великого Гнозиса, коий столь же Един, сколь и Велик… В общем, весь этот фрагмент со сном я стер, так я вашему коллеге и объяснил.
- И дальше что?
- Ну, он мне ответил, что это – не то.
- Что «не то»?
- Откуда я знаю… А если честно, то и знать не хочу. Просто прошу – в сотый раз – оставьте, оставьте меня!
Он возвращается к своей «шкоде» и садится за руль. Он чувствует, что сыграл в данном случае так, как надо. Больше они
Этого еще не хватало!
Не сейчас, думает он. Пожалуйста, не сейчас!
Свет ощутимо меркнет.
Дождь пляшет по лужам, как сумасшедший паяц.
А Мятлик крепче сжимает руль и выворачивает на Каменноостровский проспект.
6. Капитан Гривцов, розыскник ОСОБ. Санкт-Петербург.
За десять дней я исследовал город практически целиком. Тем более что площадь, которую он здесь
Больше всего меня поражала его пустынность. Ведь современный город – это в первую очередь транспортный и человеческий Вавилон, жуткое столпотворение, где ты непрерывно со всех сторон стиснут машинами и людьми. А здесь – редкие, неторопливые пешеходы, еще более редкие автомобили, призраками скользящие по мостовой. После эпилептических судорог утренней и вечерней Москвы, после безумия толп, упорно ввинчивающихся в жерла метро, я как будто вырвался на свободу. Правда, свобода эта была существенно ограничена: по периметру города высился, будто стена, плотный белый туман. В нем лишь угадывались слабые и неопределенные очертания: контуры будущих улиц, тени домов, еще не обретшие воплощения. В туман я заходить не рискнул, тем более что человек, с которым я случайно разговорился в кафе, утверждал, что, если вы здесь недавно, то не стоит этого делать: есть опасность вновь очутиться в прошлом, и тогда выбираться оттуда будет уже гораздо трудней.
Впрочем и без загадочного тумана мне тут открытий хватало. Я, например, обнаружил, что многие здания, даже на Невском, представляют собой лишь виртуальный эскиз: на первый взгляд, вроде бы дом как дом, но если присмотреться внимательней, то замечаешь, что картинка едва заметно подрагивает, она как бы соткана из крохотных пикселей – движения воздуха колеблют ее точно мираж.
Я догадывался, что это дома, где пока никто не живет. Нет в них людей, по-настоящему утвердившихся в будущем. И потому они представляют собой не подлинную реальность, а лишь ее предчувствие, некий потенциал – то, как она может быть в действительности овеществлена.
Кстати, гостиница, где я по приезде сюда – еще будучи в прошлом – остановился, была абсолютно и достоверно реальной, хотя, как я был убежден, там не проживал никто, кроме меня. Во всяком случае, ни в коридорах, ни в вестибюле, за все десять дней я не встретил ни единого человека. Присутствовала только молоденькая дежурная на ресепшене, которая приветливо улыбалась мне каждый раз, когда я проходил мимо нее. Однако фигура ее опять-таки немного подрагивала, и было у меня подозрение, что это тоже пиксельный, пока еще бесплотный мираж. Чья-то расплывчатая мечта, так и не воплотившаяся в реальность.
Разве все наши мечты сбываются?
Если честно, то – никакие и никогда.
А чтобы дальнейшее было понятным, скажу еще об одном. Давно уже я не ощущал в себе таких ярких сил. Разве что лет десять назад, когда наивным и глуповатым юнцом вылупился из школы. Тогда казалось, что у меня нет прошлого, только будущее. Казалось, что даже воздух вокруг великолепно сияет, и такой же великолепной, сияющей будет вся моя жизнь. Я ждал от нее восхитительных и необыкновенных чудес, каких-то свершений, каких-то непроторенных путей. Потом, разумеется, это сияние незаметно померкло. Проступила обыденность, и тяжесть ее с каждый годом давила все сильней и сильней. Никаких особенных чудес со мной не произошло. Я стал мелкой каплей воды в океане человеческого бытия. И не то чтобы меня это сильно мучило, но иногда, как правило среди ночи, вдруг всплывал из глубин сознания странный вопрос: зачем, зачем это все? Вопрос, ответить на который, по-видимому, нельзя.
Но с другой стороны, нельзя было и не отвечать.
И вот теперь я снова ощутил это сияние. Я точно сбросил с себя все эти муторные, однообразные десять лет. Теперь-то я понимал, что они были муторные и однообразные. И они свалились с меня, как старая ореховая шелуха. Не было больше гнетущей усталости по вечерам. Не наливалась ни с того ни с сего свинцовой тусклостью голова. Не возникало желания послать к черту всех. А «всех» – это кого? А просто – всех вообще! Генерала Карбасова в том числе. Воздух вокруг меня вновь беззаботно искрился. Проклятый вопрос «зачем» перед сном не всплывал. То есть он, конечно, всплывал, но уже совсем в другой конформации.
Вот я сейчас тщательно исследую этот город: изучаю его географию, наношу на карту в блокноте его улицы, скверы, площади и дома, прикидываю количество людей, проживающих в нем, количество транспорта, количество предприятий и фирм, анализирую его социальный пейзаж (насколько можно судить, полиции в этом городе нет, также, по-видимому, нет и официальных властей), описываю мелкие подробности быта, пытаюсь понять, как этот город, функционирует сам по себе (видимо, все же подпитывается настоящим, без него не может существовать, это значит, что в нем есть межвременные коммуникации, их следует отыскать), а затем постепенно свожу разнородный материал в четкие тезисы, набрасываю предстоящий доклад, как того требует Карабас. Так вот, вопрос «зачем?» теперь звучал по иному: зачем я буду писать этот доклад? Какие из него будут сделаны выводы? Какие решения будут приняты – сейчас уже вне всяких сомнений – именно на самом верху? Я, разумеется, мог примерно ответить на этот вопрос. Но, честное слово, мне было неприятно на него отвечать. Я ощущал себя червяком, проедающим сердцевину в яблоке: фрукт внешне оставался румяным, а внутри него уже была гниль.
Вот какие мысли начали меня одолевать.
Вот почему сквозь сияние проступало отчетливое беспокойство.
А в довершение ко всему я вдруг почувствовал, что за мной следят.
Случилось это в Коломенской части города, на набережной канала, напротив места, где возвышался над пышным садом Никольский собор. Скользнул по спине внезапный холод, кольнуло сердце, словно в затылок мне уперся прицел. Я инстинктивно шарахнулся за выступ ближайшего дома, извлек из наплечной кобуры пистолет и, сдерживаясь, аккуратно и плавно, чтобы не выдать себя щелчком, передернул затвор.
Человек, впрочем, прятаться и не думал. Он прогулочным шагом вышел на набережную и оглянулся, видимо, пытаясь понять, куда я исчез.
Я его мгновенно узнал.
- Привет, Волчок!.. Прозевал?.. Теряешь квалификацию… Медленно повернулся!.. Руки, руки – держи!..
Гена Волчков, не торопясь, обернулся и показал руки – они были пусты. Спокойно посмотрел на меня, потом – на мой пистолет. По-моему, он ни чуточки не волновался, держался так, как будто вооружен был он, а не я.
Затем он сказал:
- Привет, Гривцов!.. Ну и зачем ты пришел? Хочешь вернуть меня в объятия Карабаса? Так ведь я не пойду. И что? Ты будешь стрелять?
И тут я внезапно понял, что проиграл. Палец мой чувствовал спусковой крючок, но я твердо знал, что стрелять ни за что не буду. Я вообще никогда больше ни в кого не буду стрелять. Все кончено, задание я провалил. Этот город за десять дней сделал меня другим человеком. Человеком, который просто уже не может стрелять. Человеком, которого от одной мысли об этом бросает в дрожь.
Гена между тем небрежно облокотился на парапет.
- Карабас тебя, значит, не предупредил, – задумчиво сказал он. – Они там, видимо, так ничего и не поняли. Все еще играют в «стратегическое военное преимущество»: кто управляет будущим, тот контролирует настоящее. Это – тупик… Кстати, ты здесь уже третий…
- Да?.. А кто еще? – хрипловато поинтересовался я.
- Толик Незванов. Он тебя и засек. Мы тут на всякий случай присматриваем за новичками. Чтобы дров с перепугу не наломали … Между прочим, бросил бы ты пистолет, он тебе уже ни к чему.
- Ты так думаешь?
Гена пожал плечами.
- Иначе бы ты сюда не прошел. Те, кто не наигрался с оружием, останутся в настоящем. То есть – в прошлом, если смотреть туда из наших координат. И, вероятно, останутся там навсегда. Вот что невдомек Карабасу и остальным.
Это говорил как будто не он. Это говорил как будто я сам – теми же словами, которые всплывали в сознании раньше, чем он их произносил. Я ведь действительно за эти десять солнечных дней стал совершенно другим. Мне было ясно, что я не хочу ни о чем докладывать генералу Карбасову. Я не хочу даже видеть генерала Карбасова – ни наяву, ни во сне. Я вообще не хочу возвращаться туда, где генерал Карбасов существует как факт.
Таков был итог.
Царила вокруг необыкновенная тишина. Я подошел к ограждению набережной и вытянул руку. Пистолет звонко булькнул и исчез под водой. Разбежались и тут же, как память о прошлом, изгладились небольшие круги.
Блистал на другой стороне золотыми куполами собор.
У меня возникло странное ощущение, что я выиграл, а не проиграл.
Как там ответил мне гражданин С. П. Мятлик?
Счастье…
Счастье… Мир, где хочется жить…
Он, оказывается, существует.
Гена Волчок нетерпеливо вздохнул.
- Ну тогда пошли, что ли, - сказал он. – Или, может быть, ты хочешь немного тут постоять? Закрепить в памяти этот эпохальный момент?
Итог был понятен.
- Да нет, пожалуй – пошли, - сказал я.
7. Выдержки из экспертного заключения. Автор – А. М. Серов, д. ф. н., профессор кафедры аналитической философии, СПбГУ, Санкт-Петербург.
Главная трудность, на наш взгляд, заключается в том, что, несмотря на большое количество исследований, посвященных будущему, мы пока очень плохо представляем себе этот временной статус. Мы не можем аналитически определить главных его параметров, нам неизвестны закономерности трансмутации настоящего в будущее, у нас нет инструментов, могущих на этот процесс повлиять.
Между тем ситуация здесь требует специального осмысления. В свое время Макс Планк, один из отцов квантовой физики, предположил, что если наша Вселенная имеет четко фиксированное начало, то она имеет и четко определенный финал. Кауза финалис (конечная причина), так он это назвал. И абсолютно неважно, каким будет этот финал – энтропийная смерть, то есть остывание расширяющейся Вселенной, или схлопывание ее в сингулярность, за которой последует очередной Большой взрыв, или выворачивание наизнанку с образованием множества новых Вселенных (квантовых пузырей). Главное, что такой финал предстоит, и значит, все процессы, идущие в мире, ориентированы на него. А это, в свою очередь, означает, что не прошлое определяет будущее, как ранее было принято полагать, а наоборот: будущее определяет прошлое и непрерывно форматирует его под себя. Парадоксальная, но, возможно, именно потому исключительно перспективная мысль.
В этом аспекте «воображаемый Петербург» (будем пока для краткости использовать данный ярлык) может быть одним из аттракторов на пути к «конечному будущему». Аттрактор, разумеется, промежуточный, неоднозначный, эвентуальный, существующий лишь потому, что он может существовать, и тем не менее имеющий шансы воплотиться в конкретный экзистенциальный сюжет.
Говоря проще, это версия «близкого будущего», которую мы, вероятно, можем реализовать. Причем, несколько забегая вперед, укажем, что так называемый «белый туман», зримая суть времени, воспринимаемая нашим сознанием, по всей видимости, как раз и представляет собой то «онтологическое вещество», ту субстанциональную неопределенность, которая способна породить требуемый формат.
Более того, становится ясным и прикладной механизм подобной онтологизации. В координатах социальной динамики он выглядит чрезвычайно простым: чем больше людей переходит в «воображаемый Петербург», тем сильней этот аттрактор притягивает к себе наше зыбкое настоящее. Тем объемней влияние будущего на прошлое и тем устойчивей траектория, ведущая нас именно к этой версии бытия.
Иными словами: для того чтобы создать данное будущее, мы все должны этого захотеть. Или не все, но по крайней мере – пассионарное большинство. Только тогда эфемерный аттрактор станет воплощаться в реальность и только тогда может начаться необратимый транстемпоральный транзит. Не случайно ведь, судя по представленному материалу, в «будущий (воображаемый) Петербург», вероятно, перемещались лишь те, кто этого сильно хотел.
Вот в чем тут суть.
Петербург в силу метафизического статуса своего демонстрирует, каким наше будущее может быть.
Он представляет мир, который по основным параметрам явно лучше, чем наш.
И потому главный вопрос, который нам предстоит ныне решить – это готовы ли мы вырваться из оцепенелого настоящего, действительно ли мы хотим в таком будущем жить и хватит ли у нас сил, чтобы преодолеть невидимый временной горизонт?
8. Гражданин С. П. Мятлик, системный администратор. Санкт-Петербург.
В конце октября дожди прекращаются. Сползают за горизонт тучи, рассеивается мокрый туман. Проступает в небе хрупкая осенняя синева. Солнце, уже слабое, но еще источающее тепло, озаряет город, как будто прощаясь с ним навсегда. Просыхает асфальт, деревья стоят в редкой желтой листве. Мятлик встречается с Оленькой в саду на Каменноостровском проспекте. Они гуляют по песчаным дорожкам. Мама у Оленьки только что пережила очередной приступ, теперь за нее можно не волноваться несколько дней. Оленька по этому случаю оживлена, расспрашивает Мятлика, как выглядит тот, будущий Петербург. Мятлик рассказывает ей о пустынных набережных, о солнечных площадях, об удивительной тишине, лишь иногда, как рябью, подергиваемой легким шорохом шин. О людях, которые населяют его. Он, конечно, по большей части выдумывает: ведь что он там видел – всего лишь пейзаж из окна. Однако самому ему кажется, что именно так и есть.
- Я хотела бы там жить, - вздыхает Оленька.
Мятлик тоже хотел бы там жить. Но одновременно он чувствует, что без Оленьки – никуда. А у Оленьки – Лидочка, мама, тьма сросшихся жилок, которые нельзя безболезненно оборвать.
Настоящее обволакивает их, как летаргический сон. Как беспамятство, где ни жизни, ни времени нет.
Как вырваться из него?
Как проснуться?
Как из вчера и сегодня, слипшихся во что-то одно, шагнуть в близкое завтра?
Мятлик не представляет.
Между тем уже немного смеркается, и он вдруг замечает, что лицо у Оленьки вовсе не бледное, скорее наоборот. Оно как бы светится изнутри. И воздух вокруг нее тоже – как бы поблескивает роем крохотных искр.
Правда, видит это, наверное, лишь он один.
Тем не менее, это значит, что будущее все-таки существует. Оно не иллюзия, не мираж, оно – явная и предначертанная реальность.
Пусть даже пока где-то за облаками.
И оно уже просачивается сюда, оно уже здесь присутствует – ничто не может его сдержать.
Оно все равно наступит.
Оно наступит, думает он.
Оно все равно наступит.
Не так ли?..
.




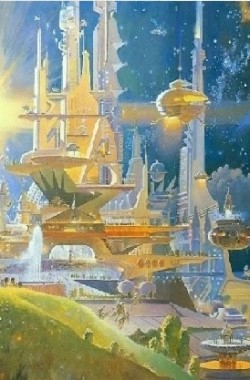

 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что