Ничего нет
К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено.
Рене Декарт
РОДИВШИЙСЯ НА ЛУГУ
Vita Cartesii est simplissima...*
P. Valеry
Турень, город Ляэ, 1596 год. Рене Декарт. Ренатус Картезий. Ре-натус: возрожденный. Вновь рожденный.
Это был хилый, нежизнеспособный ребенок, унаследовавший у матери плохие легкие и недолговечность, живший прежде всего под знаком сомнения во всем существующем. Во все поры своей жизни он только и слышал, что обречен: сначала в младенчестве, затем в детстве, затем в юности, затем в молодые годы — только в зрелости усилием воли и самодисциплиной он преодолел висевший над ним рок...
Потом скажут: сомнение в собственной жизни породили в нем сомнение во всем. Но не только плохое здоровье. Сомнение было господствующей идеологией: учась в Ля Флеш, необходимо было верить в Бога и сомневаться во всем остальном.
Нельзя сказать, что вундеркинд избежал влияний — Августин, Агриппа, Фома Аквинский, Бруно, Кампанелла, Порт, Монтень, Кальвин, Шарон, затем Бекмен, — но, вопреки влияниям, в нем всегда жило желание получать результаты самому.
Юношей, сталкиваясь с открытиями, требующими изобретательности, я стремился к тому, чтобы, не читая автора, самому попытаться прийти к ним.
Как все великие, он воспитывал себя сам.
Мессия европейского индивидуализма, он сделал в сфере духа то, что много позже Наполеон в сфере материи — поставил себя в центр мира. Но если история Наполеона это история его воли, то история Декарта целиком совпадает с историей его мысли.
Декарт по натуре не был борцом и вообще не любил конфликтов с силой. К тому же он верил в то, что свобода внутри церкви ничем не уступает свободе вне ее. Отсюда — его дуализм: субстанция тела и субстанция души, а над ними — Бог. И амбивалентность иного рода: недоверие к разуму и апология его. Сомнение во всем и выросшая из него уверенность в обладании истиной.
При всем новаторстве и критической мощи жизненными принципами Декарта были: ничего не обновлять в политике и религии, принимать решения после глубокого обдумывания, ни о чем не сожалеть, не мучиться угрызениями совести, посвятить жизнь отысканию истины. Отказываясь от невесты — мадам Розэ — он говорил: красота Истины — выше.
Декарт был совершенно новым явлением в области философии, и, в сущности, с тех пор не было подобного ему мыслителя. Конечно, он стяжал великое имя и отличался необыкновенным умом; но у вас невольно остается впечатление, что он был не только ученым, но и кем-то еще другим, кем-то совершенно неожиданным, — шевалье. Он мыслил смело и проницательно; его труды были учеными и глубокими, но совершенно очевидно, что язык его был языком светского общества. Декарт писал не для специалистов, а для любого интеллигентного человека на земле.
Поразительный факт: первому ученому характер его деятельности явился во сне.
В течение одной ночи ноября ему приснилось три сна — два кошмарных, и один вещий. «Quod sectator iter? — настойчиво спрашивал он себя в вещем сне, — каким путем я пойду?» И ответ гласил: путем науки, да, энциклопедической науки. Декарт проснулся, не зная, спал он или бодрствовал, но был вдохновлен ощущением, что у него есть определенное призвание. Это был душевный кризис, подобный тому, какой пережил Паскаль в другую ночь тридцать лет спустя.
Он был энциклопедичен. Известный более всего как математик, он внес вклад в оптику и провел обширные анатомические опыты с коровьими эмбрионами, почти вплотную приблизившись к открывшему кровообращение Гарвею. В своих взглядах на поведение он предвосхитил бихевиоризм. Однажды французский посол в Швеции Шаню задал Картезию следующий вопрос: «В силу каких причин мы часто бываем склонны любить одного человека больше другого, еще до того, как сколько-нибудь убедимся в его достоинствах?» Декарт ответил: «Предметы, влияющие на наши органы чувств, действуют через нервы на различные части мозга и образуют там как бы некоторые складки, которые затем разглаживаются. Но та часть мозга, где они образовались, остается восприимчивой к созданию складок снова, если появится аналогичный первому предмет. Например, юношей я любил девушку, у которой глаза слегка косили.
Впечатление, производимое ею в моем мозгу, когда я смотрел на ее глаза с косинкой, так прочно ассоциировалось со всеми ее другими, привлекательными для меня качествами, что спустя уже много лет, всякий раз, когда я встречал девушек с такими глазами, я больше увлекался ими, чем какими-либо другими, именно потому, что у них был этот дефект». (Эта девушка со столь милым дефектом глаз вполне могла быть настоящей прелестницей, комментирует имярек. Хотелось бы знать о ней побольше хотя бы потому, что философы, как правило, не отличаются смелостью в любви. Но, к сожалению, он не оставил нам сведений относительно глаз голландской служанки Елены Янс, которая родила ему дочь Франсину).
* * *
Современная эпоха началась в день появления картезианского Р а с с у ж д е н и я о м е т о д е. Независимо от того, нравится нам эта эпоха или нет, книгу эту необходимо прочесть, ибо это одно из чудес человеческого разума, из которого можно узнать не только все о самих себе, но и обо всем на свете. В частности, в ней очень тонко, я бы сказал законспирированно, разоблачаются авторитеты и словесные предписания, а также тот факт, что, какую бы широкую распространенность не имела идея, словами ее нельзя ни доказать, ни опровергнуть.
Как интригующе начинается этот трактат! Нам говорят, будто «здравым смыслом люди наделены лучше всего остального». Ведь всякий человек по-видимому, удовлетворен тем количеством здравого смысла, которым он обладает. Эта комбинация злой сатиры в начале предложения с иронией в конце необходима Декарту для того, чтобы одновременно высмеять схоластов и разобраться в ненадежности здравого смысла. А ненадежен он потому, что, хотя люди обладают одинаковым здравым смыслом и видят один и тот же мир, не все они пользуются одним и тем же методом исследования. На этот метод автор, хотя он и не является каким-то выдающимся человеком, к великому счастью своему, случайно натолкнулся. Он хотел бы поделиться этим своим открытием.
Что же это за метод? Этот метод — наука. А точнее — математическая наука. Наука — с ее осторожностью и ясностью, дотошностью и самоочевидностью. Отец науки был поклонником Евклида, и иллюзия самоочевидности истины почти полностью заполнила его здравый смысл. Декарт верил, что все в мире просто, взаимосвязано и логично. В достоверности математики он видел высший образец и критерий любого знания.
Возможность определения истины путем логического вывода он выразил в двух взаимодополняющих правилах — анализа и синтеза. Мы должны разделить явление на составные части и затем воссоединить эти части в соответствии с их прямым назначением. Конечной целью науки будет, таким образом, построение системы предложений, описывающих реальный мир. Чтобы исключить догматизм, Картезий предложил метод исчерпывающего изучения, сводящий на нет излюбленную во все времена хитрость оставлять без внимания как раз те факты, которые ставят под сомнение стройность системы, а также воздал должное сомнению. Для того, чтобы добыть истину, необходимо с максимально возможным скептицизмом перебрать все утверждения до тех пор, пока не будет найдено логически неопровержимое. Вы должны быть бесстрастным судьей, ваш разум — главный критерий вынесенного вами приговора.
Эта доктрина была первым гимном разуму и науке, но она была также мощным ударом по реакции и авторитетам, ставящим слово выше дела.
У предшественников Декарта — Луллия и Бруно — уже была смутная идея о применимости математики к построению метафизики, Декарт довел их идеал — дедуктивно-математическое выведение системы идей из немногих достоверных истин разума — до своего предела, очаровав Спинозу, Гоббса, Юма, Ламетри, Кондильяка, Лейбница, Гейлинкса, Канта, Гегеля, Конта и вселив в них уверенность в возможности получить безусловно-достоверную и единственную философскую истину.
Пользуясь своими правилами, Декарт надеялся найти доктрины, истинные не потому, что их поддерживал чей-то авторитет, но потому, что они со всей очевидностью соответствовали фактам.
Слава Декарта произвела большое впечатление на самую просвещенную королеву Европы, впоследствие добровольно отказавшуюся от престола. Христина пригласила его к своему двору. Туда он и отправился в сентябре 1649 года. А в феврале 1650 он был мертв. Морозной зимой Декарт ежедневно читал королеве лекции о науке и философии в ледяной час — пять часов утра. Это была слишком большая нагрузка для его дыхательной системы.
Возник спор из-за обладания его останками, королева желала сохранить их Швеции, а французский посол Шаню настаивал на передаче их Франции. Королева одержала победу, и Декарт был похоронен на кладбище для сирот, еретиков и иностранцев. Позже другой французский посол добился большего успеха. В 1666 году останки Декарта начали свой путь на родину. Но при отъезде, и еще раз во время путешествия, гроб был вскрыт.
Поклонники растащили кости Декарта, точно это были мощи святого. Череп остался в Швеции, откуда прибыл во Францию в 1822 году как дар Кювье. Сейчас он выставлен в Музее Человека между первобытными чудовищами и черепом преступника Картуша.
То, что осталось от Декарта, было похоронено в аббатстве святой Женевьевы. Во второй год революции Конвент постановил перенести его многотерпеливые останки в Пантеон, но это решение так никогда и не было выполнено. В 1819 году могила Декарта, скорее даже надгробие, а не гроб, была окончательно перенесена в церковь Сен-Жермен-де-Прэ. Там по крайней мере сохраняется память о нем. Как говорит де Сасси: Le voilа bien gardи, там он надежно охраняется.
И еще: есть какой-то дьявольский символ в том, что домик, где он некогда жил, превратили в сумасшедший дом...
COGITO ERGO SUM *
«Ум мой был далеко, и я не видел. Ум мой был далеко, и я не слышал», — так говорят, ибо лишь умом смотрят, умом видят... Поэтому даже тот, кого коснутся сзади, узнает это умом.
Упанишады
В то время как я готов мыслить, что все ложно, необходимо, чтобы я, который это мыслит, был чем-нибудь; заметив, что истина я мыслю, следовательно, я существую столь прочна и столь достоверна, что самые причудливые предположения скептиков неспособны ее поколебать, я рассудил, что могу без опасения принять ее за первый искомый мною принцип философии.
Cogito ergo sum.
А может быть, лучше так: я мыслю там, где я существую.
Или так: порой я мыслю, порой — существую.
Или: я мыслю, следовательно, страдаю.
Или: я возмущаюсь, значит, мы существуем.
Или: я чувствую, следовательно, существую.
Или: мыслю, потому что живу.
Или: не мыслю, стало быть, существую, а наоборот: существую, стало быть, мыслю.
Или: я танцую, следовательно, существую.
Или: я трачу, значит, существую.
Но все это — потом. Пока же древо философии выбросило новую ветвь.
Новую ли? Вполне ли новую? А как было у Августина Аврелия? — «Если я во всем сомневаюсь, то это все же значит, что я, сомневающийся, существую». Вот так!
Говорят: темпераментный мыслитель, он пробудил философию от тысячелетней спячки (будто ум страждущих можно усыпить!) Или еще говорят: с ним кончается эпоха веры и начинается эпоха сомнения. Сомнения во всем. (Сомнения во всем, переросшего в уверенность во всем).
Сегодня первична не мысль, а скорее надежда, ибо мысль сделала все, чтобы дискредитировать себя. Мое знание пессимистично, но моя воля и моя надежда оптимистичны, пишет сегодня гуманизм на своих знаменах. Чтобы не стать мизантропами, мы больше не обязаны выводить наши взгляды на жизнь из знания мира. Чтобы — после новейшей истории — остаться гуманистом, надо признать не первичность разума, а самой жизни: Я жизнь, которая хочет жить в среде жизни, которая хочет жить. Благоговение перед мыслью, завершив свой круг, должно уступить благоговению перед тем, что ее породило. Такова очередная утопия наших дней.
Да, cogito ergo sum недостает раблезианской полноты существования. Жизнь — вся полнота жизни, а не мысль о ней.
И все-таки его философия начинается с сомнения. Скептицизм — его метод, субъективизм — его исходная точка. Поначалу Картезий — это Джон Беркли, усомнившийся во всем, в том числе в собственном существовании. И вот он дает обет совершить паломничество в Италию для поклонения Лоретской Мадонне, если ему удастся избавиться от сомнений и открыть критерий достоверности. Его беспокойный дух не дает ему покоя — отсюда все его метания и последнее из них — бегство к Христине, стоившее ему жизни.
Существую ли я? Нахожусь ли я в этой комнате? Как будто бы да, но вчера, когда я спал в другом месте, мне приснилось, что я был здесь. Я также знаю о существовании галлюцинаций, миражей, видений, призраков, иллюзий. Я знаю, каким пылким бывает воображение. Не воображение ли я и все это?
Я пересчитываю стороны квадрата. Их всегда четыре. Но, возможно, высшая сила каждый раз вынуждает меня ошибаться. Возможно, все вещи — только иллюзии, а все идеи — только ловушки для моего легковерия.
И все же, есть ли что-то такое, в чем я не могу сомневаться? Да, есть. —
Cogito ergo sum.
Почему это так очевидно? Потому что это ясно и отчетливо, потому что в этом усомниться уже нельзя. Я могу усомниться в существовании своего тела, к тому же его трудно познать, душа же моя — вот она, она прозрачна, она ясна, она отчетлива. Я слушаю ее. Я мыслю, следовательно, существую.
Я не вижу прохожих на улице, я вижу только их шляпы, но у меня есть разум, он, а не глаза, подсказывает мне — они там. Благодаря одной только способности суждения, находящейся в моем духе, я понимаю то, что мне казалось, будто бы я вижу глазами.
Я — субстанция, которая мыслит, ее сущность — мышление. Мышление первично. Все, что я вижу, я вижу, прежде всего, умом. Но существует ли то, что я вижу умом? Да, существует: все вещи, которые я воспринимаю умом ясно и отчетливо, — истинны. Но все же мой скептицизм не позволяет мне уверовать в это очертя голову. Убедиться в этом окончательно я могу, доказав существование Бога. Это сделать нетрудно, схоластика имеет много таких доказательств. Для пущей убедительности я добавлю еще несколько. Теперь, когда доказательства получены, все просто: раз Бог существует и раз Он Всеблагой, Он не станет меня обманывать, внушая существование несуществующего. Он мудр, и даже если бы я ошибался, Он образумил бы меня и помог исправить ошибки. Итак, все, что мы представляем себе ясно и отчетливо — истинно.
Истинно — сомнений в этом больше нет.
Да, в нем все еще живет схоласт, недаром он выходец из Ла Флеш! Открыватель новой эпохи обеими ногами стоит в старой.
Для Декарта сомнение не принцип скептицизма, а технологический прием ума — питательный раствор для кристаллизации истины. Сомнение не самоцель, а метод познания, критицизм разума, способ выявления недостоверности. — Рационализм, вырастающий из скептицизма.
Скептицизм и идеал математической строгости — две стороны одной и той же черты разума: стремления достичь непоколебимой истины, в существовании которой больше нет сомнений...
У Декарта уже содержится идея, развитая затем Кантом, правда с противоположным результатом: возможность достоверного знания есть вопрос о существовании априорных суждений, каковым является cogito ergo sum или же ideae clarae et distinctae — отчетливая, ясная идея.
Итак, Декарт определил познание как самоочевидность. Позже Гегель и Дьюи дадут две другие дефиниции. Одна определяет знание как способ устранения различия между посылками и заключением, другая — как веру, сулящую успех. Согласно Гегелю, истинна лишь одна из множества вер, согласно Джону Дьюи истинность множественна и определяется степенью ее пользы.
Основатель рационализма Нового времени, Рене Декарт считал, что главной предпосылкой познания является уверенность человека в своей способности к познанию и что такая уверенность зиждется на адекватности «физического» или «математического» разума структуре и организации реального мира: «Всякое разумное высказывание должно быть верным описанием фактов». Это и есть суть рационализма, подытоженного гегелевской формулой «все разумное действительно», которая подводит итог картезианству.
Поскольку плоды нашего сознания адекватны структуре бытия, постольку единственным требованием, предъявляемым к нашим идеям, должна быть их «ясность и отчетливость» (надежность и самоочевидность). Позже Кант преобразует декартовские определения: идеи должны быть априорно истинными и синтетическими.
Отожествив сознание и бытие, Р.Декарт обратил сознание на самое себя, сделав предметом анализа идеи «Я». По словам Ортеги, начиная с Декарта, с его «cogito ergo sum», человек остался без мира.
Амбивалентность формулы Декарта — в совмещении логоцентризма с душецентризмом. С одной стороны, декартовское «cogito» положено в основу рационализма и применимо для всеобщего, обшезначимого. С другой стороны, Декарт представляет сознание как самосознание: новизна «cogito ergo sum» — в соотнесенности «объективного» и представляющего, взятие человеком на себя меры всего, что им осознается.
Картезианский человек — мера всех вещей в смысле его намерения снять все ограничения с представления ради обеспечения последним самому себе достоверности, заключает М.Хайдеггер.
Анализируя формулу Р.Декарта, Мартин Хайдеггер пришел к выводу, что «ergo» в ней означает отнюдь не «следовательно», а «этим подразумевается»: «мыслю, этим подразумевается, существую». Иными словами, расхожая интерпретация максимы как логического вывода, умозаключения — неверна. По Хайдеггеру, все, что хотел сказать Декарт, это: «Я — мыслящая вещь».
Объявив человека «мыслящей вещью», Декарт полагал, что в сознании наличествуют врожденные «зачатки истины», платоновские «врожденные идеи», непосредственные данные о целом:
Мне кажется, что я этим способом нашел небеса, звезды, Землю, а на Земле — воду, воздух, огонь, минералы и другие подобные вещи, и при этом я не заметил там ничего такого, чего я не мог бы удовлетворительно объяснить найденными мною сущностями.
Декарту принадлежит «принцип очевидности», согласно которому «вещи, постигаемые нами вполне ясно и отчетливо, — истинны». Этот принцип не совпадает, как часто трактуется, с принципом объективности, ибо фактически единственной достоверностью оказывается содержание нашего сознания, вера Декарта в истину, которая открывается нам сама по себе по причине адекватности сознания бытию. Позже подобными соображениями будет руководствоваться Э.Гуссерль в своей феноменологии, «науке об истинных началах», а некоторые современные философы и психологи введут в оборот понятие космогалактического кода, задающего «поле сознания» с изначально вложенными в него понятиями пространства, времени, причинности, свободы, познаваемости мира.
Четвертое картезианское правило для руководства ума гласит: «Необходим метод, чтобы напасть на след истины сущего и идти по этому следу». «Напасть на след истины» для Декарта значило «схватить» суть. Вопреки расхожему представлению о картезианском логоцентризме, Декарт считал, что простейшее нельзя сделать более ясным путем логических построений: «таким путем самопонятное можно сделать лишь более темным». Согласно картезианской традиции, к истинному знанию приводят исходные ясные и отчетливые идеи и последующая дедукция, «сверх которых ум не должен допускать ничего». Сам Декарт — при всей своей воле к истине — абсолютно верил в дискурсивность мышления и возможность построения науки как дедуктивной системы, а также в собственную способность вывести «принципы и первопричины всего того, что есть или может быть».
Как рационалисту, Декарту ничего не оставалось, как верить в непоколебимую достоверность «ясных» идей, ибо «если нет оснований, то можно доказать все». Иными словами, великую тайну знания — чисто человеческий выбор отправных идей — Декарт возвел в естественную способность человеческого ума.
Макс Шелер узрел главную ошибку картезианской картины мира в отсутствии в ней жизни, в подмене полноты бытия мыслящими точками, присутствующими в гигантской мировой машине. Кстати, знаменитые паскалевские слова «вечное безмолвие этих бесконечных пространств страшит меня» — явная реакция на коперниковскую революцию, философски осмысленную Декартом.
Другая ошибка, на которую обратил внимание Г.Райл, назвавший это «призраком духа в машине», — наделение функционального сознания, предназначенного для уяснения и интеллектуальной деятельности, категориальным статусом или субстанциональностью.
Скептицизм Декарта не подсказал ему, что критерий достоверности неплохо дополнить принципом осторожности: ведь ясными могут быть и фантастические идеи, и галлюцинации, — скажем, Жанны Д’Арк или Мартина Лютера, — и вожделения, понуждающие всех вождей во все времена принимать желаемое за действительное. Не потому ли отец математики так часто и так легко изменял ей? Не потому ли он сам был ослеплен светом собственного разума — не просто доминирующего над его чувствами, но полностью заменяющего их? Не отсюда ли его механистичность и принятие на веру слишком многих недостоверностей под влиянием идеи абсолютно достоверной истины.
Вот ведь как: сама наука развивается не так, как предписано ее отцом. От простого к сложному — это только нулевой этап, ибо нельзя хорошо описать простое иначе, как после углубленного изучения сложного. Но дело не только в сложности этой взаимосвязи, где обычно под внешностью очевидного и простого кроется парадоксальное и замысловатое, дело в отсутствии универсального, в парадигмальной и личностной структуре плюрального знания, о котором речь впереди.
Картезианский метод редуктивен, но никоим образом не индуктивен. Такая редукция искажает анализ и накладывает путы на экстенсивное развитие мышления... Картезианский метод хорошо подходит для того, чтобы эксплицировать мир, но не достигает того, чтобы усложнить опыт, что является действительной функцией мышления.
Научный прогресс связан не столько с универсальным сомнением Декарта, сколько с рискующим и дерзающим мышлением, ищущим и находящим свои собственные, «безумные» идеи. Критичность необходима, но не созидательна. Созидательна смелость. «Человек, судьба которого состоит в том, чтобы действительно заложить основания науки, должен рисковать всей своей репутацией». Надо крушить, ломать, верить — создавать теории вопреки декартовской очевидности и «чистоте» видения.
В сомнении Декарта наши усматривали метод обретения истины. Но сомнение Декарта гораздо глубже: это воистину экзистенциальное сомнение, присущее западному менталитету, а не прямая дорога к однозначности, свойственная не терпящему сомнения восточному. Описывая в конце первого «метафизического размышления» замысел предельного сомнения, доходящего до того, что предполагается, будто не благой Бог, а какой-то злой обманщик нарочно водит человека за нос, Декарт говорит о сомнении:
Эта затея тяжелая и трудная, и какая-то леность вовлекает меня незаметно в ход моей привычной жизни, и подобно тому, как раб, наслаждающийся во сне воображаемой свободой, боится пробудиться, когда начинает подозревать, что его свобода — только сон, и содействует этим приятным иллюзиям, чтобы быть подольше обольщенным, так точно и я страшусь пробудиться от дремоты из боязни, что трудовое бдение, которое последует за этим покоем, вместо того, чтобы внести какой-нибудь свет в познание истины, не будет достаточно даже и для освещения всего мрака затруднений, о которых только что была речь.
Комментарий:
Как видим, именно в сомнении, в предельном и радикальном сомнении Декарт видит не только собственную форму мышления, но и экзистенциальную задачу, едва ли не исполнение евангельского завета: «Бди и бодрствуй, ибо Бог придет, яко тать в ночи».
Может быть, истина и существует только в этом пламени, только в глубинной экзистенциальной тревоге, в трудном бодрствовании изначального философского изумления, сомнения, вопрошания, — в том начале, в котором не только впервые начинается философия, но которым она постоянно держится и возрождается?
Вера и знание уживались в его сознании без антагонизма диалектической эпохи: он представлял им возможность самостоятельно устанавливать границы своей компетенции, и видел в одной средство для утверждения другого. Известно, что кардинал Берулле побудил отца науки использовать знание для укрепления веры, что тот и сделал в форме доказательства бытия Божьего математическим путем, на века опередив нашу «единственно верную науку» в доказательстве противного. Суть «доказательства» Декарта сводится к существованию в уме врожденной идеи Бога...
...Эта идея, будучи весьма ясной и отчетливой, содержит в себе больше объективной реальности, чем всякая иная, и нет ни одной идеи, которая сама по себе была бы более истинна и менее могла быть заподозрена во лжи или заблуждении.
Мы любим представлять Декарта борцом, материалистом и революционером, но, как все великие, он традиционалист, если хотите, вождь идеализма нового времени. Даже Воэций не решался заподозрить его в атеизме. Да и как возможно это в отношении человека, для которого религия — основа мировоззрения, этики, жизни. Бог требовался ему как существо, неимоверно превосходящее человека масштабом своих творческих возможностей. Для Декарта Бог — великий геометр, его существование столь же достоверно, «сколь достоверно геометрическое доказательство».
Бог Декарта — перводвигатель, толчок. Задав миру движение, Он в сущности, более не нужен. После Бога Декарта следует Бог Спинозы. Впрочем, идеи последнего уже содержатся у первого: «Под природой, пишет Картезий, я понимаю не что иное, как самого Бога, или порядок и расположение, установленное Богом в сотворенных вещах».
Рассматривая человека как res cogitans, то есть как мыслящую вещь, Декарт, в сущности, выносил Бога за пределы жизни мира — разновидность натурализма, против которого направлена экзистенциальная философия, это порождение «несчастного сознания».
Итак, вклад Декарта в философию состоит из метода критического сомнения и предпочтения мыслей внешним объектам. С него начинается новая жизнь двух миров — духа и материи,— не пересекающихся ни в одной точке. Дух не приводит в движение тело, тело не вызывает движения духа — таков картезианский вклад в «основной вопрос философии».
Впрочем, в разделении субстанций на Мышление, Материю и Бога можно усмотреть некую плюрализацию бытия, достигшую кульминации в М о н а д о л о г и и Лейбница, этой великолепной иллюстрации неповторимости элементов бытия. Нет, не только платоновский идеализм достигает здесь своей высшей точки — это принципиально новое начало: мир состоит из невзаимодействующих монад, развивающихся таким образом, что все происходящее в любой момент во мне имеет сходство с происходящим в вас. Когда вы думаете, что вы двигаете вашей рукой, я думаю, что я вижу, как вы это делаете, — обманываемся же мы оба.
Картезианская метафизика, представляющая физику в виде геометрии и мир в виде часового механизма, в котором божественный толчок являлся единственной причиной движения, ход которого больше ни от чего не зависел и был предопределен навечно, явно тормозила развитие научных теорий, подобных ньютоновской гравитации, дальнодействие которой также не вписывалось в картезианскую механику.
С прямо противоположных позиций Ньютона критиковал Лейбниц. В дискуссии между Лейбницем и Кларком, представлявшим в споре взгляды Ньютона, Лейбниц упрекал творца небесной механики в том, что его представление об универсуме предполагает периодическое вмешательство Бога в устройство мироздания с целью улучшения функционирования последнего. По мнению Лейбница, Ньютон недостаточно почитал Бога, поскольку искусность Верховного Творца у него оказывалась ниже даже искусности часовщика, способного раз и навсегда сообщить своему механизму движение и заставить его работать без дополнительных переделок.
Лейбницевские представления об универсуме одержали победу над ньютонианскими. Лейбниц апеллировал к всеведению вездесущего Бога, которому вовсе нет никакой нужды специально обращать свое внимание на Землю. И он верил при этом, что наука когда-нибудь достигнет такого же всеведения — ученый приблизится к знанию, равному божественному. Для божественного же знания нет различия между прошлым и будущим, ибо все присутствует во всеведущем разуме. Время, о этой точки зрения, элиминируется неизбежно, и сам факт его исключения становится свидетельством того, что человек приблизился к квазибожественному знанию.
Лейбница, Декарта и Ньютона объединяет гораздо большее, чем разъединяет: все они, идеологи классической науки, абсолютизировали детерминизм, исключали историчность знания и не оставляли — при всем своем новаторстве — места новациям, случайностям, нестабильностям, невоспроизводимости как таковой.
Развенчивая картезианскую «чистоту видения», интеллектуальную «ясность» и «четкость», Паскаль констатировал существование множества вещей и явлений, в силу своей сложности, разнообразия или неповторимости не поддающихся прояснению или логическому анализу. В первую очередь это относится к самому человеческому сознанию, ибо именно природе человека присущи утонченность, обильность, разнообразие, непостоянство. Математическая ясность никогда не станет мерилом человеческим, а сам человек никогда не обратится в геометрический постулат. У человека нет простого или однородного бытия. Человек неоднозначен и парадоксален. Вполне в духе бл. Августина Паскаль считал, что грехопадение лишило человека божественной чистоты, извратило разум и волю. Ему не дано даже «познать самого себя», как о том твердили Сократ, Эпиктет и Марк Аврелий.
Знай же, обуянный гордыней, что и сам ты — сплошной парадокс. Смири себя, немощный разум, умолкни, неразумная природа, помни, что Бог бесконечно превосходит человека, и услышь от Творца своего о своем действительном положении, тебе покамест неведомом. Слушай Бога.
Говоря на современном языке, абсолютизация плодов сознания и дискурсивность мышления отделяли их от бесконечного разнообразия и бесконечной изменчивости бытия, существования, человеческих проявлений. «Ясному» видению Декарта явно не хватало «полифонии», «полицентризма», синкретического охвата. По словам Г.Марселя, картезианскому «cogito» недоставало человеческой экзистенциальности, первичной по отношению к любому интеллектуальному акту.
Хотя по мнению Хайдеггера и Мунье, Декарт не умалял сложности человеческого существования и видел в мышлении движение, процесс, связь, наследование, обогащение, тем не менее именно с картезианского « cogito» берет начало порочное разделение целостной реальности на субъект и объект, разрыв человека на тело и душу (Декарту принадлежит образ души, повелевающей телом, как кормчий — кораблем). Контраверза «идеального» и «материального» — из аристотелевской абстракции превращается в реальную угрозу.
Картезианская альтернатива, противопоставление тела и души, протяженной и мыслящей вещи, легла в основу противоестественного расчленения человеческого на две противостоящие, враждующие между собой части. По мнению Уайтхеда, такого рода вивисекция имела своим катастрофическим последствием не только механицизм, но и аморализм — освобождение науки от этических ценностей, покорение природы и непрекращающуюся экспансию разума в негативном смысле этого слова. Расчленение познания (наука — тело, философия и теология — душа) — тоже следствие картезианства, выстроенного на принципе противопоставления, а не единства.
Декарт положил начало, Гегель, Фихте и Маркс завершили трагический процесс секуляризации разума, его отделения от целостного духовного мира человека. Философия Декарта, Гегеля, Фихте, Маркса — апофеоз не разума, а утопии, химеры, примитивного и насильственного мировидения приведшего к тоталитарным реалиям XX века.
Разделив человеческое бытие на протяженную (объект) и мыслящую (субъект) вещь, Декарт поместил сознание-субъект, увлекаемое волей к истине-власти, в центр мира, и с этого времени метафизика стала надолго заложницей «рационализма». В человеческом видении мира, по словам Хайдеггера, скрестились два процесса, два превращения — мира в картину и человека в субъект. Субъект-разум поставил мир-картину пред собой и тем самым превратил в манипулируемый с помощью разума объект. Подростковый эгоцентризм картезианской метафизики заключался в отношении к миру как предмету манипуляций. Вначале человек «представляет себя в качестве репрезента сущего, которому все сущее себя являет», а затем выступает в качестве конкистадора, захватчика явленного. Со времен Декарта это отношение субъекта и мира остается неизменным.
Отождествив истину с достоверностью и положив дедукцию в основу бесконечного постижения сущего, рационализм дал толчок неконтролируемой и самопожирающей экспансии «плодов просвещения» — тому процессу о котором мудрец рек: «Трудящееся животное оставлено дышать угаром своих достижений, чтобы оно растерзало само себя и уничтожилось в ничтожное ничто». Рациональность вытеснила разумность...
Воля к воле добивается — и это основная форма ее проявления — всеобщего расчета и упорядочения, но только ради безусловной возможности продолжать обеспечение самой себя.
Далекому от рационализма и склонному к экстатическому восприятию Ницше приписывают крайне иррациональную доктрину «воли к власти». Между тем, именно Ницше впервые уловил в картезианской воле к истине эту волю к господству: «То, что мы мыслим, «истинно» лишь постольку, поскольку служит поддержанию воли к власти. У самого Декарта сказано еще определенней: «Знание сделает нас хозяевами и обладателями природы».
* * *
Мы с Веруламцем дополняем друг друга. Мои советы могут служить для общего объяснения Вселенной, его же — позволяют уточнить детали посредством необходимых опытов.
Р. Декарт
Это — очень разные люди по характеру, мировосприятию, человеческим качествам, идеям. Один — болезненный, мнительный, осторожный, медлительный, другой — сильный, здоровый, бесстрашный, уверенный, спешащий. Один влюблен в поэзию, другой — во власть и политику. Один приятный и привлекательный, другой — беспощадный. Для одного наука —Универсальная Математика, дедукция, логика par excellence. Для другого — индукция, накопление фактов, обилие чувств.
Ничто не доходит до нашего ума от внешних объектов через органы чувств, кроме определенных телесных движений, но даже эти движения и образы, которые из них проистекают, мыслятся нами не в той форме, которую они принимают в органах чувств. Отсюда следует, что представления об этих движениях и образах являются сами по себе врожденными для нас. Тем более врожденными должны быть идеи боли, цвета, звука и им подобные, раз наш ум может, в случае определенных телесных движений, обозревать эти идеи, поскольку они не имеют сходства с этими телесными движениями.
Декарт считал, что опыт может дать достоверное знание лишь в отношении самого простого, далее необходимы интуиция и логика — сита, через которые надлежит просеивать факты и правила.
Если его поиски бесконечной эмпирии можно назвать веруламскими, то в постоянных повторяемых попытках вернуться к себе, в развитии его оригинальности и продуктивности обнаруживается счастливый им противовес. Ему надоедает задавать и решать математические проблемы, так как он видит, что при этом ничего не получается. Можно сказать, что он не останавливается спокойно и с любовью на предметах, чтобы кое-что от них заполучить. Он с какой-то поспешностью набрасывается на них как на разрешимые проблемы и подходит к вещи большей частью со стороны самого сложного явления.
Впрочем, в одном они едины: как у фрэнсиса Бэкона, цель картезианского метода — практика, замена умозрительной философии на практическую, утилитарную, необходимую для всевозможных применений с целью сделаться хозяевами жизни и господами природы. Оба так прямо и говорят: не наслаждение, а практическая польза, не пользование, а захват.
Впрочем, рационализм и механицизм Картезия преувеличены, как и материализм Гоббса.
Его упрекали в материализме, атеизме и рационализме. Но это очень часто сознательная ложь, неправильное понимание... Кто написал третью главу De cive, о христианском мученичестве, не мог быть в тайниках своей души атеистом. Но он не был и материалистом.
Декарт не столько рационалист, сколько исследователь границ разума. Его бесконечность лежит по ту сторону умопостигаемого. А вот механицизм Декарта усиливался в ходе Просвещения. Ламетри, взяв у него бихевиористскую по духу идею об автоматическом характере поведения, сделал шаг назад, объявив человека — машиной (чего не было и не могло быть у Декарта, основной идеей которого являлся антагонизм тела и души, противоположность их свойств).
ПРАВИЛА ДЛЯ РУКОВОДСТВА УМА
Декарту было одно великое призвание — начать науку и дать ей начало.
А. И. Герцен
Без Декарта современный мир был бы невозможен.
М. Хайдеггер
Картезианство называют портом приписки всей современной науки. Разделив алгебру и геометрию, он подготовил их объединение на единой основе: отождествил движение в символах и движение в образах, продемонстрировал их эквивалентность. Декарт создал теорию кровообращения, открыл рефлекс как основной акт нервной системы, создал учение о зависимости психических состояний от физиологического статуса организма. В медицинской школе Бургава в Лейдене произведения Декарта ценились как классика. Впрочем, дело даже не в том, что он создал алгебраический метод, аналитическую геометрию, психофизиологию, лингвистику или другие науки, дело — в м е т о д е.
Но прежде чем рассказать о нем, одно замечание.
Мы пытаемся представить науку как детище Ренессанса и Просвещения. Но наука вышла из Средневековья — и не только из Луллия, а из его экспериментирования и его схоластики, если хотите. Схоластика тоже шла к математизации и, не говоря о логике, которую она лелеяла, математические аргументы — рационэс математикэ — получали все большее распространение в монашеских диспутах. Хотя Декарт искал новый идеальный образ мира, не тождественный ни платоновским эйдосам, ни «слову» схоластов, его м е т о д все же вырастал из схоластики — из школы Ла Флеш, из самого средневекового строя мышления, из антитетической логики, основанной на сомнении, запрете, «нет». Из этих «анти», сквозь горнило запрета и сомнения выкристаллизовывалось очень маленькое поначалу «да».
Учителя внушили ему, что сомнение — самое надежное орудие ума. И он довел сомнение до крайних границ, до исчерпания всего скептического, до своей противоположности и, наконец, из сомнения во всем, из самой сомневающейся компоненты мышления пришел к м е т о д у — поиску знания путем отрицаний и отказов.
Дитя схоластики, ниспровергшее ее.
Итак, сомнение, затем акт интуиции — ясного понимания простейшего, аксиоматика, затем выведение из достоверно известного неизвестного, дедукция — и на каждом этапе анализа постоянное возвращение к началам с целью их проверки и все более углубленного понимания.
Как же Декарт отделяет ясное от темного? Не будем перечислять все 21 правило, приведем лишь четыре картезианских выжимки из них:
1. Принимать за истину то, что с очевидностью познается как таковое.
2. Дробить каждую трудность на столько частей, сколько только возможно, чтобы ее разрешить.
3. Начинать с простейшего и легчайшего и двигаться к сложному.
4. Делать обзоры столь полные, чтобы ничего не было упущено.
Создавая м е т о д, он интересуется не только его логикой, но и собой — познающим. Предметом исследования становится не только внешний мир, но и мир внутренний: страсти, пороки, нравы — связь ума и страстей. Существенным моментом истины становится самосознание.
Рассмотрев себя ближе и исследовав, каковы мои заблуждения, я нахожу, что они зависят от взаимодействия двух причин, именно — познавательной способности, существующей во мне, и способности выбирать, то есть от моего разума и вместе с тем от моей воли.
Идя дальше, он обнаруживает соотношение того и иного, а также способ самообуздания.
Воля, будучи более обширной, чем ум, не удерживается мной в границах, но распространяется также на вещи, которых я не постигаю.
Каждый раз, когда я настолько удерживаю свою волю в границах моего знания, что она составляет свои суждения лишь о вещах, представляемых ей разумом ясно и отчетливо, я не в состоянии ошибиться.
Находясь у истоков рационализма, Декарт вовсе не уповает на один рассудок. Обдумывая метод, составляя правила для руководства ума, в качестве отправной точки он всегда берет самодостоверный интеллектуальный акт, или интуицию —
... простое и отчетливое... прочное понятие ясного и внимательного ума, порождаемое лишь естественным светом разума и благодаря своей простоте более достоверное, чем сама дедукция.
Впрочем, интуиция интуиции рознь. Интуиция Декарта всецело интеллектуальна, дискурсивна, аксиоматична — не мистическое откровение или божественный свет, а свет разума прежде всего. Она — не логика, но предлогика, исходная, отправная ее точка. Но как бы там ни было, даже в рационализме Картезия еще бьется пульс средневекового откровения — интуитивные понятия отражают наиболее глубокие сущности природы.
Провозглашая вслед за Августином приоритет внутреннего опыта, он прямо указывает на интуицию как на основное орудие знания, ставя дедукцию в зависимости от нее и выдвигая на первый план принцип непосредственной самодостоверности существующего «я». Затем Бергсон подхватит и усилит созидательный порыв «врожденных идей» Декарта и одухотворит интуицией формализм Канта.
Интуиция Спинозы куда ближе к бергсоновой, чем интуиция Картезия. Для мудреца из Суверкерка интуиция суть целостность: всеобщий охват духом грандиозной природы, ее познание sub specie aeternitatis — с точки зрения вечности. В самой природе, утверждает Божественнейший, существует intellectus unfinitus, бесконечный разум, познающий абсолютно. Это ему принадлежат великие идеи, кладущие начало откровению.
Максимально достоверное знание, пишет Спиноза, упреждая Полани, мы добываем не извне, а из глубины собственного духа — из того единства, которым дух связан со всей природой, то есть с Богом. Впрочем, и здесь — перекличка интуиции Спинозы с «зачатками истины» Декарта:
Принятое мною правило — считать что вещи, которые мы воспринимаем весьма ясно и отчетливо, истинны — убедительно потому, что есть Бог, что Он существо совершенное и что все, чем мы обладаем, происходит от Него. Отсюда следует, что наши идеи, представляя собой нечто реальное, исходящее от Бога, поскольку они ясны и отчетливы, могут быть во всем этом только истинными.
Чем все это отличается от теории врожденных идей — припоминания мальчика из М е н о н а, черпающего знание в самом себе?
А когда истина сущего всегда находится у нас в душе, то не бессмертна ли душа, так что, не зная теперь, то есть не припомнив чего-нибудь, ты должен смело решиться исследовать и припоминать.
Ведь так как в природе все имеет сродство и душа знала все вещи, то ничто не препятствует ей, припомнив только одно, — а такое припоминание люди именуют наукой, — отыскивать и прочее, лишь бы человек был мужественен и не утомлялся исследованиями.
Беда в том, что, закладывая основы универсальной и абсолютной математики, Декарт так и не использовал в полной мере это орудие. Мало того, учением о полной субъективности чувств он настолько принизил значение внешней интуиции, что дал повод усомниться в важности интуиции внутренней.
Ум можно расчеловечить, интуицию — нельзя. Интуиция — понятие экзистенциальное.
При всем великолепии и аподиктичности, необходимой для знания, его интуиция была направлена на «мыслю», а не на «существую». Поэтому развитое рационализмом cogito в конечном итоге отторгло человека от мира и овеществило его самого. Обратившись к внутреннему миру человека, cogito низвело субъект познания до уровня объекта, превратив человека в инструмент логического анализа и сведя бесконечность взаимосвязей cogito и sum к голым схемам. Сегодняшняя цивилизация во многом результат этого «достижения» теории познания: отчуждения человека от множественности своего существования ради того, чтобы «застичь» себя мыслящим. Ведь можно было остаться мыслящим, не делая себя объектом и тем самым не отчуждаясь от полноты бытия. Не потому ли этот путь привел к нам?
Конечно, можно привести множество возражений и среди них одно — «непробиваемое»: высший судья у Декарта не разум, а опыт:
...Так как Бог может распределять их (частицы) бесконечно различными способами, то какие из этих способов им избраны, мы можем постичь одним только опытным путем, а не в силу рассуждения. Вот почему мы вольны предположить любые способы, лишь бы все вытекающее из них вполне согласовалось с опытом.
Но опыт — другая крайность рационализма, ибо знание суть не опыт, но магия: озаренность, вдохновение, одержимость, подвижничество, и если все-таки опыт, то не показания стрелок на приборах, но волшебство все тех же мыслительных процессов, о которых так радел отец науки.
Великие мысли чаще встречаются в произведениях поэтов, чем в трудах философов. Это потому, что поэты пишут, движимые вдохновением. Зародыши знания имеются в нас наподобие огня в кремне (!). Философы культивируют их с помощью разума, поэты же разжигают их посредством воображения, так что они воспламеняются скорее.
И все же — при всем богатстве и разнообразии картезианских идей, при всех личных достижениях и открытиях Декарта — он исходил из того, что мир прост. Этот принцип неплох для логики, теряющей без него всякий смысл, но вряд ли приемлем в философии, хотя бы потому, что ее главным инструментом является язык со всеми его неясными, неотчетливыми, неоднозначными и неточными понятиями.
Понятия, будучи вербальной деятельностью сложных организмов в сложном социальном и естественном окружении, неизбежно оказываются неоднозначными. Объединять и упрощать наши понятия — значит искажать их.
Декарт не верил, что в живом есть нечто, выходящее за пределы автомата, и считал возможным рассчитывать поведение на основе тех же принципов, какие управляют машиной или камнем.
Если бы мы хорошо знали, что представляют собой все части семени любого вида животных, то из этого одного можно было бы вывести на основании чисто математических и совершенно достоверных доказательств всю фигуру и строение каждой его части; и обратно, при знании некоторых особенностей этого строения из него можно вывести, что представляет собой семя.
В нем настораживает прогрессирующая тяга к единой системе и опасная тенденция видеть все предыдущее развитие культуры лишь предысторией к себе самому. Собственно История начинается с Его Н а ч а л — основания для законченного свода философии, который предстоит дать человечеству. Конечно, оговаривается Декарт, он вряд ли сможет осуществить это гигантское мероприятие в одиночку, но завершение стройки — дело техники.
Он еще оговаривался, наши демиурги уже не сомневались...
Кстати, именно Декарту принадлежит фраза, брошенная Кирилловым в Б е с а х: «Если нет Бога, то я Бог». В самом знаменитом своем произведении, задаваясь в ходе рассуждений вопросом, как быть, если нет Бога, Картезий приходит к заключению, что единственным решением проблемы «человек — мир» в отсутствие Бога является: «Je suis Dieu» — «Я — Бог».
Если до Декарта признаком достоверности была древность, то после него апология прошлого уступила самовосхвалению настоящего и обожествлению грядущего. Все взоры теперь обратились в будущее, а на смену традиции пришло гордое пренебрежение ко всему канувшему в Лету.
Когда Паскаль воскликнул: «Я не могу простить Декарту!» — он имел в виду именно то зло, которое Декарт причинил философии, заменив учение Аристотеля своим учением. Лашелье прав: торжество в XVIII веке материализма без эпитета — дело рук Ре-натуса.
Будто бы вдруг ослепнув и напрочь забыв античное «вижу и одобряю лучшее, а следую худшему», Декарт совсем в духе Сократа или Гельвеция уверовал в тождество знания и добродетели: правильно судить — значит хорошо поступать.
Картезианство, скажет Бейль, — не более чем остроумная гипотеза, она как и вся философия недостоверна. Нет ни одного учения, которое бы открыло целиком истину, и никогда не будет — столь глубок замысел Господен.
Он несколько раз заново писал свою книгу о Методе, и в том виде, как она сейчас лежит перед нами, она все же ничуть не может помочь нам. Каждый добросовестный исследователь должен когда-нибудь изменить свой метод.
Уже во времена Картезия и не без его помощи мудрость стала слишком скучной. Он остро чувствовал это и потому философствовал очень мало часов в год. Зато находил отдохновение в живой сократической беседе, делающей мудрость привлекательной.
Подведем итоги.
Для Декарта порядок связей в сознании и в мире вещей — один. Познавая внешний мир, человек как бы познает и собственное сознание, познающее мир. При этом тот и другой порядки — просты, ясны и самоочевидны. В сущности это означало свести мир к операциям, к образцовым порядкам чистого разума.
Познание вначале членило, структурировало мир, а затем предписывало этим кускам разумные законы.
Разделяй и властвуй — это не только принцип политики, это принцип рационализированного сознания: сначала разделяй мир, затем навязывай частям свою возведенную в абсолют волю.
Нет, я не против научного метода — чем был бы современный мир без науки? — я против единственности. Трудно быть однозначным в суждении, точнее в осуждении всех непредсказуемых последствий, вытекающих из великой идеи. Но надо отдавать себе отчет в том, что любое упрощение мира — научное или антинаучное, рациональное или мистическое — ведет к утрате множества измерений, а в социальной сфере — к экстремизму и тоталитарности, то есть к нам.
В «ясном и очевидном» таится глубоко скрытая опасность: утрата качества, различия, множественности, обилия. Объявив мир количественным и геометрическим, Декарт ставил под сомнение и утрачивал мир качественный и непосредственный, хаотический и спонтанный, непредсказуемый и случайный. Мир, который мы видим, ощущаем и ценим, привлекает не количеством, а многообразием — собственным и наших точек зрения на него. Этот-то мир и остался за скобками геометрической философии Возрожденного.
Начиная с Декарта, западный человек остался без мира, подвел итог Ортега. Декарт — отправная точка того рационалистического мышления, которое в конце концов привело Фихте и Канта к идеалистическому ограничению мира субъектом и Мавра к упразднению последнего.
Отщепив человека от мира, сделав его полностью автономным, Декарт и привел homo sapiens в то состояние заброшенности, в котором двести лет спустя обнаружил человека Киркегор. Обратив сознание на cogito, Декарт не только положил начало дурной традиции рационализированного фантазирования, приведшей к подлинному идеализму, но оторвал человека от мира, отделил субъективность от объективности, разгородил колючей проволокой человека и его естество.
Если для античности «я» было частью космоса, а для Средневековья — частью Бога, то для Просвещения «я» стало универсумом, всем. С тех пор человек все больше отделяется от целого, погружается в себя, создавая свой внутренний мир — все сильнее отгораживается от внешнего, все дольше остается наедине с собой, со своим одиночеством. Да, это так: завоевывая «реальность субъективности», мы все больше лишаем себя реального мира, рвем свои связи с ним. Отсюда — трагедия «разорванного сознания».
Став на великую дорогу открытия новых суверенных миров, мышление Просвещения завело философию и человека в тупик.
Сегодня перед философией и человеком встала противоположная задача: возвратить человека в мир, восстановить эту нарушенную цельность.
Разрешима ли она?..
Мне представляется, что я мыслю;
мне представляется, что я существую;
я мыслю — следовательно, существую,
хотя в голове — ни единой мысли.
Эта идея, имеющая сходство
с основным положением
философа Декарта,
пришла мне в голову,
когда я однажды
сидел за столом
и резался в карты...
Из 10-томника И.И.Гарина "Мудрость веков". Цитирования и примечания указаны в тексте тома.





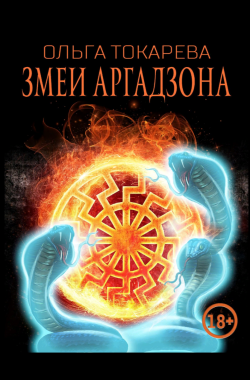

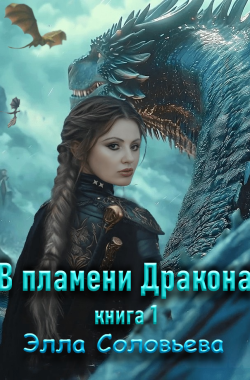



 ЛитСовет
Только что
ЛитСовет
Только что


Комментарии отсутствуют
К сожалению, пока ещё никто не написал ни одного комментария. Будьте первым!